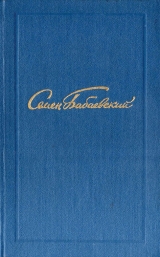
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 1"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 45 страниц)
Алексей Артамашов переступил порог своего дома, увидел испуганный взгляд жены, остановился в дверях и, как бы раздумывая, входить или не входить, сказал:
– Теперь все. Тутариновы докопали.
Не раздеваясь и не снимая сапог, он лег на кровать животом и сильно, до боли и рези, сжал влажные веки. Ему не хотелось думать о том, что случилось с ним в эту ночь; стыдно и больно было вспоминать, как ушел он, понурив голову и чувствуя на себе злые и враждебные взгляды, а вслед ему кто-то насмешливо крикнул: «Доигрался, Алексей!» Ему хотелось забыться, а в ушах звучали голоса и перед глазами стоял сухой и сутулый Тимофей Ильич Тутаринов с гневным лицом.
…За день до этого Алексей Артамашов узнал, что вопрос о нем будет решаться не на бюро райкома, а на партийном собрании. Артамашов обрадовался: тогда ему показалось, что именно на собрании, да еще и на закрытом, где будут присутствовать семь коммунистов, которых он хорошо знал, легче доказать свою невиновность.
«Конечно, Кондратьев человек хороший, не то что Тутаринов, – думал он, готовясь к собранию. – Правильно поступил Кондратьев, мы все вместе работали и вместе должны обсудить свои ошибки».
– Желая одного – сохранить партийный билет, – Артамашов согласен был получить выговор, выслушать резкую критику. Еще задолго до собрания он думал, кто же из коммунистов будет его главным противником и кто из них станет голосовать за исключение из партии.
«Допустим, Еременко, – рассуждал он. – Но кто такой Еременко? Он виноват не меньше меня. Знаю, будет горячиться, будет критиковать, но руку не подымет. Еще кто? Доярка Прохорова? На язык она, правда, злая, но разве я мало ей добра делал? Пусть и она покритикует. Соломатин? Этот ничего плохого обо мне не скажет. За него я поручался, когда он вступал в партию. Еще Семен Гончаренко. Человек он у нас новый, может, конечно, выступить резко, но он парень славный».
Артамашов перебирал в памяти всех коммунистов и пришел к выводу, что бояться ему особенно нечего.
«Выкручусь, – думал он. – Надо только заранее продумать выступление. Возьму слово и скажу: «Да, товарищи, я виноват, я признаю свою ошибку перед вами и прошу». Нет, зачем же просить? Такое начало не годится. Не следует одному брать на себя вину и признавать ошибки, когда виноваты все».
Он сел за стол, открыл ученическую тетрадь и начал писать. «Меня обвиняют». Задумался, зачеркнул написанное, торопливо закурил и, положив дымящуюся папиросу, написал: «Вы не меня обвиняйте, а себя». Эта фраза показалась ему настолько веской и убедительной, что он уже видел смущенные, виновато покрасневшие лица Еременко, Прохоровой, Соломатина. Тут он еще сильнее почувствовал уверенность в своей правоте, просидел за столом всю ночь и написал пространную, на двенадцати страницах, речь.
Утром легко расхаживал по комнате, читал написанное вслух жене, которая грустно смотрела на него и только качала головой.
Днем Артамашов выучил наизусть первую фразу своей речи, которая после переделки начиналась так: «Да, товарищи, я слушал вас и удивлялся. Вы говорите, что виноват один Артамашов, я же считаю, что виноваты мы все, и вам надо обвинять не меня, а себя». А вечером, окончательно убедившись, что речь написана сильно и убедительно, Артамашов в хорошем настроении пошел на собрание. Но как только он увидел освещенные окна правления, толпившихся там людей – и в большой комнате, где обычно проходили собрания, и в темном коридоре, и во дворе, – как только он услышал оживленные голоса, смех, по телу его пробежала неприятная дрожь – такое ощущение, точно ему надо было прыгать в бушующую воду.
«Да что же это такое? – подумал он. – С ума сошел Еременко? На закрытое собрание созвал всю станицу? Это что же, суд надо мною думают учинить?»
Мимо него, направляясь во двор, проходили колхозники, о чем-то разговаривали, курили, шутили и смеялись. Артамашов тоже пошел во двор и уже не мог вспомнить ни одного слова из своей написанной речи. Ему вдруг стало жарко, на спине выступил холодный пот. Артамашов силился припомнить хотя бы начальную фразу своего выступления, а в голову лезли мысли:
«Зачем эти люди здесь? Это что ж, посмешище надо мной? Это Тутаринов распорядился».
Он расстегнул шинель, остановился у калитки, хотел успокоиться, а потом войти, но волнение, похожее на страх, охватило его еще сильнее.
Сбив на лоб кубанку, Артамашов в своих мягких сапожках быстрыми и решительными шагами прошел по темному коридору и споткнулся на пороге.
– Не к добру, Алексей, спотыкаешься, – услышал он голос Тимофея Ильича Тутаринова.
Не отвечая, Артамашов теми же быстрыми шагами вошел в комнату так, как обычно входил он, когда его дожидались члены правления и актив, ни с кем не поздоровался и ни на кого не посмотрел, делая вид, что занят важными мыслями. В комнате стоял приглушенный говор, и Артамашов искоса посмотрел в угол и увидел в темноте Тимофея Ильича. Лицо старика показалось ему страшным. Седые, низко опущенные усы шевелились, а взгляд был мрачный – сурово висли клочковатые брови. Артамашов отвернулся. Все тело его горело, особенно голова, из-под кубанки на лоб выступила испарина. Он снял кубанку, вытер лоб, еще ниже наклонил голову, а взгляд старика Тутаринова точно притягивал к себе, какая-то сила заставляла еще раз взглянуть в темный угол.
Чтобы не поддаться этой силе, Артамашов подошел к лампе, развернул тетрадку и стал читать, но гневное лицо Тимофея Ильича стояло перед глазами, и от этого он ничего не мог понять из написанного. Тогда он подошел к Еременко, который сидел за столом и просматривал какие-то бумаги.
– Иван, что же это такое? – шепотом сказал он, тяжело склонившись на стол. – Зачем открытое собрание?
– По указанию райкома, – не отрываясь от дела, ответил Еременко.
– Знаю. Это Тутариновы судить меня думают.
Артамашов увидел входивших в комнату Сергея и Семена. Стараясь не попадаться им на глаза, он отошел в угол и долго, точно о чем-то думая, сидел с опущенной головой. А когда началось собрание и в президиум были избраны Семен Гончаренко и Прохорова, Артамашов поднял голову, хотел посмотреть на Семена, но снова увидел Тимофея Ильича, который все так же смотрел на него суровыми, блестевшими в темноте глазами.
«Радуешься, чертов дед», – зло подумал Артамашов и опять стал смотреть в тетрадку, а видел мрачно-гневное лицо старика Тутаринова. «Исключат», – мелькнула мысль, и он, стараясь ни о чем не думать и не смотреть в угол, начал слушать доклад Еременко.
И вот теперь, с тяжелой головой, ослабевший, Артамашов лежал на кровати и не мог ни пошевелиться, ни выпрямить онемевшую руку. К нему подходила жена и то наклонялась, то гладила рукой его волосы, то что-то говорила, а он не слышал ни ее шагов, ни ее голоса. Ему хотелось забыться, уснуть, а сознание уносило его опять туда же, в людную и шумную комнату. Он слышал голоса ораторов, мысленно повторял то, что говорили они о нем, смешивал их слова со своими, спорил, возражал, – мысли его путались, а потом снова прояснялись. Болело сердце, и он сжимал кулаки. Вспоминал, как стоял у стола, положив перед собой тетрадку, и, отыскивая заученную фразу, до боли в пальцах сжимал его края. А когда поднял голову и увидел молчаливо-строгие лица и в темном углу блестевшие глаза Тимофея Ильича, руки его разжались, и то, что так старательно было вписано им в тетрадку, показалось и смешным и обидным. Он скомкал тетрадь и, ни на кого не глядя, стал говорить.
Лежа на кровати, он заново, слово в слово, припомнил свое выступление, и ему казалось, что надо было сказать что-то другое, а что именно было это другое – и теперь не мог придумать. Мысли его напрягались, а в ушах все так же грозно звенели голоса: «Ты до позора нас довел!» «Кто же это сказал? Кажется, Прохорова. Нет, не она. Ну, кто же это сказал? Прохорова. Конечно, Прохорова. Так вот какая, моя лучшая доярка».
Он как бы очнулся, ощутил горячую и влажную подушку, боль в локте, услышал голос жены, которая просила, чтобы он разделся, а в голове точно кто-то выстукивал молоточком: «Ты до позора нас довел, до позора, до позора». И он снова был в той же комнате, видел, как члены партии подняли руки и стало тихо-тихо. И кажется Артамашову, что лежит он в своей комнате, только почему-то не на кровати, а на полу. Будто бы наступило утро, входит Тимофей Ильич и подает руку. Теперь лицо его с седыми, закопченными табаком усами доброе, по-отцовски ласковое. «Алеша, – заговорил он, – не меня ты обидел, а людей наших. Люди тебе дали власть, они тебе верили, а ты что сделал? Подвел, обманул. Забыл, что с людьми и ты человек, а вот без них – кто ты? Да никто. А теперь мучаешься? Иди, Алексей, опять к людям. Одному, без людей, жить неможно. Будешь с нами работать в поле, и вот хорошенько узнаешь». Старик не договорил, а Артамашову так хотелось услышать, что же он там, в поле, узнал бы. Он хотел спросить, но вместо Тимофея Ильича почему-то перед ним стоял Стефан Петрович Рагулин и зло усмехался. «Побили тебя – и поделом! Только тебя этим не исправишь, я твою натуру хорошо знаю, избаловался, зажирел. Если б была моя власть над тобой, запряг бы я тебя в работу да погонял бы».
Артамашов вздрогнул и со стоном поднял голову. Лежавшая на диване жена проснулась. В окна пробивался ранний рассвет.
– Лена, – позвал он жену, – собери мне в дорогу. Я пойду к Кондратьеву.
– Да ты хоть поешь. Я сейчас затоплю печь.
Артамашов ничего не сказал, устало подошел к рукомойнику и стал умываться.
Утро было пасмурное. С поля дул слабый ветер. Выйдя из станицы, Артамашов направился через огороды, мимо водокачки. Он неожиданно остановился, услышав идущий от реки стук колес, звон железа, глухой, роем гудящий говор. «Ты людей наших обидел», – вспомнил он слова Тимофея Ильича, которые он слышал не то во сне, не то наяву. «Ты людей наших обидел», – не выходило у него из головы, и он, еще не понимая, откуда доносится этот мощный и странный шум, торопливо взбежал на пригорок.
Отсюда хорошо был виден лагерь строителей, лежавший, как хутора, по берегу Кубани. Чуть подальше – множество людей рыли землю, растянувшись малыми и большими группами. Вся трасса будущего канала двигалась, жила своей напряженной и шумной жизнью, – в сером утреннем свете блестели лопаты, кирки, взлетали вверх, как шапки, комья земли, ехали и пустые, и груженные землей подводы в конной и бычьей упряжках. Артамашов почувствовал, как по телу его пробежала зябкая дрожь. Он низко наклонил голову и быстрыми шагами пошел по дороге.
Далеко от станицы, когда вокруг стало тихо и слышался лишь убаюкивающий, слабый шум обмелевшей реки, Артамашов поднял голову. Перед ним открывалась степь, мокрая и холодная, с сухими будыльями лебеды, с желтыми, совсем голыми кустами «заячьего холодка».
«Буду просить работу, – думал он, ускоряя шаг. – Никуда не уеду. Тут я рос, тут и останусь. А что ж я буду делать, какую дадут мне работу?»
Он шел и долго думал, вспоминая, как когда-то пахал, сеял, ухаживал за быками, косил сено, подавал снопы на молотилку, – вся его жизнь от ранней юности до вчерашнего собрания в каком-то новом освещении встала перед ним.
«Да я же все умею делать, – как бы оправдываясь перед самим собой, подумал он и снова увидел лицо Тимофея Ильича. «Иди, Алексей, к людям. Без людей жить неможно». Надо послушаться. Но что же это было? Во сне ли я видел старика или это приходила ко мне моя совесть?»
Вдали, за Кубанью, на глиняном карнизе, виднелась Рощенская.
Глава XVIIIНа улице чуть заметно белел снег. Сергей в восьмом часу вечера вышел из исполкома и направился домой. Только что закончилось совещание агрономов, и после долгого сидения за столом у Сергея ломило в пояснице. Он шел неторопливо, ему приятно было дышать холодным воздухом. Ночь была тихая и темная. Сергей подымал голову, чувствуя, как крупные пушинки садились ему на ресницы и на брови. У дома, где он снимал квартиру, стояло дерево в пышном белом одеянии. Сергей подбежал к нему, с разбегу потряс руками, и снег комьями повалился ему на плечи, на голову, посыпался за воротник. В снегу, с раскрасневшимся лицом он появился на пороге сеней. К нему со свечой и с веником вышла хозяйка.
– Тетя Паша, – обратился Сергей, – принесла библиотекарша книги?
– Была одна с книгами, – отвечала тетя Паша, сметая с Сергея снег, – а другая пришла без книг и вот тебя ждет.
– Кто такая?
Сергей вошел в кухню и увидел стоявшую возле горевшей печи дочь Лукерьи Ильинишны.
– Лена? Ты какими судьбами?
– А такими. Захотела прийти и пришла. – Она смутилась, заметив суровый взгляд Сергея. – Нет, я шучу. Разве можно к тебе приходить без дела? У меня даже два дела. – Ее красивое лицо разрумянилось, и она посмотрела на Сергея лукавыми, заблестевшими глазами.
– Говори.
– Петр Несмашный, муж Глаши, просил книжки. Ты ему обещал?
– Да, да, обещал, – сказал Сергей. – Зайдем в мою комнату, что-нибудь подберу. Тетя Паша, зажгите лампу.
В комнате Сергея было прохладно. Два окна, выходившие на улицу, запорошены снегом. Тетя Паша поставила на стол лампу и вышла. Лена остановилась у стола. На ней было узкое, по фигуре сшитое платье из светло-серого кашемира с длинными рукавами и высоким закрытым воротником.
– Посиди, Лена, – сказал Сергей, просматривая лежавшие на столе книги, – сейчас я что-нибудь найду.
– Ну, как там поживает твоя мать, как идут дела у Глаши?
– Мать дома, а Глаша с колхозом уехала на канал, – отвечала Лена. – Петро Несмашный тоже на канале.
– Вот эту книжку передай ему. Михаил Иванович Калинин: «О воспитании молодежи».
– Интересная? А мне можно прочитать?
– Желательно. – Сергей закурил папиросу. – Еще что у тебя ко мне?
– Была я на курсах, а Остроухов меня не принимает, – сказала Лена, блестя глазами. – Тут, говорит, учатся только члены колхоза.
– Ну, ничего, – участливо заговорил Сергей. – Напишу Савве записку, и ты будешь учиться.
Сергей написал карандашом несколько слов, сложил лист вчетверо и передал его Лене.
– Теперь все?
– Нет, я еще хочу спросить. – Лена посмотрела на Сергея покорными глазами. – Отчего ты такой гордый?
– Вопрос этот, как говорят, не по существу, – со смехом ответил Сергей.
– А ты не смейся. – Она и сама рассмеялась. – Боишься, как бы какая дура не влюбилась? Ты умышленно не замечаешь красивых женщин и этим гордишься. Вот, мол, какой я. А разве можно тебя полюбить, такого?
– А разве нельзя?
– Я – нет, не смогла бы. – Лена встала. – Ну, я пойду. Она протянула руку. – У тебя есть девушка?
– Есть, и какая она славная…
– А я не хочу знать, – перебила Лена. – Проводи меня. Я остановилась у подруги. Здесь близко: третий дом от вашего.
Они шли молча по глубокому и пушистому снегу. У ворот остановились. Сергей пожал ее озябшую руку и сказал:
– Лена, а сердиться не надо.
Лена молча ушла в калитку.
В это время в дом тети Паши вошел Кондратьев в высоких валенках, в шапке-ушанке и в шубе со сборками на поясе.
– С зимой вас, Прасковья Семеновна, – сказал он, снимая рукавицы. – Квартирант дома?
– Посетительницу пошел провожать. Хотите чаю, Николай Петрович?
– Чайку давай.
Кондратьев разделся и пошел в комнату Сергея, а тетя Паша следом за ним понесла чайник. Вскоре вернулся и Сергей.
– Оказывается, ты посетителей не только принимаешь, но и провожаешь? – спросил Кондратьев, сощурив глаза.
– Приходится.
– Вот что, Сергей. Завтра я еду на пленум крайкома. На пленуме один вопрос: проведение выборов. Да, кстати, утвердил вчера на исполкоме состав участковых избирательных комиссий?
– Все сделано, и с редактором договорились: будут напечатаны на отдельной листовке.
– А новые сметы изб-читален утвердил?
– Не успел.
– Вот это плохо. Новый год не за горами. А как идет вывозка сена из нагорных пастбищ? С подножными кормами надо распрощаться.
– Сено завезено. Сам проверял.
Кондратьев позвенел ложечкой в стакане.
– Возьми карандаш и запиши, чтобы не забыть, – сказал он. – Не позднее как завтра утверди новую смету изб-читален, чтобы они с нового года уже не влачили такое жалкое существование. Записал? Заодно утверди расходы на культурно-массовую работу по проведению выборов. Скажи заврайфо, чтобы не скупился. Записал? На этой неделе надо созвать совещание чабанов и заведующих овцеводческими фермами. Число назначишь вместо с работниками райзо. В январе нам необходимо провести семинар бригадиров специально по подъему урожая пшеницы. Поручи агрономам составить программу. Семинар проведем в колхозе имени Буденного – там у нас получен самый высокий урожай. Руководителем назначишь Стефана Петровича Рагулина – ему в этом оркестре принадлежит первая скрипка. Ты понимаешь, в чем тут суть дела? К Рагулину мы пошлем людей на выучку. Записал? Почему ты не заслушал до сих пор на исполкоме отчет прокурора? Пусть он доложит, как у нас идет борьба с нарушителями колхозного устава. Непременно заслушай. А то мы говорим об этом много, а дела пока мало. Я не считаю Усть-Невинскую. А что делается в других станицах?.. Теперь вот еще что. Посмотри сам, как живут строители в Усть-Невинской: есть ли баня, тепло ли в хатах, как готовится пища. Поторопи кровельщиков, чтобы на этой неделе гидростанция была с крышей. Заодно – будешь в Усть-Невинской – проведи собрание в колхозе имени Ворошилова. Надо нам там кончать дело, затянули. Пусть изберут новое правление. Председателем рекомендуй Никиту Мальцева. Люди ему доверяют. Я с ним разговаривал. Парень энергичный. Пусть на работе растет. – Кондратьев задумался. – И еще запиши: из ЦК получено письмо – необходимо срочно выслать материалы о передовых людях колхоза, получивших в этом году высокие урожаи. Я посмотрел наши данные: бедны мы такими людьми. Из председателей подходит один Рагулин.
– Бригадиров и колхозников будет больше, – сказал Сергей. – В «Светлом пути» есть двое – Лукерья Коломейцева и Глаша Несмашная. Правда, Глаша теперь уже председатель.
– Словом, это весьма важная работа.
Кондратьев допил чай, отодвинул стакан и, жмуря повеселевшие глаза, сказал:
– Утром был у меня Артамашов. Часа два беседовали мы с ним по душам. Всю жизнь свою рассказал, – видно, многое он передумал и перечувствовал. Да, молодой, а не той дорогой пошел, и, если говорить по-честному, мы в этом тоже виноваты: вовремя не поправили.
– Но нас же тогда не было?
– Нас не было, были другие, – это все равно. Но ничего, человек из него еще будет.
– Рассказывал, как его на партийном собрании отчитывали?
– И об этом говорил, и о твоем отце, и о Рагулине.
– Небось просил, чтобы райком заступился?
– Нет. Он же знает, что мы утвердим решение общего собрания. – Кондратьев задумался. – Важно другое: я увидел в нем перемену. Он просил дать ему физическую работу. А знаешь, что я ему посоветовал? Пойти в бригаду.
– А он что? Согласился?
Да. Только вот что: будешь в Усть-Невинской – поговори с новыми членами правления, чтобы они отнеслись к этому серьезно, без шуточек. Понимаешь? Многим покажется смешным и странным: вчерашний председатель работает рядовым колхозником. А с этим шутить нельзя. Еременко тоже скажи. Пусть дадут Артамашову возможность показать себя на деле. Человеку надо помочь.
Разговор продолжался еще долго, и если бы посмотреть на них со стороны, то можно было бы принять Кондратьева за отца, седого и рассудительного, который с чисто отцовской любовью учит своего сына, как ему надо жить.
Собираясь уходить, Кондратьев спросил:
– Сергей, что там у тебя вышло в Усть-Невинской с девушкой из птицеводческой фермы?
– Ты и это знаешь?
– В том-то и беда, что не знаю. А хочу знать.
Сергей угостил Кондратьева папиросой, усадил на тахту, сам сел рядом и, волнуясь, рассказал все: и как он встретил Ирину, по его словам, необыкновенной красоты девушку, и как влюбился в нее, и как в станице кто-то по злобе наговорил ей.
– А она девушка гордая, – добавил он, но ничего не сказал о том, как они расстались на поле вблизи фермы.
– Я гожусь тебе в отцы, – проговорил Кондратьев, – и ты послушай моего совета: если Ирина тебе так нравится и ты ее по-настоящему любишь – женись. И конец всем разговорам. А чего ждать?
– У меня и было твердое намерение, а вот теперь не знаю.
Сергей недоговорил и с грустью, как провинившийся подросток, посмотрел на Кондратьева. А Кондратьев молчал, и только суровый его взгляд точно говорил:
«Так вот оно что. Как же это так?»
Глава XIXС наступлением зимы Кубань обмелела еще сильнее, но не замерзала. Вблизи Усть-Невинской, в том месте, где чернел след будущего канала, река неслась по-летнему шумно, гоня шереш – мелкую кашицу льда.
«…Шуми, гордись, Кубань, пока люди молча роют землю, пока лежит рядом с тобой еще мелкое и узкое русло. Мчись своей дорогой, пока еще не преградили тебе путь! Но уже скоро, скоро в этом месте встанет плотина, подымутся твои воды и пойдут по новому руслу. Вот она, твоя новая дорога, чернеет на снегу, усыпанная землекопами!»
Так думал Сергей, стоя на берегу за станицей и глядя на Кубань. Все ему было здесь так привычно и знакомо! Все здесь с детских лет исхожено и изъезжено. Много раз, бывало, ходил он по берегу, много раз мерял дно, когда купался, много раз плавал на лодке, когда ездил с отцом за рыбой. Вот и та каменная круча, мрачная, под цвет кизяковой золы, источенная ветрами. На эту кручу приходили станичные парни и подростки купаться, и вся галдящая ватага с разбегу, как лягушата, бросалась в реку. Потом ребята гуськом плыли по течению километров пять, мимо станицы, а на берегу стояли девушки и махали платочками. Среди них была и Соня, и Сергей видел тогда ее смеющееся лицо.
Давно, давно отшумели эти радостные дни! Теперь от кручи берет свое начало будущий канал, там же, наискось, встанет плотина, и вода взойдет на берег. А в том месте, где лежит низина и блестит на солнце высокий веер водокачки, в обход плантаций деда Тутаринова уже идет ров, бугорками лежит свежая насыпь щебня и суглинка. Из ложбины дует холодный ветер. Над согнутыми спинами подымается пар, и блестят, как клинки, добела отшлифованные землей кирки и лопаты.
По реке несется шум голосов, покрикивание на лошадей, скрежет железа о камни, грохот колес. Взад и вперед катятся то бычьи, то конные упряжки, рядом бегут погонычи, подпрыгивая и взмахивая кнутами; по дощатому настилу идут люди с носилками, груженными землей; молодые парни в одних рубашках, с красными до черноты лицами валят ломами глыбу земли величиной с добрую печь; два подростка тянут шнур, а за ними идет мужчина в брезентовом плаще поверх шубы, с книгой под мышкой; мальчуганы втыкают в рыхлую землю дротяные палочки и тянут шнур дальше; движется вереница быков – пар шесть, запряженных цугом, – они тянут однолемешный плуг; на чапигах висят два плечистых дядька, плуг врывается в голышеватую землю и с треском роет борозду глубиной по колено.
Посмотришь издали, канал будто разрезает вдоль берега заснеженный пригорок. Масса людей, лошадей, быков, бричек копошится и движется туда-сюда; в сторонке от трассы лагерями расположились станицы. Они разделены и разграничены – каждая занимает свой участок и на трассе и на стоянке. Вот хозяева берега – устьневинцы. Лагерь у них устроен не так, как у соседей. У устьневинцев, например, нет ни котлов для варки пищи, ни каких-либо подсобных строений, вроде наскоро устроенных столовых, – люди питаются дома. Стоит лишь будочка, сколоченная из досок, похожая на собачью конуру, – с одним окном и с отростком железной трубы над дверями. Это контора начальника усть-невинского участка Ивана Атаманова. В будке постоянно находится его учетчица – молоденькая девушка с густыми россыпями веснушек на носу и на щеках. Здесь ночью хранятся инструменты, сюда изредка забегает и Атаманов, принося веснушчатой учетчице сведения, записанные на клочке бумаги. Иногда заходят отогреться и Семен Гончаренко в своей длиннополой шинели, и Иван Родионов в бурке с замызганными концами. Над крышей конторки на коротком древке висит флажок, раздуваемый ветром.
По соседству с устьневинцами – участок родниковцев. Здесь бросается в глаза обилие построек, – кажется, будто вся станица снялась и переехала на новое место и зажила тут не хуже, чем в горах. И в этом не было ничего удивительного, ибо родниковцы – люди трудолюбивые, обживчивые, за много лет привыкли все делать сообща и поэтому в одну неделю не только освоились с новым местом, но успели обстроиться так, точно они уже и не собирались отсюда уезжать. По указанию Родионова – не в далеком прошлом кавалерийского командира – лагерь был раскинут по военному образцу: все пять колхозов, как полки, встали в ряд по берегу, и каждый колхоз обзавелся всем необходимым – кухнями, складами, кузнями, ремонтными мастерскими, кладовыми, сараями для скота и даже столовыми. Не прошло и двух недель, как на том месте, где остановились родниковцы, выросли небольшие хутора: тут стояли и столовые – обычные сараи из плетней, обставленные камышовыми матами; тут и продолговатые землянки, похожие на дзоты, – только в них стояли не пушки и ящики со снарядами, а бочки солений, и лежали освежеванные бараньи туши, мешки с мукой и пшеном; тут и наскоро устроенные кузни с ворохами хумаринского угля; тут и стойла для коров, и временные базы, и конюшни, и овчарни, и свинарники, и курятники. А ко всем этим постройкам прилепились то балаганчики, то скирдушки сена, то стожки соломы, то воз дров или куча кукурузных будыльев…
Всем обширным лагерем пяти колхозов, где по утрам мычали коровы и горланили петухи, так же как и в станице, руководил Никита Никитич Андриянов. Старик много бегал из хозяйства в хозяйство, кричал на завхозов, на поварих, суетился и отчаянно мерз.
Как-то раз он пришел погреться в главную контору. За столом, вблизи раскаленной докрасна железной печки, сидел Иван Родионов. Бурка у него была накинута на плечи. Старик подсел к печке и, потирая перед огнем руки, сказал:
– А что, Иван, мы тут, кажись, не плохо обстроились, так что и голосовать до дому не поедем. Агитпункт для всего нашего лагеря я уже выделил – там, где столовая «Красного маяка», помещение обширное.
Старик подсел к Родионову. Ему хотелось узнать, кого же будут в Родниковской выдвигать кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР; и он заговорил о предстоящем голосовании:
– Ездить в станицу, как я полагаю, – только зазря время тратить. Агитпункт есть, кабины тоже сделаем.
– Агитпункт, Никита Никитич, и здесь дело нужное, а голосовать все же поедом домой, – сказал Родионов, не отрываясь от дела. – Я недавно был в станице. Ты бы посмотрел, какие там у нас участки – один в правлении и два в школах.
– А ты ненароком не слыхал, за кого мы нынче будем голосовать?
– Люди поговаривают об одном очень близком нам человеке.
Никита Никитич еще немного посидел возле печки, отогрелся, сказал, что ему надо пойти по делу к соседям, и вышел.
«Ежели люди говорят, то это не зря, – думал он. – Вот только бы знать – кого?»
Никита Никитич был самолюбив, и ему хотелось посмотреть, как живут, как устроились его соседи. Старик проходил по лагерям соседних станиц, ко всему присматривался. И хотя не хуже родниковцев обжились и обстроились беломечетенцы, краснокаменцы, рощенцы, яманджалгинцы, а также хуторские колхозы «Светлый путь», «Новая жизнь», «Пролетарская воля», а Никите Никитичу казалось, что все здесь было хуже, чем у него.
Вдоль трассы канала стояли хутора с землянками и скирдами сена, с кузнями и погребами, а все-таки, по определению Никиты Никитича, это были не такие хутора и не такие землянки, как у родниковцев, были у соседей и свои столовые – да не так просторны, как у родниковцев, были свои поварихи – женщины тоже проворные в работе, а вот таких белых передников, как у родниковских, у них не было, борщ они заправляли не толченым салом, а жареным. Были и свои кузни – от зари до зари сочился сквозь крышу пахучий дымок, а только наковальни там пели не так звонко, как у родниковцев, и кузнецы там были молодые, безбородые. У соседей по вечерам играли гармонисты, возвращаясь в станицу на ночлег, землекопы пели хором. И хотя пели и играли они хорошо, Никите Никитичу казалось, что все ж таки у родниковцев певцы и гармонисты куда лучше. Да что там говорить! По уверению Никиты Никитича Андриянова, «дажеть кочеты у родниковцев куда красивейше горланят, нежели в любом прочем колхозном лагере».
Попробуй доказать ему обратное!
С той поры как на берег Кубани со всего района приехали землекопы, устьневинцам пришлось здорово потесниться – не было ни одного двора, где бы ни стояли квартиранты. Сюда съехались двадцать три колхоза. По подсчету Саввы Остроухова, численность населения Усть-Невинской увеличилась больше чем вдвое. Улицы стали людные и шумные, как в городе, а с наступлением вечера жизнь в станице била ключом. Гости и хозяева жили хоть и тесно, но дружно, без ссор, – по справедливости надо сказать: так умеют жить только наши люди.
На третий день после приезда повелись знакомства. Женщины и мужчины из трех-четырех станиц собирались по вечерам в одной хате на посиделки, и это как нельзя лучше сближало и роднило людей. Тут можно было и поговорить о своем колхозе, и расспросить, как в других колхозах с урожаем, сколько выдано зерна на трудодни, много ли ферм и есть ли племенной скот. Тут же читали газеты, делились текущими новостями, возникали разговоры о хозяйстве, о весне, о выборах. Приветливая хозяйка ставила на стол жаровню гарбузовых семечек, поджаренных так искусно, что крупные, величиной с орех, зерна сами выскакивали из подпаленной коричневой скорлупы…
Но семечки – пустая забава, и она всем быстро наскучивала. Тогда женщины затягивали песню. К высоким голосам подстраивались басы, то еще не смелые, чуть слышные, то ревущие. Без песни и вечер не вечер! К песельникам приходила молодежь с гармошкой, и тогда начинались пляски. Эх, и до чего ж любят на Кубани потанцевать! Только заиграет гармонь, и уже никто не чувствует усталости, ширится, растет круг, гремит под ногами земля, будто и не ворочали весь день кирками и лопатами.
Особенно хорошее настроение было у парней и девушек. Их собралось на строительстве немало, и скучать им было некогда. Так же как и на работу, они выходили на гулянье станицами, со своими гармонистами, танцорами и запевалами. Часто родниковцы вместе с устьневинцами приходили на другой край станицы в гости к беломечетенцам, а рощенцы – тоже с хозяевами – шли к яманджалгинцам. И сходились они на такие гулянья и затем, чтобы познакомиться и потанцевать, а более всего, конечно, затем, чтобы посмотреть, хороши ли собой у соседей парни и есть ли у них красивые девушки. Как на счастье, в ту пору стояли тихие и лунные ночи, на крышах, на плетнях лежал снег, – светло как днем, – и было не трудно и показать себя и посмотреть других. Молодые люди быстро перезнакомились и подружились. Не прошло и месяца, а гулянки уже не делились на станицы. Все смешалось, перепуталось, все были свои – не стало ни хозяев, ни гостей, и каждую ночь залитая лунным светом станица оглашалась песнями и веселым девичьим смехом.








