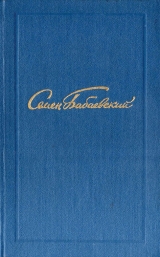
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 1"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 45 страниц)
Сергей безвыездно находился в поле, и то напряжение в труде, которое он видел изо дня в день, почему-то напоминало ему фронт. Может, это происходило оттого, что и здесь, как на фронте, рождались, вырастали способные вожаки – люди волевые и стойкие. Сергея радовала и активность строителей, и то, что всюду – и на полях и в станицах – маячили столбы, а на станичных площадях вырастали трансформаторные подстанции, и то, что приближался заветный день – пуск гидростанции, а особенно что за эти месяцы, постоянно живя с людьми, он узнал их так, как бы не мог в обычной обстановке узнать и за год.
Часто вспоминая свои военные годы, Сергей рядом с фронтовыми друзьями ставил Стефана Петровича Рагулина, Прохора Ненашева, Глашу Несмашную, Савву Остроухова, Ивана Родионова, Никиту Мальцева, – да разве мало еще кого! Но сколько он об этом ни думал, а сказать себе не мог: кто же – старые или новые друзья – теперь ему дороже, кто же из них помог ему стать тем, кем он стал. Лишь одно было очевидным: как там, на фронте, так и здесь, в своем районе, Сергей видел себя всего лишь маленькой и неотделимой частицей большого коллектива, и интересы людей там и здесь, вся их трудная и напряженная жизнь с ее радостями и печалями были и его интересами и его жизнью.
«Что сталось бы со мной, – думал он, – если бы все было иначе, если бы выпала мне другая дорога?»
Прошел апрель, и наступил май. В нарядную зелень приоделась степь, запестрела цветами, зазвенела птичьими голосами. Всюду, куда ни взгляни, поля были одинаково красочны и ярки, и только в тех местах, где пролегала электрическая магистраль, вид их сделался необычно новым. Если раньше какая-нибудь степная балка Куркульчиха была обычной сенокосной балкой и славилась лишь густотой трав да заросшим осокой родником, то теперь эту Куркульчиху нельзя было узнать. И причиной тому было то, что совсем нежданно сюда пришли столбы-великаны, встали в ряд и сказали: «Вот так мы и будем стоять здесь вечно!» И оттого, что через всю балку тянулись провода, а от столбов на пышной траве лежала тень, Куркульчиха, казалось, расширилась и зазеленела пуще прежнего. Кто бы тут ни проезжал, кто бы ни проходил, всякий остановится и скажет: «Вот тебе и Куркульская балка! Погляди ты на нее, как преобразилась!»
Или взять, к примеру, гравийную дорогу, стрелой убегающую от Рощенской до Белой Мечети. Давным-давно перекинулась она через всю степь; сколько по ней прошумело машин и прогремело подвод, и никто, бывало, не останавливался на бугре. Теперь же вдоль дороги протянулась линия электрических проводов: по одну и по другую сторону стояли высоченные столбы, как буквы «П», – вид степи и сама дорога казались такими новыми, что каждый невольно восклицал: «Так вот какая картина!»
Самые значительные перемены произошли вблизи Усть-Невинской. В низине, под кручей, пламенем горела цинковая крыша хорошо всем знакомого кирпичного здания с серой водонапорной трубой, с белыми и желтыми гроздьями изоляторов. От этого здания во все стороны разбежались столбы, горя на солнце проводами, – как нити к узелку, тянулись они к этой пламенно-яркой крыше, а сама Усть-Невинская теперь казалась не станицей, а городом.
Как-то в эти дни Тимофей Ильич Тутаринов, взойдя на гору (он ходил в соседний хутор к своему куму), присел на камень и долго не сводил глаз со станицы.
– Вся в проводах, – задумчиво проговорил он. – И кто мог подумать, что такое чудо может совершиться с Усть-Невинской? Непривычно, а все ж таки красиво! А что будет, когда засветятся огни? – Старик задумался. – Только что-то они долго не светятся.
Да, беспокойство Тимофея Ильича было не напрасным. Прошел и май, а пуск станции все откладывался и откладывался. Только в середине июня работы наконец были завершены. И в тот день, когда строители уже мыли руки и собирались ехать в станицы, а Сергей в хорошем настроении спешил в Рощенскую, чтобы посоветоваться с Кондратьевым и установить точную дату пуска гидростанции, с утра на востоке поднялась лилово-белая туча, похожая на раскинутый по ветру башлык. Концы этого гигантского башлыка свисали почти к горизонту, а капюшон поднялся над солнцем и уже накрыл его. На какой-то час солнце успело подняться выше, паля землю с небывалой силой, но туча-башлык, то синея, то чернея, расползлась по небу и стала походить на огромную, с острыми плечами бурку.
Подул ветер, закурились дороги, тревожно и глухо прокатился над степью гром; небо потемнело, и как бы в награду людям за их труд полил дождь. Казалось, что сама природа понимала, как важно было после окончания работы смыть следы колес, лопат, полить водой глубоко зарытые столбы, умыть и по-праздничному разукрасить степь.
Гонимая ветром темно-серая туча с шумом двигалась навстречу Сергею, и вскоре «газик» нырнул в ливень, как ныряет утка в воду. Ванюша припал к рулю, белая его голова сразу потемнела, от воротника по спине побежали холодные струйки. Только сейчас Ванюша вспомнил, что брезент тента оставил дома, и не зная как бы оправдаться перед Сергеем, боялся даже поднять голову. Дождь хлестал ему в лицо, было трудно сквозь залитое водой стекло увидеть дорогу.
– Сергей Тимофеевич, – сказал он, не поворачиваясь, – а здорово мы промокнем. Брезент-то я позабыл дома.
– Ничего, Ванюша, не из глины сделаны! – Сергей обеими руками приглаживал мокрый чуб. – Давай вперед! На Усть-Невинскую!
Сергею нужно было отыскать Ирину и увезти ее с собой. Он знал, что она работала на участке Семена, и поэтому велел Ванюше свернуть на поля Усть-Невинской. Навстречу им по вязкой и хлюпкой дороге ехали строители: они сидели на бричках скученно – кто прикрылся рядном, кто подлез под бурку, кто натянул на голову брезент. Одни возчики не прятались от дождя – со свистом и криком торопили лошадей, поднявшись во весь рост и подставляя грудь косой струе воды.
На одной из подвод кучером был Иван Атаманов. Увидев Сергея, он остановил лошадей и крикнул:
– Сережа! Дело сделали и вот купаемся!
– Хороша баня! – сказал Сергей, выходя из машины.
– Сережа! Сережа! Иди сюда!
В задке брички, под буркой, как в балагане, сидели Семен и Анфиса. Сергей подошел к ним, а дождь шумел и поливал с такой силой, что нельзя было приоткрыть угол бурки.
– Эй, радист-пулеметчик! – крикнул Сергей, заглянув под бурку. – Как там твоя любушка?
– Братушка, полезай к нам, – отозвалась Анфиса, блестя в темноте глазами. – Прячься!
– Не знаешь, как мне отыскать Ирину?
– Следом за нами на быках едут девушки – там и она.
Быками никто не управлял – они и сами хорошо знали дорогу в станицу. А под брезентом, накинутым над бричкой в виде цыганского шатра, набились, как в нору, девушки и пели песню. Сильные струи воды стучали о мокрый парус, как в бубен, заглушая девичьи голоса.
«Поют, им и дождь нипочем», – подумал Сергей.
Он сошел с машины, остановил быков, но девушки не переставали петь. Из-под брезента высунулась головка с распущенными косами – это была Соня.
– Ой, девушки! – крикнула она. – Это Сережа быков остановил!
Из шатра выпрыгнула Ирина и, не видя ни дождя, ни луж под ногами, пошла к Сергею.
Девушки ей что-то кричали, звали к себе, но Ирина их не слушала. А когда Сергей прикрыл ее лежавшим в машине лоскутком брезента и усадил рядом с собой, а Ванюша, сделав круг, выезжал на дорогу, Ирина, вся уже мокрая, сказала:
– Пусть поливает! Большая вырасту!
Ирина радовалась тому, что в такую непогоду может прижаться своим мокрым телом к такому же мокрому и теплому телу Сергея. Ее платье, пропитанное водой, липло к плечам, к груди, и вся она, облитая дождем, возбужденно-радостная, была для Сергея еще более милой и близкой Смуглянкой, чем в тот вечер, когда он, спасаясь от ливня, забежал на птичник и увидел ее на пороге.
Через два дня, когда просохли дороги и необычайно красочно расцвела степь, со всех станиц и хуторов стали приезжать в Усть-Невинскую гости. По этому случаю у въезда в Усть-Невинскую была поставлена арка, обвитая венками из травы и полевых цветов, с портретом Ленина в середине, с огромными белыми букетами на кумачовом холсте: «Добро пожаловать!» Между витками цветов прятались электрические лампочки, образуя изогнутую дугой полоску.
Еще на восходе солнца сюда прибыл Савва Остроухов в галифе и белой сорочке, в кубанке, чудом державшейся у него на затылке. Савву сопровождали Стефан Петрович Рагулин, Тимофей Ильич Тутаринов и Прохор Афанасьевич Ненашев. Стефан Петрович был одет в темно-синий костюм, купленный в Москве; на груди как-то уж очень высоко красовалась Золотая Звезда и орден Ленина.
– Не люблю я гостей встречать, – чистосердечно признался Стефан Петрович. – Хлопотно с ними.
– Хлопотно, но зато гостям приятно, – возразил Тимофей Ильич. – Да и то сказать – людям нужен почет. А как же! Тут дело государственное.
– Встречали бы без меня, – сказал Стефан Петрович.
– Без вас, Стефан Петрович, нельзя, – проговорил Савва. – Вы у нас – человек видный, и ежели вы гостей встречаете, то это же очень важно!
– Гостеприимство – вещь дюже нужная, – вмешался в разговор Прохор. – Ты, Стефан Петрович, небось читал в газете, как наше правительство завсегда встречает чужеземных гостей. Прилетит на самолете какой-нибудь король или президент, а ему почет, духовой оркестр и там разная церемония, – пусть знает, в какое государство приехал.
– То дело другое, – буркнул Стефан Петрович, – то дипломатия.
– А ежели мы дипломатов так радушно встречаем, то своих людей тем более нужно принимать с лаской да с почетом.
– Да я не против почета, но мне не хочется их принимать, – доказывал Стефан Петрович. – По характеру я не подхожу к этому делу.
– Нет, Стефан Петрович, – рассудительно заговорил Тимофей Ильич, – ты неправильно мыслишь, характер тут не в счет. Мы люди культурные, и гостей нам надобно встречать по-человечески, чтобы во всем вежливость была.
– Тебе, Тимофей Ильич, хорошо быть вежливым, – возражал Стефан Петрович, – а для меня эти гости несут один убыток. Обед возле гидростанции затеяли, пять котлов баранины жарится. А чьи овцы? Давай, Рагулин, и баранов, и меду, и белой муки.
Савва, боясь рассмеяться, отошел в сторонку.
– Гостям только подавай, я их знаю, – продолжал Стефан Петрович. – Вина бочку кто привез? Рагулин. А гости – народ не гордый. Они и без вежливости сядут за стол и все поедят и попьют. А кому перед колхозным собранием краснеть? Рагулину. Вот она какая встреча.
– Не печалься, Стефан Петрович, не один твой колхоз готовит обед, – сказал Тимофей Ильич. – Там дело идет в складчину. И ежели ты хочешь знать, то тот, кто богатеет, обедом не обеднеет. А мы, слава богу, богатеем. Погляди на станицу, сколько там проволоки, столбов и разного богатства. Так что не скупись, не скупись, Стефан Петрович, ради такого важного случая.
– А ревизионная комиссия что скажет? – спросил Рагулин, хитро сощурив глаза. – Что она в акте запишет? Ты сам же будешь ревизовать свой колхоз и станешь чертом коситься на Никиту Мальцева.
– Тут все по закону, чего ж коситься.
– Не спорьте, кто-то едет, – сказал Савва, заметив на дороге машину.
Плавно подкатил ЗИС, и из него вышел депутат Бойченко, а следом за ним Сергей. Одет Сергей был по-парадному: разутюженные бриджи, новенький китель, до лоска начищенные сапоги.
Сергей представил Бойченко сперва своего отца, затем Савву и Рагулина.
– Помню, мы встречались, – сказал Бойченко, подавая руку Рагулину. – Вас, Стефан Петрович, легко отличить от других, человек вы видный.
– Сказать – с приметой, – проговорил Рагулин.
– А это Прохор Афанасьевич Ненашев, – сказал Сергей, представляя Прохора, – первый электрик на всю Усть-Невинскую.
– Слышал, слышал о вас, – сказал Бойченко, здороваясь с Прохором. – Это вы отыскали лес в Чубуксунском ущелье?
– Было дело. Я же природный молевщик, дручья гонял по Кубани, а вот на старости лет переменил профессию.
– И доволен?
– Староват я малость по столбам карабкаться, – отвечал Прохор, – а дело занятное, по душе пришлось.
– Ну, Савва, как там? – спросил Сергей, кивнув на гидростанцию. – Все готово?
– Полный порядок! – живо ответил Савва. – Гости будут довольны!
– А вы бы их с хлебом да с солью встречали, – посоветовал Бойченко.
– Там, за обедом, преподнесем и хлеба и вина, – сказал Тимофей Ильич. – Обед будет на славу, только наш Герой-старший, – старик кивнул на Рагулина, – дюже скупится.
– И чего ты на меня лишнее наговариваешь! – краснея, возразил Рагулин. – Тебе по-дружески сказал, а ты…
Сергей и Бойченко не стали расспрашивать, о чем по-дружески говорили старики, и уехали на гидростанцию. А через некоторое время вдали над зеленой степью алой птицей взметнулся флаг, затем показались скачущие всадники в бурках, а за всадниками катились тачанки и линейки, – издали свадебный поезд, да и только.
Оказалось же, что это была родниковская делегация. И до чего ж веселый и самобытный народ родниковцы! Ничего они не могут делать без выдумки, без того, чтобы хоть чем-нибудь отличиться и показать себя. Другие станицы выехали на грузовиках, с одним гармонистом, да и то сидевшим где-то в задке кузова, с небольшим женским хором и флагом, маячившим на передней машине. А разве у родниковцев нет машин? Да кто же этому может поверить! Есть у них машины, и не одна! Но разве эти горные жители могут ехать на грузовиках, как все люди? Нет, им подавай тачанки, и не просто тачанки, а чтобы были они обвиты красным полотном, украшены цветами и ветками, а в передке, рядом с кучером, чтобы непременно трепетало знамя колхоза и сидел гармонист с букетом на картузе; а за тачанками чтобы мчались такие же нарядные линейки да чтобы в гривах лошадей были заплетены кумачовые лоскутки. Впереди же этого шумного и красочного поезда скачет конный эскадрой: всадники, как один, в бурках, в кубанках, с синими верхами и с пламенеющими за плечами башлыками, – по всему видно, что народ едет на праздник!
– Ну, узнаю птицу по полету, – сказал Рагулин, когда родниковцы уже подъехали к арке. – Ты погляди, какой шик! И что за канальи! Как же красиво едут!
Впереди, сдерживая взмыленных, горячих коней, гарцевали Иван Родионов и Никита Никитич Андриянов, а по бокам у них плясали на скакунах знаменосцы – красные стяги взвивались на ветру.
– Здорово булы, устьневинцы! – хрипловатым басом приветствовал Никита Никитич, важно откинувшись на седле.
И не успели Родионов и Андриянов слезть с коней и поздороваться, как возле арки загремели колеса – тачанки подлетели, как птицы; на все лады заиграли гармони, поднялся шум, понеслись выкрики, припевки, разноголосый говор, а возле тачанки уже образовался круг и начались танцы.
– Да вы что, подпили малость? – спросил Рагулин у Никиты Никитича.
– Только еще собираемся! – ответил Никита Никитич. – Приготовлена у вас выпивка?
«Да ты, старый чертяка, дюже большой мастак выпить за чужой счет», – подумал Рагулин, но Никите Никитичу улыбнулся и сказал:
– Дорогие гостюшки, милости просим, все уже для вас приготовлено.
– Тогда тронули! – крикнул Никита Никитич. – По ко-о-оням!
Всадники сели в седла, приняли строй и шагом по два проехали под разукрашенной аркой. За ними с криком и свистом понеслись тачанки и линейки, и вскоре снова стало тихо.
– Вот оно, какая дипломатия, – с усмешкой сказал Рагулин. – Еще и с седла не слез, а уже о вине осведомился.
– Веселая станица – что тут скажешь! – заметил Тимофей Ильич.
– Одно слово – Родники, – рассудительно добавил Прохор.
Через несколько минут прибыли на четырех грузовиках беломечетенцы, поздоровались, постояли немного у арки и уехали. Затем проследовали – кто на лошадях, кто на машинах – делегаты Краснокаменской, Рощенской, Яман-Джалги. Мелкими обозами проехали хуторские колхозы. Когда солнце поднялось высоко, на двух грузовиках прикатили марьяновцы. Кривцов, возглавлявший делегацию, поздоровался с Саввой, осведомился, на какой час назначен пуск станции, будет ли митинг, приглашены ли гости из других районов и приедет ли Бойченко. А тем временем из кузова торопливо выскочил Ефим Меркушев и, как сын к отцу, подошел к Рагулину.
– От души желаю вам, Стефан Петрович, – волнуясь, говорил Меркушев, – чтобы эта Золотая Звезда была не последней.
– Поживем – увидим, – ответил Рагулин.
Марьяновцы поговорили и тоже уехали, и уже ничего особенного не случалось у въезда в Усть-Невинскую.
Правда, еще проехал на «эмке» Кондратьев с женой, а следом за ними – грузовик с духовым оркестром, да промчался на газике Рубцов-Емницкий, прихватив с собой мрачного и насупившегося Федора Лукича Хохлакова.
– И мой задушевный дружок пожаловал, только на лицо дюже тоскливый, – насмешливо проговорил вслед Рагулин.
Постояв еще немного, устьневинцы покинули арку. А в этот самый час вблизи гидростанции, на обширной поляне, раскинулся такой шумный табор, собралось столько народу, машин, лошадей, тачанок и линеек, что даже на самой большой ярмарке и то их бывает меньше; над Кубанью поднялся такой разноголосый говор, шутки, смех, щебетанье детворы, что и на свадьбе ничего подобного не увидишь и не услышишь, – повсюду разливались такие протяжные песни, а гармонисты с таким старанием припадали к мехам и так искусно перебирали пальцами, что даже заглушали плеск падающей на сбросе воды; по всей поляне пестрело такое обилие знамен, женских платков и косынок, чубатых голов, кубанок с разноцветными верхами, букетов цветов, – словом, было так пестро и шумно, что передать эту картину в натуральных красках было бы не под силу даже самому одаренному живописцу.
В довершение всего на бугре, невдалеке от канала, чернели пузатые десятиведерные котлы, врытые в землю и охваченные дымом и пламенем; возле них хлопотали поварихи, не обращая никакого внимания на то, что делалось там, на берегу реки. В сторонке в шесть рядов протянулись наскоро сбитые из досок и укрытые скатертями низенькие столы со скамьями, а чуть поодаль, прямо на свежей траве, горкой возвышались буханки хлеба, с коричневой, в меру поджаренной коркой.
Прошел еще час или два, когда к дверям машинного отделения подъехал грузовик с обитым кумачом кузовом – импровизированная трибуна стала на свое место. Митинг состоялся перед зданием гидростанции, под непривычный шум падающей воды. И пока выступали с речами Бойченко и Кондратьев, пока Сергей бегло набросал картину выполнения пятилетнего плана и назвал фамилии лучших строителей, пока выступали ораторы из соседних станиц, играл оркестр и много раз по реке шумели аплодисменты, – тем временем накрывались столы для обеда.
Как повелось на рытье канала, на сооружении электролинии, так было и за столами: что ни станица, то отдельный стол, так сказать – «свой участок», и только марьяновцев посадили на почетном месте, а с ними сели Бойченко, Кондратьев с женой, Сергей с Ириной (пусть, мол, все люди посмотрят, какая у него жена), Рагулин со своей Саввишной, Тимофей Ильич с Ниловной, Прохор Ненашев, Виктор Грачев, – он хотел посадить возле себя и Соню, но та покраснела и убежала к усть-невинскому столу. Тогда рядом с Виктором умостился Семен Гончаренко, молчаливый и сосредоточенно-строгий (он только вчера, после пробного пуска турбины, принял гидростанцию и еще не привык к своему новому положению).
Прохор Ненашев взял узловатыми короткими пальцами кружку, обвел сидящих строгим взглядом и сказал:
– Люди добрые! Строители и гости! Старинный обычай на Кубани так гласит: не будет сладким вино и не ощутим мы вкуса пищи, ежели, перед тем как приступить к обеду, не сказать слово.
Все умолкли, прислушались, а Никита Никитич подумал:
«Эх, Прохор, Прохор, и до чего ж ты охотник поговорить! И тут речи – мало тебе было митинга, только зазря время терять».
– А слово мое будет короткое, – продолжал Прохор, сжимая пальцами кружку, боясь, чтобы не расплескалось вино и чтобы никто не заметил, как дрожит его рука. – Поглядите сперва вон в ту сторону, на этот красивый домик, что приютился себе под кручей. Поглядите на провода, что убегают во все стороны! Чьих это рук дело? Наших рук и наших помыслов. А прислушайтесь! Эге-ге-ге! Шумит, не умолкает Кубань, и хоть с детства мы ее слышали, привыкли к ее песне, а только ныне песня у реки иная, потому что падает вода с высоты небывалой. Песня та новая, как и вся жизнь наша. И вот я скажу ради такого случая: думалось тем, кто в сорок втором году топтал, паскудил нашу землю, что мы уже не подымемся до той высоты, на какой допрежь были, что не избавимся после войны от беды-лиходейки. Прошло с той страшной поры немного времени, а мы не только поднялись, но и расправили плечи.
– Прохор Афанасьевич, – хитро жмурясь, сказал Никита Никитич, – речь твоя правильная, одобряю, а только взгляни, где солнце. Закругляйся!
– Погоди малость, Никита Никитич, солнце от нас не уйдет, а потому и не торопи меня закругляться. – Прохор погладил усы. – Днем нам будет светить небесное солнце, а ночью – свое! – В этом месте речь Прохора была прервана аплодисментами, и когда снова наступила тишина, Прохор продолжал: – Выпьем мы первую чарку за свою Советскую власть, за нашу родную Коммунистическую партию!
Все встали, выпили, и обед начался.
Ели неторопливо, не так, как обычно едят на работе во время обеденного перерыва, и то поглядывали на гидростанцию, то на солнце, ибо знали: самое значительное событие, ради чего съехались сюда люди и уселись за столы, произойдет лишь вечером. Почему вечером, а не днем? Такой вопрос никому даже в голову не приходил, – каждый понимал, что именно вечером, когда темнота укроет степь, должны вспыхнуть по всем станицам огни. Пусть тогда весь мир смотрит, что делается в верховьях Кубани! И потому, что уж очень всем хотелось, чтобы быстрее наступила ночь, день, как бы назло, тянулся удивительно медленно, а солнце точно остановилось в низком полдне и уже не хотело двигаться ни взад, ни вперед.
Может быть, желая как-то скоротать время, а может быть, и оттого, что два или три бочонка уже были опорожнены и яства на столах поредели, но только вскоре делегации станиц смешались и разбрелись кто куда: песельники – к песельникам, танцоры – к танцорам, некоторые парни и девушки, стараясь укрыться от родительских глаз, пошли гулять по берегу. Только одни старики и старухи еще остались на своих местах, но и они пододвинулись ближе друг к другу и завели неторопливый разговор; к ним подсел и Бойченко.
А лагерь шумел и гудел: там подвыпившие мужчины и женщины собрались в круг, и мягкий тенор запел: «Ска-а-а-кал ка-а-зак чере-е-ез до-о-о-лину», а мощный хор тут же подхватил: «Че-е-ерез куба-а-нские по-о-ля…», там, в шумном собрании, кто-то ухал и выбивал ногами такую частую дробь, выделывал такие колена и присядки, что дрожала земля.
«Вот это да! – подумал Сергей, протискиваясь поближе к кругу. – И кто это так отплясывает? А? Да ведь это Алексей Артамашов! Чертяка! Дает жизни!»
– Сергей! Иди на подмогу! – кричал Артамашов, сбив на лоб кубанку.
Рядом с собой Сергей увидел Кривцова, – он смотрел на Артамашова грустными глазами.
– Андрей Федорович, – сказал Сергей, – отчего такой мрачный?
– Завидую.
– Кому? Алексею Артамашову?
– И ему и вообще… Отойдем в сторонку.
Они выбрались из толпы, неторопливо прошли по бровке канала, не разговаривали, а только смотрели на мутный поток. Остановились на плотине, – под ними кружилась вода и, толкаясь в шлюзы, закрывавшие трубы, с сердитым рокотом текла по холмистому сбросу.
– Скоро откроешь шлюзы? – спросил Кривцов.
– Вечерком откроем.
– По двум трубам пойдет вода?
– Покамест по одной.
– Что ж так? Воды мало?
– Нет. Вторая еще не имеет турбины.
– А будет иметь?
– Постараемся.
– Сергей Тимофеевич, с той поры, как ты побывал у нас, загрызли меня думки.
– Оттого ты и невесел?
Кривцов закурил, бросил горящую спичку в воду.
– Тебе хорошо, а каково мне смотреть на ваше веселье. При народе я бы об этом постеснялся заговорить, но тут нас двое. Помоги, Сергей, по-дружески прошу.
– Знаю, о чем ты печалишься, – сказал Сергей. – Посмотри на эту трубу – она поставлена для марьяновцев. Будем хлопотать еще одну турбину.
– Дай твою руку, дружище!
Невдалеке от них по берегу канала шли Семен и Анфиса.
– Таки уговорил тебя мой братушка? – грустно спрашивала Анфиса.
– Пойми, дорогая, – ответил Семен, – не мог я не согласиться.
– А как же наша хата?
– Построим, только здесь. Посмотри, сколько тут места – выбирай любую позицию.
– Эх, Семен, Семен, какой же ты настырный! А ежели не справишься с работой? Тогда как будем жить?
– Справлюсь, – уверенно заявил Семен. – Я же тут буду не один. Завтра должен приехать механик, а пускать станцию будет Виктор. Ирина тоже в моем штате.
Анфиса только покачала головой и тяжело вздохнула.
– Сережа! – крикнула Ирина, выйдя из машинного отделения. – Иди сюда! На минутку!
– Жена зовет, – сказал Сергей Кривцову. – Придется беседу нашу прервать.
Сергей сбежал по деревянной лестнице.
– Сережа, а ты знаешь, нужна красная ленточка, – шепотом сказала Ирина.
– А зачем?
– Да как же! Виктор сказал, что так полагается.
– Ну? Ежели полагается – тогда нужно попросить ленту у какой-нибудь девушки.
– Пойдем вместе просить.
Они направились по берегу реки туда, где собралась молодежь.
– Сережа, – заговорила Ирина, – если бы ты только знал, как я волнуюсь! Виктор меня уже и инструктировал, и ругал, и успокаивал, а я все волнуюсь.
– Ничего, Иринушка, волнение – это хорошо!
А когда была найдена ленточка и приготовлены ножницы, когда ушло за горизонт солнце и темная июльская ночь заиграла над Кубанью звездами, вокруг гидростанции собрался народ и ждал. По всему было видно – шли последние приготовления: мелькали фонари, сквозь высокие, слабо освещенные окна виднелись силуэты людей, кто-то бегом, с фонарем в руке, подымался по лестнице на шлюз.
И вот на шлюзе загремела цепь лебедки, и вода с, глухим ворчанием ворвалась в горловину трубы, ударила в лопасти турбины, а в машинном отделении робко вспыхнул свет. Теперь в окна было видно, как вращался маховик турбины, как Виктор ходил вокруг машины, то прислушиваясь, то наклоняясь, как бы тихонько о чем-то спрашивая турбину. И когда небольшая группа мужчин – там были Сергей и Кондратьев – направилась к дверям гидростанции, толпа умолкла, – все поняли, что вот и наступило то, чего так все ждали. Сергей и Кондратьев остановились у дверей перед натянутой полоской красной ленточки.
– Готово! – крикнул Виктор, посмотрев на Ирину, стоявшую у щита. – Нагружать машину!
Слабо блеснули ножницы – упала ленточка. Ирина включила рубильник, и в ту же секунду ослепительное зарево раздвинуло темноту, и вокруг домика стало светло как днем. Заиграл оркестр, прокатились возгласы, крики «урр-а-а-аа!!», взлетели к небу шапки, раскинулись платки. Ирина включила еще один рубильник – свет рванулся в станицу, и тут собравшиеся увидели Усть-Невинскую в таком красивом и ярком наряде, в каком ее никогда еще не видели. Над Усть-Невинской полыхали огни, искрясь и вспыхивая, озаряли бархатную зелень садов, освещали площадь, улицы и переулки; лампочки горели и на столбах и ярко светились в окнах хат.
– Третий! – крикнул Виктор.
Ирина включила и третий рубильник. Тогда зарево, похожее на восход солнца, от Усть-Невинской перекинулось в степь и поднялось в той стороне, где лежали станицы Белая Мечеть, Краснокаменская, Родниковская, Яман-Джалга, и казалось людям – огни озаряют то прекрасное будущее, куда лежат их дороги.
1946–1948
Пятигорск








