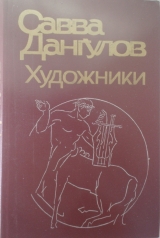
Текст книги "Художники"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 60 страниц)
Мне интересны книги Джакетты Пристли самим спектром наук, которые они затрагивают. Такое впечатление, что анализу подверглась сама Солнечная система, однако в центре системы не Солнце, а Земля, при этом вся система небесных тел прикреплена именно к Земле и вокруг нее вращается.
Пристли закончил переговоры и присоединяется к нам. Кажется, он спрашивает: «А на чем мы остановились там, на Пятницкой? Не об антологии советского рассказа, которую выпустил Сноу, шла речь? Так я все-таки придерживаюсь мнения: если сосредоточить слишком большое внимание на теме сегодняшнего дня, пострадает общечеловеческая тема... Вы не согласны?»
Ну вот, спор, который не состоялся на Пятницкой, очевидно, должен произойти в Элбани-хауз.
– А разве тема, которую вы зовете темой сегодняшнего дня, является антагонистом общечеловеческого начала? Нет ведь? Очевидно, от таланта писателя зависит так раскрыть тему сегодняшнего дня, чтобы в ней преломилось, во-первых, общечеловеческое начало и, во-вторых, нечто такое, с чем отождествлена духовность...
– Но в антологии Сноу таких рассказов нет? – не сдается Пристли.
– Возможно, и так, но в нашей литературе такие рассказы есть...
Сейчас я замечаю: во дворе, куда обращены окна квартиры, много зелени, но она заметно отодвинута от окна – это дает возможность заполнить комнату светом, который тем ярче, что усилен крахмальной белизной скатерти, которой сейчас выстлан стол. Крахмальная скатерть, белоснежная, в отблесках неяркого здешнего солнца, делает объемным все стоящее на столе: бекон, прослоенный розоватым жиром, – его срезы, казалось, мраморны, масло чистейшей желтизны, прозрачный желатин повидла, хрупкая булочка – все свежести первозданной.
– Не было бы войны, обратился бы Пристли к жанру маленького романа? – спрашиваю я нашего хозяина – кажется, этот вопрос писателю не задавали прежде.
– Мне трудно ответить утвердительно, – замечает Пристли. – Настоящего романиста вы узнаете по тому, как он разрешает в своем произведении проблему времени. Да, время, его поток, для романиста – главное! Можно сказать, что искусство, с которым романист разрешает проблему времени, – это ого оружие... Пример? Толстой, конечно! – он владел этим в совершенстве. Его повествование, как вы могли заметить, течет, как река! И делает это он совершенно непроизвольно, не думая об этом. Задаться заранее этой задачей, а потом постараться решить ее – совершенно невозможно: все, что тут человек обрел, он обрел с рождением. Короче: романистом надо родиться! И тот, кто не является романистом по самой своей природе, сделать это не сможет! Примеры у всех на виду! Так, как течет повествование у Толстого, Теккерея, Достоевского, – проблему времени способен решить только романист по призванию, романист от рождении...
– Вы построили эту концепцию, чтобы убедить нас мадам Пристли: вы не принадлежите к писателям такого рода? – в моей фразе была улыбка – да иначе ее нельзя было произнести.
– Мадам Пристли знает о моем мнении, и ее убеждать не надо – все, что я хотел сказать, я адресую вам... Одним словом, все, кто не считает себя романистом, пишут отдельные сцены, пишут фон к этим сценам и переходят от сцены к сцене... Конечно, мне могут сказать, что этот переход от сцены к сцене в какой-то мере характерен для всей современной прозы, но драматург это делает заданно, а романист интуитивно – в этом разница, как мне кажется, принципиальная... Итак, я отвечаю на ваш вопрос: маленький роман? Конечно, он возник у меня с войной, но он учитывал мои особенности – если учитывать эти особенности, мне с руки был именно такой роман...
– Я помню, что на Пятницкой зашел разговор о различиях между английской и американской литературой, при этом были высказаны мысли, которые запомнились.
– Ну что тут сказать? – спрашивает Пристли. – Это разные литературы! Надо понимать: разные... Мнение, что у этих литератур один язык, – недоразумение. Надо понять: разный язык!.. Нет, дело даже не в разноречии словарного запаса – он разный. Значение многих слов различно. Но вот что характерно: в отношениях между одной литературой и другой был своеобразный водораздел, кардинально изменивший положение. Этот водораздел – примерно 1925 год! Запомните: 1925 год! До него английская литература влияла на американскую, после – все пошло наоборот. В целом я считаю, что американский роман сильнее английского, хотя у меня свое мнение насчет некоторых явлений американской литературы, признанных установившимися... Я, например, не считаю, что Эрнест Хемингуэй явился открытием для англичан и много им сказал, для французов, быть может, и явился открытием, но не для нас... Надо не забывать, что у английской литературы большое прошлое: у нее литературная история и она прочнее стоит на своих принципах, сдвинуть ее с принципов трудно... Поэтому в своих отношениях с американской литературой она трудно идет на компромиссы.
– В какой мере вам удалось приступить к реализации замысла, о котором вы говорили в Москве: человек и время?..
– Не теряю надежды реализовать, – отозвался Пристли, как мне показалось, воодушевленно. – Как я говорил, проблема времени всегда меня интересовала. Как я говорил, это будет своеобычная книга по жанру – нет, не беллетристика, ни в коем случае не беллетристика!.. Тон будет задавать история, отношение человека и времени в первобытном обществе, проблема отношений человека и времени на всех этапах истории, разумеется, в точном соответствии с событиями, которые данному отрезку истории сопутствовали, и, наконец, раздумья о времени в связи с будущим. Конечно, в текст книги должны вторгнуться события, которыми был ознаменован наш век, – строение вещества, расщепление атома, космос, – это даст возможность сказать о воздействии будущего на настоящее. Могу сказать, что это трудная книга, ее трудно писать…
– Мне показалось, что проблема времени своеобразно преломилась и в ваших книгах, мадам Пристли, не так ли? – спросил я хозяйку дома, которая па минуту вышла в соседнюю комнату, занятая приготовлением кофе.
– Да, пожалуй, но только время у меня обратилось не столько в будущее, сколько в прошлое, – подала она голос, все еще находясь в соседней комнате. – Я хотела показать в той же своей «Земле», как на протяжении истории, в процессе освоения человеком земли, росло его сознание, а вместе с тем обогащался его интеллект... Мне хотелось, чтобы моя мысль и мои выводы были зримыми, поэтому своеобразным соавтором книги стал наш великолепный художник Генри Мур – его рисунки помогли постичь мысль, нередко не совсем элементарную.
Я готовился задать Пристли последний вопрос – признаюсь, мне стоило труда собраться с силами – я знал, что в ответе на этот вопрос меня могут ждать неожиданности, хотя общий тон ответа, как я был уверен, должен быть доброжелательным – тут у меня не было сомнении, за время нашего общения я достаточно изучил Пристли.
– Сейчас, когда после вашей поездки в Советский Союз прошло столько времени, как вам видится эта поездка, все ее грани, все повороты?
Пристли улыбается:
– Значит, все повороты? Ну что ж, готов ответить... Коли поеду к вам еще раз, сделаю так, чтобы не надо было посещать столько мест, вставать до восхода солнца, паковать чемоданы, спешить в аэропорт... Но это все мелочи. Главное: общее впечатление, несомненно, очень хорошее. Все, что сделано за эти годы, поражает масштабами. Вот, например, Ташкент. Большой и красивый город, очень современный, в котором живут в дружбе и согласии люди разных национальностей. Город, впрочем, включил в свои границы и старые районы. Признаться, они мне нравятся не меньше нового города. И еще: сохранены национальные черты, сохранены с большой бережливостью. Если же говорить о новом городе, то мне особенно по душе дух братства, характерный для этого города, люди там живут мирно, не заметно расовой неприязни. Я знаю из опыта: ничто не дает такого полного и точного представления о настроениях в стране, как движение масс, – я видел праздничную демонстрацию, и она мне сказала многое. Что мне не понравилось? Буду откровенен и скажу с той прямотой, с какой говорил обо всем прочем. Не понравился военный парад – единственная речь была произнесена генералом, а солдаты маршировали, глядя на генералов, в то время как те были похожи в эту минуту на идолов. Это было единственное, что я не принял в вашей стране. У меня сложилось впечатление, что жизнь становится все лучше. У людей ость деньги, хотя товаров в магазинах могло быть больше. Я говорю о Ташкенте, но я мог бы сказать это и о Тбилиси, где мы были с Джакеттой...
– Меня поразил размах творчества, который можно наблюдать в строительстве, науке, книгоиздании, – подхватила хозяйка дома. – Мне импонировала масштабность ваших замыслов – я это почувствовала, в частности, в археологии. Вообще, как я сказала себе, в вашей стране происходит много интересного...
Супруги Пристли провожают нас. Уже выйдя из дома, мы оглядываемся: в линиях Элбани-хауз есть основательность Лондона – престижный дом.
Но у Пристли вид Элбани-хауз вызывает иные ассоциации.
– На театре говорят: «Финал делает впечатление». Когда жизнь прожита, невольно думаешь, как ее завершить...
Пристли вернул мою мысль к только что закончившейся беседе, к тезису, отразившему, как показалось, новую грань в личности англичанина, – я говорю о нынешних замыслах писателя.
Что мне было интересно в реплике Пристли, как, впрочем, в броском, но в высшей степени характерном, замечании мадам Пристли: я говорю о работе Пристли «Человек и время» и книгах Джакетты Пристли «Земля», «Земля и человек», «Земля и Солнце»? Мне представляется неслучайным, что чета Пристли решила завершить свой путь в литературе трудами, которые носили не столько беллетристический, сколько откровенно историко-философский характер. В этом, как мне показалось, было два знака. Первый: признание того, что все написанное не обняло суммы проблем, подсказанных сегодняшним днем, как того требовал этот день. Второй: желание все-таки постичь нечто такое, что явилось первопроблемой, как эта проблема возникла сегодня. Самое интересное заключалось в том, что, решая эту проблему, тот же Пристли обратился к жанрам, к которым он прежде не обращался. Такое впечатление, что Пристли принял жанр, в котором были написаны книги Джакетты Пристли. Возможно, так, но главное, конечно, заключалось в том, что раздумья, касавшиеся магистральных линий темы, дали столь обширный материал, что потребовали труда обстоятельного.
СНОУ
Из тех наших зарубежных гостей, которые проторили тропу в редакцию «Иностранной литературы», одним из самых колоритных был, конечно, Чарльз Сноу. Одаренный ученый-физик, государственный человек, выдающийся прозаик, задавшийся целью создать цикл романов, рисующих своеобразную человеческую комедию нашего времени, – это всего лишь пунктирное обозначение личности Сноу, однако способное порядочно возбудить наше воображение – очень хотелось повидать писателя. Все, что удалось прочесть из написанного Сноу, вызывало в сознании образ человека значительного, чье творчество предопределено содержательностью накопленного, недюжинными способностями Сноу – менее чем в двадцать пять лет магистр, в двадцать пять лет – доктор наук... Представление о Сноу было неотторжимо от образа Памелы Джонстон, жены и друга, – роман Джонстон «Кристина», изданный у нас, был хорошо принят читателями. Как можно было понять, творчество Сноу и Джонстон было достаточно суверенным, не пересекаясь ни в теме, ни в форме, но взаимообогащение конечно же имело место, хотя и не выплескивалось наружу – процесс взаимообогащения был скрыт для внешнего глаза, но он, несомненно, имел место.
И вот чета Сноу в особняке на Пятницкой – Сноу около шестидесяти, Джонстон – младше. Первое впечатление – любящие супруги. Малоречивые, быть может, даже в чем-то кроткие, внимательные друг к другу. Знают, что им тут рады, и очень доброжелательны к хозяевам. Приготовились к беседе обстоятельной: как ни объемен интерес хозяев к современной английской литературе, гости готовы ответить на весь круг вопросов.
Поводом к беседе явился вопрос в какой-то мере стереотипный: над чем работают гости сегодня. Сноу отвечает, попыхивая сигаретой. Не очень-то хочется отвечать, когда работа не завершена, но его это, кажется, не пугает. Роман обращен к крутому повороту британской истории – середине пятидесятых годов. Новое произведение Сноу воссоздает панораму английской политической жизни – правительство, парламент, политические партии, университеты как центры деятельности ученых, чьи жизнь смыкается с коридорами власти. Наверно, сказанного недостаточно, чтобы представить себе будущий роман Сноу, но какие-то вехи произведении представить можно. Впрочем, сказанного было вполне достаточно, чтобы обратить внимание на главную тему беседы: роман. Да, какими путями должен пойти современный роман, в какой мере он должен быть преемственным, если говорить о традициях романа, которые создал классический реализм прошлого века, насколько следует воспользоваться поиском, который имел место уже в нашем веке, и в какой мере есть резон пренебречь тем, что нам оставили классики, – вот круг вопросов, поставленных Сноу при сочувственном внимании Памелы Джонстон – она стимулировала его мысль не только поощрительным взглядом, но и репликами – они были скупы, но в них, как мне показалось, была энергия убеждения.
(Малоречивая Памела Джонстон прошлый раз отважилась произнести по существу этой проблемы нечто такое, что в ее устах звучало воинственно: «Мы ведем борьбу против того, что вы называете формализмом. В английском искусстве и литературе к концу первой мировой войны была опасность ухода в бесплодное эстетство... Вильф научила нас лучше видеть, Джойс – лучше слышать. Мы признаем это и не хотим выплескивать вместе с водой ребенка. Но некоторые писатели, объявившие себя их последователями, уже ничем, кроме формы, не интересовались. Большая часть их книг напоминала прекрасную фигуру без головы. Между тем стиль произведения рождается из его содержания, а не наоборот».)
Разговор пододвинулся к своему пику, и наши гости, показавшиеся спервоначалу кроткими, обнаружили качества, которые делали их все более отважными в отстаивании принципов, о которых шла речь.
– То течение в литературе, которое принято называть критическим реализмом, и по сегодняшний день – главное в английском романе. Конечно, существуют другие течения, которые нам лично не нравятся, хотя среди представителей этих течений есть талантливые люди и пишут они талантливые книги. Из писателей того направления, которых мы называем представителями «символического романа», самый талантливый – Уильям Голдинг.
Беседа обретает свое продолжение, и возникают все новые и новые ее границы. Если принять термин Сноу «символический роман», то надо признать, что этот роман нашел на континенте более благоприятную почву и в большей мере привился, чем, например, на Британских островах, – так ли? Наши гости соглашаются не без раздумий. Пожалуй, так. Как полагают наши гости, символический роман никогда глубоко не проникал в британскую почву, в то время как, например, в той же Франции он взялся с силой заметной. Англия и в этом страна классических традиций, тут нет для символического романа подходящих условий. «К тому же англичане для этого слишком трезвые и практичные люди». Не без улыбки наши гости говорят о французском «новом романе», заметив, что круг его читателей невелик. «У нас есть книги, которые никто не читает, но о которых много пишут», – говорит Сноу со снисходительной улыбкой – и в своей иронии он щадит.
Сноу явно не сказал главного из того, что хотел сказать в этот день и что логически следовало из всего строя его реплик. Но он готовился сказать это и произнес все в той же спокойно-раздумчивой манере, как бы завершая разговор:
– По-моему, величайший из романистов на земле – это Лев Толстой. Он смотрел па мир глазами нормального человека, но в десять раз интенсивнее видел и чувствовал. Видение Толстого никогда не было искаженным, смещенным...
Мне казалась эта формула в высшей степени характерной для Сноу – полагаю, что в ней эстетика писателя. То обстоятельство, что человек такого интеллекта и такого творческого диапазона, как Сноу, сделал своеобразным девизом своего художнического мироощущения эту формулу, говорит о том, что будущее у метода, который если не тождествен, то близок образу мышления Сноу.
Как я писал в главе, посвященной Шолохову, в дни пребывания в Лондоне я был у супругов Сноу. И был принят в их городской квартире, расположенной в массивном белокаменном особняке; в подъезде наряду с прочими металлическими досками, отливающими хорошо надраенной медью, была и доска, необходимая мне: «Лорд Чарльз Перси Сноу». Хотелось думать, что мне откроет швейцар в униформе, украшенной золотым шитьем, и я был немало озадачен, когда передо мной возникла Памела Джонстон, одетая в простенькое домашнее платье, не успев, как мне показалось, снять фартука, в котором она, дожидаясь гостя, явно провела последний час на кухне. Все ожидал, не ожидал, что за медной доской, украшенной громким титулом лорда, меня встретит вот так хранительница домашнего очага.
Явился Сноу и повел в гостиную, в которой уже был накрыт стол к ужину. Но массивная доска, слепленная из знатной меди, увиденная в подъезде дома, была и виновницей иного. Казалось, что вот-вот распахнется дверь и лакей вкатит колясочку, на трех полках которой в чинном порядке поместится наш ужин, но ничего похожего на это не произошло. Первозданная тишина окружала нас, изредка нарушаемая мягкими шагами Чарльза Сноу и Памелы Джонстон, – как привиделось мне, охраняя тишину, хозяева были обуты в туфли, скрадывающие шаг. И будто не было паузы между нашей встречей на Пятницкой и здесь, в белокаменном особняке в теккереевском районе Лондона, Сноу продолжил свою мысль о Толстом (помните: «Он смотрел на мир глазами нормального человека, но в десять раз интенсивнее видел и чувствовал»). Однако речь зашла сейчас о Шолохове. Как было помянуто и другом месте этой книги, супруги Сноу только что возвратились из поездки в нашу страну, побывав па Дону, в Вешенской, и к этому экскурсу в шолоховские места были свои основания.
То, что я сказал о Толстом, можно распространить на Шолохова, и одно это многое объясняет в родстве, связывающем авторов «Войны и мира» в «Тихого Дона», как, наверно, а мои симпатии к Шолохову, – сказал Сноу и улыбнулся – ему было приятно это открытие.
Но когда закончился шолоховский тур беседы о романе, Сноу осторожно переключил разговор на иную тему, которая волнует его, пожалуй, не меньше, чем проблема романа. По тому, как осторожно Сноу подступился к этому сюжету, вызвав заметное волнение хозяйки дома, можно было предположить, что речь идет о предмете значительном.
– Не считаете ли вы, что вашей интеллигенции грозит опасность раскола? – спросил Сноу.
Если бы этот вопрос задал мне не Сноу, я, пожалуй, смешался бы, прежде чем на него ответить, но Сноу подтолкнул меня к верному ответу.
– Раскола? – переспросил я тем не менее. – Это как же попять? Физики и лирики?..
Он улыбнулся не без печали:
– Можно отыскать и это название, будь это не так печально...
– Тогда я вас слушаю...
Он готовился ответить на мой вопрос, в то время как хозяйка была занята столом. Я заметил: в лилейной белизне скатерти и салфеток, как и в блеске столового серебра, была чистота первозданная. Это был чайный стол, но к столу были поданы холодные закуски: все свежее, показавшееся мне немыслимо красивым. В том, как был накрыт стол, было изящество и простота, с которыми, очевидно, все делалось в этом доме.
– Проблема, о которой я хочу говорить, была впервые декларирована мною в двадцать пятом году в публичной лекции, которую я прочел в Кембридже, – произнес Сноу, наблюдая, как хозяйка накрывает стол. – Помню первое название лекции: «Две культуры – гуманитарные и точные науки». Смысл того, что я хотел сказать моим слушателям, можно было сжато изложить в следующих словах: по мере того как прогрессирует знание, углубляется пропасть между гуманитариями и представителями точных наук. Одни не понимают других, не понимают и не хотят понимать. Если все-таки в случае необходимости возникает диалог, то это диалог глухих. Это столь серьезно, что способно обратить ум на размышления, лишенные перспективы. Ученые знают, что условия существования личности трагичны, несмотря на все победы и радости, что основа бытия такой личности – одиночество и в конце смерть. Но они не хотят из этого делать вывод, что и социальные условия тоже должны быть трагичными. То, что человек в конце концов умирает, не должно служить оправданием преждевременной смерти». Настаиваю на мысли, высказанной неоднократно прежде: основы современной науки должны быть освоены писателями как материал для их произведений, как часть нашего умственного опыта. Без этого отражение процессов, происходящих в нашем веке, будет искаженно. Но, например, в такой стране, как Великобритания, образование в такой мере разветвилось, что трудно себе представить, как такую систему образования можно осуществить. Положение достаточно серьезно, взаимная враждебность имеет тенденцию лишить одну и другую стороны общего языка, угрожает гибелью самой культуре. Большая часть наших писателей ничего не понимает в науке, и это является косвенным объяснением того, что их представление о реальной жизни деформировано и смещает видение жизни, заменяя восприятие реального бытия атрибутами того, что я условно назвал «символическим романом»...
Как видите, я привел разговор к тому, с чего начал... Мысли Сноу, высказанные им и в его острых публицистических работах, явились предметом живого спора и в нашей прессе. Наша критика отозвалась на этот тезис Сноу достаточно сочувственными репликами, хотя не во всем согласилась с английским писателем. Отметив, что Сноу верно объяснил коллизию обостряющимися общественными противоречиями капиталистического мира, критика особо отметила, что английский писатель не раскрыл до конца социальные причины конфликта, не утвердил основополагающую для этой проблемы истину: противоречия в обострившихся отношениях мира капитализма. Социальная и этическая атмосфера, которой были окружены эти отношения, не столько препятствовала этим противоречием, сколько их стимулировала.
В самом начале семидесятых годов вышла в свет книга Валентины Васильевны Ивашевой «Английские диалоги», в которой была дана обширная и содержательная панорама современной английской литературы – автор преломил эту картину в портретах писателей, написанных с тем постижением глубины проблемы, свойственной автору, когда речь идет именно о литературе английской. Письмо и статья, которые я получил от Сноу, были, как мне кажется, откликом писателя на работы советского автора. Мне представляются оба эти послания столь характерными, что я хотел бы воспроизвести здесь их полные тексты. Послание Сноу совпало по времени с моим обращением к нему – я просил его, как, впрочем, и иных писателей, следящих за развитием нашей литературы, высказать свое мнение о наиболее примечательных ее явлениях – в своем письмо Сноу косвенно касается и этого вопроса. Вот эти письма.
«Я всегда с удовольствием читаю «Советскую литературу» и многое на нее узнаю... Я был бы Вам признателен, если бы Вы смогли напечатать мое краткое хвалебное письмо о Валентине Ивашевой. Она проделала огромную работу, популяризируя современную английскую литературу в вашей стране.
Еще одно маленькое замечание. По-видимому, отвечая на Вашу анкету, я но совсем правильно понял, что именно Вы хотели. Я решил, что Вы спрашиваете о моем отношении к современным советским писателям, поэтому я так и ответил. Конечно же я мог представить длинный список советских писателей, начиная с октября 1917 года по сегодняшний день. Именно так поступили многие, между тем, мне кажется, я-то знаком с предметом лучше, чем большинство из них.
Надеюсь встретиться с Вами в следующем году в Москве.
С теплыми пожеланиями – Чарльз Сноу».
К письму приложено второе письмо, которое приятно уже одним тем, как близко принимает к сердцу Чарльз Сноу все, что относится к нашим литературным контактам. Сноу назвал это свое второе письмо хвалебным, хотя сообщил ему полемические ноты. Наверно, это характерно для Сноу. Воздав В. В. Ивашевой щедрой мерой за все то доброе, что она сделала для наших литературных контактов, он не упрятал в ножны полемического меча, не умалив, а упрочив силу своих положительных оценок в адрес нашего критика. И еще: как ни своеобычен предмет разговора, Сноу остался самим собой – он ведет этот разговор от своего имени и конечно же от имени Памелы Джонстон.
Итак, вот это письмо:
«Уважаемый господин!
Я только что получил ноябрьский номер журнала «Советская литература» и прочел его, как всегда, с удовольствием. Я внимательно прочитываю каждый номер журнала. Прочитав статью Валентины Ивашевой, я ощутил потребность написать о ней этот краткий хвалебный отзыв. Памела Хэнсфорд Джонстон просила меня сделать это и от ее имени, и я уверен, что выражаю также мысли многих других английских писателей.
Валентина Ивашева сделала чрезвычайно много для ознакомления читателей вашей страны с современными английскими писателями. Это – воистину гуманистический труд огромного общественного значения. Давно пора какому-нибудь официальному учреждению в Англии официально признать ее заслуги. В своей статье она намекает, что я не всегда согласен с ее суждениями. Она придерживается твердого мнения по большинству вопросов, касающихся литературы, и ее не так-то просто убедить в том, что кто-то, может быть, с ней не согласен или что и я иной раз могу иметь собственное мнение. Однако именно такими и должны быть отношения между литераторами. Подобного рода споры только способствуют взаимопониманию и симпатии. Она, бесспорно, превосходно знает английскую литературу, как современную, так и литературу прошлого, особенно сильна она в области прозы, сильнее, чем многие из вас. Ничто не доставляет ей большего удовольствия, чем открыть английского писателя в самом начале его карьеры. Я помню, с какой радостью она приветствовала первые произведения Сьюзан Хилл, которую ввела в литературу еще девочкой Памела Хэнсфорд Джонстон.
Я уже говорил, что иногда мы с Валентиной Ивашевой расходимся во взглядах как относительно содержания того или иного произведения, так и в понимании авторского замысла. Однако у нас почти никогда не бывает разногласий в оценке таланта писателя. Вообще-то, английский язык – язык легкий, но он представляет определенные трудности, когда начинаешь вдаваться в его тонкости. У Валентины Ивашевой такое чувство английского языка, которым мог бы гордиться даже англичанин. Она могла бы написать эссе, скажем, о различии ритма прозы Троллопа и Теккерея, и мы отнеслись бы к нему с не меньшим уважением, чем если бы его написал кто-либо из нас. Она внесла замечательный вклад в дело укрепления англо-советских литературных связей, и выиграли от этого мы.
Всего вышесказанного отнюдь не достаточно, но я чувствовал бы себя виноватым, если бы не попытался хоть как-то высказаться.
Искренне Ваш
Ч. П. Сноу».
Мне не удалось видеть больше Чарльза Сноу, но к одному вопросу неизменно возвращалось сознание: несомненно, мы имели дело с большим другом нашей литературы, нашей страны – где корни этого явления? Думаю, что другом нашей страны в немалой степени сделала Чарльза Сноу и Памелу Джонстон наша литература, прежде всего классическая – Толстой и Достоевский. Классическая и, разумеется, советская – тут велика роль Шолохова. Я имею в виду не только литературное наследие наших писателей как таковое, но творческие принципы, которые исповедовали писатели, – в борьбе против сторонников «символического романа» Толстой, Достоевский, Шолохов были вместе, они, смею думать, были на стороне Сноу. Но это не все – сыграла свою роль обстановка дружбы, больше того, доверия, которым была окружена чета Сноу в СССР. Не без гордости Сноу говорил мне в Лондоне, что в СССР его и Памелу Джонстон широко знают не только как писателей, чьи произведения широко издаются. В подтексте этой реплики было нечто очень личное, человеческое. Сноу был принят во многих наших домах – он говорил, что был гостем Шолохова в Вёшенской. По тому, как Сноу говорил об этом, можно подумать: он гордился этим.








