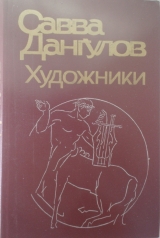
Текст книги "Художники"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 60 страниц)
В издательстве «Художественная литература» только что увидела свет «Анна Каренина» в иллюстрациях Ореста Верейского.
Когда художник принялся за иллюстрацию романа, он видел прежде всего Анну, при этом Анну, которую любил Толстой. В письмах Льва Николаевича есть строки, где он описывает, как умирали ого малолетние дети, описывает с превеликой болью и одновременно с толстовским бесстрашием. В этом ряду – и смерть Анны. Наверное, писатель сделал это неосознанно, однако выдав истинное отношение к героине романа: он любил Анну. Цельность ее натуры, ее храбрую суть, быть может, ее физическое совершенство. Наверное, ее красота была для него выражением ее душевных достоинств. Что есть письмо Толстого, как не плач по погибшим детям? Но этот горестный монолог нерасторжим у Толстого с гибелью человека, которого вызвала к жизни его писательская фантазия, – не тут ли весь художник, если не раб, то слуга воображения? И не об этом ли вечное пушкинское: «Над вымыслом слезами обольюсь»?
Первый круг работы Верейского: Анна. Конечно же художнику передалась любовь писателя к Анне – это все в рисунках Верейского. Есть в ней идеал женской прелести и доброты человеческой. Именно доброты, которая светоносна. Одно появление Анны способно высветлить лица людей. Рисунки Верейского, в которых возникает Анна, точно отразили это достоинство толстовской героини. Художник бережет состояние открытой симпатии к героине романа.
Как ни самостоятельна история Анны, как ни высоки крепостные стены, которыми эта история обнесена самой жизнью общества той поры, в романе постоянно слышится грохот чугунки, что развоевалась на российских просторах, грозя ворваться в жизнь Анны как отождествление неукротимой силы и, быть может, трагического исхода... Возможно, у первоначального толстовского замысла были иные пределы – роман виделся Толстому как произведение о падения женщины из общества. У этого замысла, наверное, были свои преимущества: в романе была цельность истории бытовой, это был замысел семейного романа. Но, как свидетельствует летопись жизни писателя, по мере того как Толстой углублялся в этот замысел, постигая все его ответвления, произведение как бы вырастало, становясь панорам нее, богаче по картинам жизни и проявлениям мысли.
Да иначе и быть не могло, если учесть, что в орбиту повествования были втянуты силы социальные, как и герои, представляющие эти силы: Каренин, Левин, в своем роде Вронский и Облонский. Они принесли с собой нечто такое, что требовало внимания к коренным проблемам бытия: я говорю о государстве и его коридорах власти, армии и офицерстве, проблемах пореформенной деревни, об отношениях помещиков и крестьян в новых условиях, земстве... Толстой не мог откреститься от этих проблем, они были сутью его жизни, сутью в такой мере, что в прототипы одного из главных героев романа он, в сущности, взял себя, дав картину своих раздумий, при этом такую полную, какую он, пожалуй, не давал ни в одном ином произведении.
Хочу думать, что Орест Георгиевич обратился к «Анне Карениной», имея в виду в немалой степени эту сторону работы Толстого над романом. То, что художник книги сделал в этой связи, представляет интерес определенный. Он как бы соотнес суть Анны с миром, ее окружающим. Анна точно распахнула дверь в этот мир, и он, этот мир, быть может, немало изумил ее, хотя она этот мир и знала. Казалось, все увиденное открылось ей – неоглядное в своей выси и шири, с российской огромностью и строго и красотой, населенное большим и разноликим народом. Изумляешься масштабом труда, который проделал Верейский: сотни, может быть, тысячи лиц, и у каждого свое существо, своя неповторимая натура. В человеке преломилось время – энциклопедия времени и жизни, города России, периферия, знатная сельщина и, разумеется, Москва и Петербург – зримые черты столиц.
Представляю, с какой тщательностью и усердием они, эти черты, собирались художником. Вот знакомый образ московской Волхонки, Невской набережной, если смотреть на нее от Академии художеств, Николаевского вокзала в Москве, Румянцевской библиотеки, Аничкова моста в северной столице... Как можно понять, выбор этот художнику диктовала натура, он делал только то, что смог рассмотреть воочию. Иначе говоря, как ни велики были масштабы работы, принцип соблюдался: если есть возможность рисовать с натуры, надо рисовать с натуры.
Говоря о масштабах созданного, не могу не спросить себя: сколько лет художник отдал этой работе? Помню, как лет восемь назад раздался звонок от Верейского: «А как дипломатия рассаживала за столом званых гостей? Кто, к слову, занимал место рядом с хозяином, когда супруга главного гостя отсутствовала?! Помню, что послал тогда Верейскому руководство по дипломатическому протоколу и, естественно, «рассадке»; автором книги был, по существу, протокольный департамент привередливого Кэ д'Орсэ. Наверное, забыл бы этот случай, если бы не взглянул на рисунок Ореста Георгиевича к «Анне Карениной», воссоздающий званый обед у Облонских. Рисунок дает представление о местах хозяев и гостей за столом столь точно, что, честное слово, может быть иллюстрацией и к пособию о «рассадке».
Сколько раз мы ловили себя па мысли: великое произведение, в частности, тем и велико, что ты возвращаешься к нему в течение всей своей жизни, умудряясь отыскать в нем нечто такое, что было скрыто прежде. Это новое потому и ново, что каждый раз сопрягается с сегодняшним днем: способность старой книги отвечать на вопросы сегодняшнего дня делает ее для нас всегда живой. Быть может, именно к этому сравнению надо обратиться, говоря о работе Иерейского. Конечно же он но первый иллюстрирует «Анну Каренину». В ряду тех, кто прикоснулся к толстовскому роману, были и Врубель, и Пастернак. Но вот что бесспорно: он прочел толстовский роман глазами нашего современника, живущего в восьмидесятых годах двадцатого века, и это отразила его работа, сообщив ей непреходящее значение. Но нарушив суверенных прав писателя, по понятным причинам неприкосновенных, Корейский как бы убедил ого обнаружить нечто такое в своем романе, что имеет отношение к дню нынешнему.
Кстати, работа Верейского в такой мере многообразно и зримо воссоздает лик времени, что, честное слово, может быть его энциклопедией. Интерьер столичного ресторана и перрон вокзала, ипподром и театральная ложа, витрина магазина дамского платья и мастерская художника, детская в доме Карениных я столовая в доме Облонских, фамильная карета и затрапезная пролетка, открытое поле в перекатах холмов, по-русски солнценосное, и равнинная гладь в островках белоствольных берез, с разноликой толпой, которую напрочь размежевала всесильная рознь... Все, что мы называли рознью всесильной, не обойдено Верейским, как не обойдено Толстым. Там, где Верейский сказал об этом свое слово, он сделал это в точном соответствии с духом толстовского романа, он не пошел здесь дальше автора, – может, поэтому все это так убедительно.
Вот хотя бы тот рисунок, где в открытом поле стоит пролетка с впряженной в нее четверкой лошадей цугом, и в пролетку поднимается Анна, которую и издали можно узнать по ее расклешенному платью. Но дело и не в Анне в данном случае, а в крестьянах, которые, полуукрывшись за телегой и на время отстранив косы, не могут оторвать взгляда от картины, вдруг представшей их взору. От телеги до пролетки сажен пять, а такое впечатление, что тут пролегли космические мили – разные планеты, да и люди точно с разных планет. И диво не в том, что крестьяне в домотканом льне, а баре – в заморских шелках, диво во взгляде крестьян, обращенном на бар: так вот можно смотреть только на тех, кто вдруг предстал перед тобой как посланец иного мира, совершенно иного.
И тут, наверное, было бы уместно сказать следующее: конечно, те, кто стоит у телеги, смотрят на бар, как на некое диво, но в этом взгляде, хочу думать, есть чувство собственного достоинства, которое всегда отличает человека-труженика – храброго достоинства. Впрочем, в серии рисунков Верейского, обращенных к крестьянам, как он их увидел в «Лине Карениной» есть еще один, по-моему, очень интересный: возвращение крестьян с поля. В стати крестьян, в их шаге, который показался мае торжественно-спокойным, во всем их виде, исполненном гордой силы, видится нечто такое, что поистине делает эту картину красивой, а человека прекрасным.
Думаю, мир толстовского романа, к которому вновь обратила нас талантливая работа Верейского, а это именно мир, большой и многообразный, не замкнется на работе Верейского, – не ясно ли, что ценность созданного определяется и его способностью будить интерес у тех, кто вдет вослед, обращать их умение и опыт к продолжению труда. Прав Белинский, который, говоря о том, что герои произведения талантливого не умирают со своими современниками, отмечал: «Каждая эпоха произносит о них свое суждение, как бы ни верно поняла она их, но всегда оставят следующей за ней эпохе сказать что-нибудь новое и более верное...»
Не раз я вглядывался в портреты тех, кто так или иначе возникает в жизни Толстого в нору его работы над «Анной Карениной»: автопортрет Ивана Николаевича Крамского, портрет Федора Васильева, писанный Крамским, и, конечно, портрет Толстого работы все того же Крамского, один из тех двух портретов, которые сделал Иван Николаевич в свой приезд в Ясную Поляну, – все портреты датированы началом семидесятых годов и отмечены чем-то таким, что было в воздухе времени. Кажется, что именно Крамской сообщил всем трем обеспокоенность, рожденную болью за судьбу происходящего, обеспокоенность, что была мукой и надеждой века.
Я вспомнил все это, когда обратил взгляд на героев толстовского романа, как их вызвало искусство Верейского. Если говорить о всей плеяде героев – Анна, Каренин, Левин, Вронский, Облонский, Кити, Долли, то точность жанровых характеристик, конечно, на стороне Каренина, Облонского, Кити, Долли. В Каренине, как его увидел Верейский, есть железность лица служилого, она, эта железность, в покатой спине, во впалых щеках, в худобе, которая, казалось, держит каренинский характер, помогая совладать с бедой, в каренинских руках, неподвижных и безнадежно повисших, в горящих глазах, – наверное, в них спеклась боль, но они просят о пощаде. Быть может, свои слова можно найти для характеристики Облонского, Кити, Долли – тут есть подробности типичные. Но мне хотелось коснуться здесь двух толстовских героев: Анны и Левина. В романе Левин едва не влюбляется в Анну, как навсегда остался к ней неравнодушен Толстой. Что-то есть в самой сути Анны, что склонило к ней симпатии Толстого и Левина. В известном диалоге Толстого и Крамского я отметил для себя такие слова: «Анна умрет – ей отомстится... Надо стараться жить верой, которую всосал с молоком матери, без гордости ума...» Вот о вере без гордости ума, а следовательно, о жажде совести, жажде того, что на совести стоит, как мне кажется, и поведал нам Верейский. И еще: у Верейского, насколько нам известно, ость тут своя концепция – он не сосредоточивает нашего внимания на лике Анны; он не показывает даже ее глаза. Но вот что характерно: мы видим Анну, видим настолько отчетливо, что кажется нам – открылись и ее глаза, которые художник скрыл.
Но к тому, что сделал Верейский на этом завершающем этапе своей работы, есть смысл добавить еще одно: речь пойдет именно об Анне. Во мнении общества за Липой тяжкий грех, и воля этого общества, воля подчас немая, но редкостно единодушная, отметила толстовскую героиню своим каиновым клеймом. Но у нас-то иное мнение об Анне. Конечно же в сцене, о которой уже шла речь в нашем рассказе, когда крестьяне, расположившиеся у телеги, вдруг видят в открытом ноле Анну, ость зримая межа, разделившая одних и других. Но ведь в той группе, где Айва, она одна единственная, и ее отличают от тех, кто рядом, душевное совершенство, ее целомудрие, в конце концов. Если же говорить о том, кто извечно был хранителем этой чистоты душевной, то конечно же это были не те, кто оказался рядом с Анной, а те, кто стоял сейчас у телеги... Да, это выражают и их лица: сколько в них душевной прямоты, естественности, незатаенного порыва, того чистого, что всегда было источником нравственности.
Не знаю, так получилось это у писателя или подсказано его замыслом, но физическое совершенство Анны является лишь зеркалом ее нравственных достоинств. И неравнодушие Левина к ней лишь отражает симпатии к ней автора. Если же продолжить эту мысль, то следует сказать, что есть тут некий триумвират: Анна, Левин, и конечно же Толстой. Вспомним, Толстой сказал в разговоре с Крамским: «Думаю, что художник звука, линии, цвета, слова, даже мысли в страшном положении, когда не верит в значительность выражения своей мысли...» Хочу думать – и в этом мне видится великое созидательное начало толстовского гения, – что писатель вызвал к жизни Анну и Левина, чтобы опереться на них в своей надежде, в своей вере в человека. Из тех редких достоинств, которыми обладает история, да к тому же, добавим мы, ставшая произведением искусства, редчайшее – дар провидения. Явив нам панораму жизни, а заодно и многообразный лик народа, Верейский не просто сблизил нас с теми из героев романа, на стороне которых симпатии автора, а помог постичь их.
МЫЛЬНИКОВ
Мой друг, побывавший на испанской войне и, к счастью, вернувшийся с нее живым, сказал: «Испания – это зеркало, надо только хорошо смотреть в него». Это было сказано в московское полуночье летом тридцать восьмого года в переулке, который носит ныне имя Серова. Кстати, Анатолий Серов, великолепный летчик и герой Мадрида, сидел рядом и слышал максиму товарища об Испании и зеркале. Хочу припомнить настроение той ночи и не могу отторгнуть от себя острое чувство опасности, которое ощутил тогда. Не помню, было ли в ту ночь помянуто имя Федерико Гарсиа Лорки, но позже, читая стихи Лорки, я не мог не вспомнить той ночи.
Судья с отрядом жандармов идет масличной дорогой.
А кровь змеится и стонет немою песней змеиной.
Так повелось, сеньоры, с первого дня творенья.
В Риме троих недочтутся и четверых в Карфагене...
В нашем сознании судьба русских юношей, вступивших на испанских полях в единоборство с фашизмом, сомкнулась с жизнью и борьбой испанского поэта, которого фашисты августовской ночью тридцать шестого года расстреляли на обочине дороги в восьми километрах от Гранады. Наверно, воспоминание о Лорке сегодня нам тем более дорого, что ого образ точно воссоздает свет добра и знании, который справедливое время сопрягло с самим ликом воителя-антифашиста, будь то испанец или русский.
Мне хотелось предпослать именно это вступление к разговору о триптихе, недавно увенчанном высшим злаком признания – Ленинской премией. Но тут есть резон обратиться к существу триптиха Андрея Мыльникова. Первое впечатление – оно объемлет произведение и представляется верным – триптих утверждает идею борющейся Испании, подвиг Испании, во многом трагический, но все-таки победоносный. Наверно, это тот род героизма, когда поражен но рождает победу и сама смерть причастна к рождению жизни, как у Мыльникова... Может, поэтому эпиграфом к триптиху могли явиться слона испанского поэта: «В других странах – смерть – это конец. Она приходит, и занавес закрывается. В Испании иначе. В Испании он поднимается».
Как ни аллегорична первая картина триптиха, она сильна тем, что опирается на испанскую традицию. В произведении, действие которого перенесено на землю Иберии, это необходимо не только для колорита; отсвет первой вещи как бы лег на все последующие, сообщив им истинно испанское звучание и, что еще более важно, собрав три части произведения в единое целое! Конечно, испанской темой, как и испанскими реалиями, пронизаны все три вещи, но эта, первая, как бы задает тон, и этому тону подвластен весь замысел.
Во второй части триптиха – суть произведения. И художник не отступил от собственно испанских реалий: католический крест, церковь с островерхой крышей и сомкнувшейся с нею звонницей, готика фонарей и башенки, венчающей крышу церкви с таким же, как на переднем плане, крестом, и... распятое тело юноши, сына Испании. Художник сказал свое слово, но мы все еще слышим голос художника. «Всмотритесь пристальнее: видите красно-синие дымы за церковью? Те, кто ведут бой, оружия не сложили – борьба продолжается...»
И третья часть триптиха: Лорка. Кажется, в точном соответствии с хроникой смерти поэта: августовской ночью тридцать шестого расстрелян на обочине дороги в восьми километрах от Гранады... Но видение художника, его воображение сообщили картине смерти силу необыкновенную. Помните, в тихоновском «Перекопе»: «Но мертвые, прежде чем упасть, делают шаг вперед»?
И человек будто напряг силы, чтобы сделать этот шаг: вон как запрокинул голову в крике, быть может в немом крике, как распростер руки, пытаясь удержать равновесие!.. Да не являет ли его фигура тот же крест, крест-символ, на котором враг стремился распять республику? И вот эта распахнутая куртка, обнажившая грудь, которой, казалось, поэт принял всю немалую меру свинца, что отвесили ему недруги, – да не знак ли это неодолимой стойкости человека, его верности идеалу?
И последнее, что хочется сказать о триптихе: помните эту женщину с младенцем, что встала рядом с распятым? Вон какого труда ей стоит сделать шаг от креста, но тем крепче она прижимает к груди младенца: в нем – жизнь, надежда – тоже в нем. Как мы понимаем художника, он сказал об этом с той определенностью, которая все ставит на свои места: речь идет именно о жизни и надежде. Стоит ли говорить, что философия замысла, как я его исполнение художником, отразила тревоги и устремления сегодняшнего дня – тем полнее это воспринимается нашим разумом и сердцем, тем большее впечатление это производит. Но вот что характерно в этом образе мадонны: вызвав этот образ к жизни, художник будто обратил взгляд к тому, что он делал в течение всей своей жизни в искусстве, – я говорю об образе добра, а может быть, и любви, а в конечном счете об образе торжества жизни, как это возникло в полотнах художника и, в сущности, перешло из картины в картину.
Для того цикла работ, о котором идет речь, быть может, характерной является композиция «Сестры», написанная художником в 1967 году, работа, в такой мере воссоздающая естественное состояние человека, будто бы художник перенес происходящее в картину, поистине ничего не убавив и не прибавив. О чем же художник рассказал в картине? Да, на картине действительно сестры, а если быть точным, то три сестры. Старшая держит на руках младенца, и во взгляде ее, обращенном на зрителя, не ищу иных слов, озарение, да, то особое выражение, какое вдруг появляется во взгляде молодой матери, – свет неизбывной радости, может быть, даже счастья – ей еще предстоит постичь чудо происшедшего. Но психология замысла во взглядах и остальных двух сестер – средней и младшей. Сложные чувства владеют сейчас средней – ей едва ли не столько, сколько молодой матери. Тут и радость, правда, скрытая, и печаль, готовая прорваться наружу, и чуть-чуть зависть. Может быть, девушка как бы отпрянула от сестры, может быть даже отстранилась, чтобы взглянуть на старшую и ее младенца со стороны. Допустишь мысль: в расстоянии, даже небольшом, если не исцеление, то облегчение – оно умеряет боль. Если средняя сестра постигла происшедшее, ей все понятно, то младшая отдала себя во власть раздумий нешуточных: для нее случившееся еще полно тайны. Она напрягла душевные силы, пытаясь решить задачу, которую столь внезапно и, пожалуй, жестоко поставила перед нею жизнь. Если она не спрашивает старшую о происшедшем, то только потому, что понимает: той не до нее – она вся во власти радости материнства.
Ну, разумеется, перед нами психологический этюд, в котором драматургически острая коллизия сочетается с целой гаммой полутонов в настроении героев, – так или иначе, а картина хороша своей душевной усложненностью – чем больше ее читаешь, тем больше она привлекает твой взгляд и твою мысль. Но мне хотелось в этой связи сказать еще об одном. В точном соответствии с колоритом картины, исполненным мажорных червонно-золотистых красок, на нас глядит здоровые люди, пафосом жизни которых, как нам видится, является труд. Ну, разумеется, непосредственных признаков тут нет, и все-таки как эти признаки угадываются: вон какой физической и душевной силой дышат сестры, как хороши они внешне, как сильно в них стремление к полноте бытия, которое в данном случае они связывают со счастьем старшей сестры, что понять можно. Таким образом, приковав наше внимание к чисто бытовому эпизоду – рождение у старшей сестры первенца, – художник вышел за пределы этой темы, показав неизмеримо большее: нашего современника, для которого началом всех начал является семья, духовная близость к, конечно, основа благополучия – труд. Выскажу мнение, быть может, сугубо личное: художник мог бы показать этих людей, как обычно их показывают, просто в процессе труда, но тогда вряд ли картина в такой мере обнаружила бы характеры персонажей, как это обнаруживает работа Андрея Мыльникова, а внимание к характерам – это уже черта художественности.
Говорят, наблюдая природу, человек постигает себя. Возможно, это и так, но верно и иное: в природе – вечный пример прекрасного. Стоит ли говорить, как благодарно для человека прикосновение к тому истинному, что несет с собой природа. Неисчислимы ценности, которыми природа способна одарить человека. Не ясно ли, что в природе кладезь доброты, а может быть, и ума, логики ума, которую сотворил тысячелетний труд природы, – суть того, что тут вызвано к жизни, еще долго будет питать нашу страсть к познанию. К чудо-талантам природы, наверно, надо отнести и ее дар возвращать всему живому силы; сохранить природу – значит сохранить этот дар исцеления. Быть может, философия того, что мы зовем единством человека и природы, – в этом. Разрушить это единство – значит поднять руку на все живое, и прежде всего на человека.
Мне представляется, что цикл работ Мыльникова, в которых человек воссоздан в общении с природой, этот человек только внешне обособлен. На самом деле он возникает из самого существа жизнелюбивого искусства художника, зримым знаком которого является уже упомянутая нами формула: в природе – вечный пример, прекрасного. В свете сказанного я хотел бы взглянуть на картину Мыльникова «Утро». В самом замысле художника, расположившем на переднем плане обнаженную натуру, есть смелость, но это должно быть поставлено художнику в заслугу, ибо известен окончательный результат – картина удалась. Не надо обладать прозорливостью, чтобы рассмотреть в картине недюжинное философское звучание: наверно, прекрасное настолько в самой сути природы и человека, что, даже соединив в какой-то мере произвольно великолепный образец пейзажа и человека, художник смог выказать это нерасторжимое единство!.. В этом я вижу смелость мастера, расчет и в немалой степени уверенность в своем профессиональном умении. Тут я не голословен: именно уверенность. Как ни самостоятельны природа и обнаженная натура, они в нашем восприятии цельны и по той причине, что художник с превеликим умением решил проблему колорита картины. В картине торжествует сине-зеленая краска – цвет озерной мглы, а может, и кочующих сумерек. Конечно, это не цвет женского тела, но автор сообщил эти краски и обнаженной натуре и достиг эффекта убедительного. И дело не только в том, что сине-зеленые сумерки несут настроение, которое поселяет нас не столько на грешной земле, сколько над грешной землей, что, хочу предположить, необходимо картине на столь необычный сюжет. Не только в этом, но и, как было сказано, в цветовой цельности природы, это отнюдь не праздно.
Но «Утро» – всего лишь запевка к циклу, объединенному одним философским и художническим замыслом. В этом цикле, в частности, две работы Мыльникова, в которых художник вызвал образ русской мадонны, воссоздав его на единственно возможном в этом случае фоне – на фоне русского леса. Сказал «на фоне» и подумал, что это не так, у Мыльникова не так. И тут, как в «Утре», человек воссоздан в нерасторжимом единстве с природой – она, эта природа, не просто высветляет или оттеняет образ человека, она смыкается с человеком, образуя нечто сущее, название которому Жизнь, Земля, Люди. И наверно, не случайно, что природа дана в восприятии матери, – если есть абсолютная чуткость в постижении прекрасного, окружающего нас, то она в способности матери воспринимать это прекрасное – сама природа одарила мать этой привилегией.
Мне особенно запомнилась композиция художника, которую он назвал «Ясность». Как и в «Утре», великолепно написанный пейзаж, очень русский, с недвижимой «водой озера, а может, и залива, с ярко-зеленой травой, по всему – весенней, с березами и, разумеется, молодой женщиной – на руках у нее младенец. Природа и человек – не в этом ли ясность и, пожалуй, вечность? Пейзаж пронизан светом, неярким, но делающим все вокруг негасимым, и женщина в темной блузе не гасит нашего внимания – все в ней, в этой женщине. Это сделано художником свободно, без видимого напряжения, вот впустил женщину в картину, и получилось нечто такое, что родит изумление. Женщина, как обычно у Мыльникова, хороша: есть в ней, в ее тонком стане что-то от молодых берез, возникших рядом. Подобно «Утру», картина символизирует бестрепетность природы, ее бессмертие и, конечно, ее нерасторжимость с человеком. И оттого, что эта красота отлилась так совершенно, тревога не может не коснуться сердца: да неясно ли, что в самой этой красоте вызов тому зловещему, что возникло на земле... Предостережению художника, казалось бы, сопутствуют тишина и ясность, всего лишь тишина и ясность, но это тот род предостережения, который способен вздыбить сердца.
И вот таинство искусства: не знай мы иных работ Андрея Мыльникова, обращение художника к испанскому триптиху выглядело бы взрывом, который так необычен, что при всем желании его не соотнесешь с тем, что Мыльников делал прежде. Но такое представление о Мыльникове обедняет сам образ мастера, каким сформировали его время и поиск в искусстве. У истоков пути художника была знаменитая «Клятва балтийцев»; одной из работ, венчающих этот путь, – незабываемое «Прощание». И одна работа, и другая, как мы воспринимаем их сегодня, звучат обетом верности всем, кто отдал жизни за нашу победу, и, конечно, наказом нашим сынам и внукам хранить свет этой победы. В «Прощании» мне привиделось нечто такое, что для Мыльникова было преемственным и что воспряло у художника с темой материнства. Темой вечной, а поэтому всеобщей, на которой покоятся нравственные устои человечества. Нравственные и по этой причине социальные. «Прощание» способно обратить ноше сознание к тому, что поселилось с войной и никогда не умрет. Признаться, мне припомнилась война одна ли не в самом ее трагическом выражении: старея женщина, уже увидевшая тот берег, должна принять горе гибели сына, самим дыханием которого она до сих пор жила, – ничего нет для человека страшнее. Если есть момент в жизни человека, когда он должен оборвать узы, которыми скреплен с другим человеком самим первородством жизни, самой природой, то этот момент здесь.
Закономерно, что тема материнства своеобычно преломилась в испанском триптихе. Если символ, то символ живой крови, жизни, надежды. Философия художника гуманна и в высшей степени действенна. Она утверждает один из самых важных принципов коммунистической нравственности: я говорю об интернационализме, а это значит – о национальном равенстве, об уважении одного народа к другому, о той форме социального и национального сплочения, которая единственно способна противостоять апокалипсису всемирного пожара. Так в моем сознании «Утро» и «Ясность» смыкаются с идеей испанского триптиха Андрея Мыльникова.
В этом, как я убежден, неумирающий смысл того, что сделал художник.








