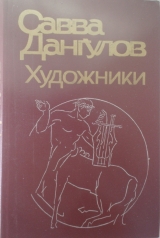
Текст книги "Художники"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 60 страниц)
Казалось бы, когда путь художника измеряется десятилетиями, он не имеет права в семидесятых годах работать в той манере, в какой он работал в тридцатых. Возможно, это мнение и резонно, но оно должно быть реализовано осторожно.
Манера, как бы заявленная художником, не привносится извне, она возникает из самого существа его натуры, она для него органична. Поэтому каждый новый шаг истинный художник сверяет с этим своим существом, нерасторжимым. Быть может, так возникло то новое, что обнаружил Кибрик в иллюстрации к «Борису Годунову», а затем своеобразно преломил в другой работе, по-своему новаторской, – мы говорим о рисунках к повести Гоголя «Портрет». Художник скажет об этой работе:
– На мой взгляд, это лучшая книга о художнике в мировой литературе. Проблема повести – смысл жизни художника, призванного природой своего дела посвятить себя целиком искусству. Измена этой цели ради блага и радостей жизни трагически кончается потерей таланта, а вместе с тем и жизненной катастрофой художника.
Возможно, здесь есть своя закономерность: повесть Гоголя, с неумолимой верностью обнажившая проблему совести художника, сомкнулась в сознании Кибрика с его собственными раздумьями о жизни в искусстве, о пройденном пути. В своих рисунках художник мог и не пережить трагедии Чарткова, но и на его пути, конечно, встречались судьбы, отдаленно напоминавшие чартковские. Поэтому хотел того Кибрик или нет, работа над «Портретом» не отвергала и современных ассоциаций – кибриковские рисунки могли прямо и не говорить об этом, но в них были и недвусмысленный укор в адрес гоголевского героя, и осмысление его жизненных и художнических заблуждений, и, возможно, верность тем идеалам, которые, слава всевышнему, ничего общего не имели с чартковскими. Быть может, мы чуть-чуть усилили наше впечатление о кибриковских рисунках к повести, но если работа над рисунками к «Портрету» вызвала у художника в какой-то мере аналогичные ассоциации, это естественно.
Автолитографии к гоголевскому «Портрету», вначале десять больших настенных, затем сорок пять иллюстраций к книге, призваны раскрыть главный философский смысл повести: потеря таланта. Наверно, это одна из тех тем, которые, будучи актуальны в гоголевское время, не утратили своей остроты и сегодня. Слава? Одному она прибавляет требовательности, умения, таланта, ума. У другого она все это последовательно отнимает, приводя к краху, который тем более сокрушителен, чем самозабвеннее было опьянение славой. Перспектива стать модным одних привлекает, других страшит.
В том, что сделал Кибрик, иллюстрируя гоголевский «Портрет», есть добрый сатирический заряд. Да, это сатира на человека, который, решившись стать художником, обнаружил качества, искусству противопоказанные: легковерность и легкомыслие, а также неспособность к подвижническому труду, без которого нет искусства. Как ни верен образ Чарткова, созданный Кибриком, как ни точно соотнесен этот образ с гоголевским рисунком характера и эпохой, мы, зрители, видим в нем нашего современника, этакого преуспевающего молодого человека от живописи, как, впрочем, не только от живописи – от литературы, театра, музыки... Да, он именно один из тех, кто «живой в душу лезет», – надменно-самоуверенный и одновременно согбенный в своем подобострастии, в угодничестве своем. Жизненная и художническая философия Кибрика, где восхождение было медленным, а каждый новый шаг страховался подвижническим трудом десятилетий, должна была предполагать активное неприятие таких, как Чертков» – для него гоголевский герой – антагонист. Быть может, отчасти этим объясняется, сколь непримирим художник в своем неприятии Чарткова, сколь он к нему безжалостен в своем смехе, – Чартков, увиденный Кибриком, самонадеян, спесив, пуст и, в сущности, жалок. Наверно, чартковская одиссея была необходима Кибрику, чтобы высказаться по столь насущному вопросу: для него цикл рисунков к «Портрету» – это и немая реплика по остроактуальному вопросу, и исповедь, и, быть может, возможность утвердить принципы для художника священные. То, что это совпало с подведением некоторых итогов, а возможно, и известной ретроспекцией жизни Кибрика в искусстве, сообщает иллюстрациям к «Портрету» свой большой смысл.
6Еще в «Борисе Годунове» портретное решение иллюстраций к драме Пушкина художник старался сочетать с многофигурными композициями. Художник считал это для себя тем более обязательным, что, как свидетельствуют ремарки Пушкина, он не только не обходит участие народа в происходящих событиях, он особо это подчеркивает. Сценам на Красной площади, на Девичьем поле Новодевичьего монастыря, на площади перед собором в Москве, да, по существу, у Лобного места, предпослана краткая, но красноречивая авторская ремарка: «Народ».
Именно в связи с этими сценами Белинский сказал о народе свои вещие слова: «Удивительное существо – народ!.. Он непогрешительно истинен и прав в своих инстинктах: если он иногда обманывается с этой стороны, то на одну минуту – не более, и кто не любит его по внутренней, живой, сердечной потребности любить его, тот может осыпать его деньгами, умирать за него, – он будет им превозносим и восхваляем, но любим никогда не будет. Если же кто любит его не по расчету, а по внутренней инстинктивной потребности любить, то может идти вопреки всем его желаниям, – и за это народ будет его осуждать, будет на него роптать и в то же время будет любить его...»
Да, пушкинская ремарка красноречива: «Народ».
Художник, иллюстрирующий «Бориса Годунова», не вправе игнорировать эту ремарку – композиции, к которым обратился художник, подсказаны этим требованием. Но это были именно композиции, в которых было свое решение, как, очевидно, и своя психологическая задача – психология народной массы, мятежной, гневно протестующей, больше того – негодующей, а подчас и сражающейся. Обратившись к многофигурной композиции, художник обрел единственную в своем роде возможность реализовать начала своего философского труда, посвященного композиции. Наверно, у художника, обратившегося к многофигурной композиции, много задач, но едва ли не главная – естественность. Да, всесильная натуральность, воссоздающая образ массы с той покоряющей убедительностью, которая начисто исключает сомнения. Собственно, речь шла о картине черно-белой, но тут уже сказывалась природа художника-графика, а коли о картине, то одно это означало для художника новое качество, новый поиск, новое решение.
Художник скажет со временем:
«Последние годы я увлекался темой народа, объединяемого одним состоянием, настроением... Трудна не только многофигурная композиция, которой я никогда ранее не занимался, но и форма, к которой я обращаюсь впервые, – картина. Я сознательно упростил для себя задачу – отказался от колористической стороны, обратив все внимание на идейно-образное решение темы. Я задумал сделать четыре небольшие картины под общим названием – 1917 год...»
Четыре картины – это, в сущности, четыре главы своеобразной поэмы о революции.
В первой – митинг на Невском утром 24 ноября, в канун восстания, – пасмурное утро, рассветные сумерки, тревожная толпа, ощутимо стелющийся туман (как свидетельствует хроника, утро действительно было туманным). Во второй – петроградская ночь, освещенные окна Зимнего, цепь красногвардейцев, берущих дворец штурмом. В третьей – народ хоронит павших борцов. Подобно всему циклу, эта картина выдержана в суровых тонах. Единственное цветное пятно – красные гробы. Они, как стяги, плывут над толпой – в них неоглядная скорбь и призыв к борьбе. В четвертой – Ленин на трибуне Второго съезда Советов, произносящий свою знаменитую речь: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!»
Четыре картины – это именно четыре главы графической поэмы об Октябре, поэмы, исполненной строгой простоты, суровости, правды.
В этой серии неотразимо значителен и убедителен Ленин – есть в его фигуре и покоряющем жесте воля и убежденность вождя, обретшего счастье произвести: «Революция совершилась».
Надо отдать должное Кибрику, среди больших удач его гражданской музы есть произведение, на наш взгляд, редкой мощи и убедительности, воссоздающее образ Ленина. Я говорю о рисунке, который в каталоге обозначен текстовкой: «Ленин в подполье. Июль 1917 года». Читатель, разумеется, вспомнит этот рисунок. Поздний вечер застал Владимира Ильича за работой. Горит настольная лампа. Она освещает склоненную фигуру Ильича. В самой позе, найденной художником, нет нарочитости, она естественна и одновременно необыкновенно выразительна – в ней и напряжение этой минуты, и порыв, и энергия мысли... Такое впечатление, что художник подсмотрел этот счастливый миг в жизни Ленина.
Наверно, искусство политика по многом определяется чувством времени, ощущением момента. Ленин владел этим чувством. Он умел соотнести время и действие, приберегая удар к той самой минуте, когда возможности победы особенно велики. Наверно, этот поиск решения у Владимира Ильича принимал разные формы. Даже тогда, когда решение было очевидным, оно оттачивалось, принимая законченную формулу за письменным столом, в работе над рукописью воззвания, письма, проекта резолюции, текста листовки. Как мне кажется, Кибрик вызвал к жизни именно этот момент. Что-то значительное владело Лениным в эту минуту, что-то такое, что было насущно для великого дела, которому он отдал себя, – наверно, это был восторг самоотречения, единственная в своем роде минута вдохновенной мысли, подобная той, какую он испытал, когда его перо вызвало к жизни, например, Апрельские тезисы или текст знаменитого «Письма членам ЦК», написанного в самый канун Октябрьского восстания и начинающегося вещими словами: «Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно».
Хочет художник или нет, но в каждом рисунке, даже создающем образ вождя революции, где художник, казалось бы, должен напрочь самоотстраниться, он обнаруживает себя. В выборе темы, в манере, в незримых акцентах, которые он тут сделал, в самой атмосфере, которой он окружил своего героя, конечно же сказывается автор, строй его эстетических воззрении, его пристрастия, сам пафос его взглядов на искусство и жизнь, самое его существо – художническое, человеческое, гражданское. Да, это, наверно, парадоксально, но с этим нельзя не согласиться: рисунок, где художник начисто отсутствует, отражает его существо с поистине завидной полнотой и исчерпанностью.
Однако какое отношение все сказанное имеет к рисунку «Ленин в подполье»?.. Наверно, в кругу тем, отражающих многогранную личность Ленина, ни одна так не близка сущности самого художника, как эта: Ленин, увлеченный пафосом подвижнического труда. Я подумал об этом, когда, обозревая большую кибриковскую выставку, попал в периферийный зал, где художник впервые как бы раскрыл зрителям лабораторию мастерства – многие десятки, а может быть, к сотни набросков, предваряющих работу над картиной, кстати, на тему ленинскую.
Художник со временем скажет:
«То одержимое состояние, в которое приходишь в погоне за ускользающей мечтой, приводит к тому, что все время хочешь большего, лучшего, чем удается сделать, и иногда не можешь уже остановиться, делая все новые и новые варианты. Как-то я решил сосчитать, сколько накопилось вариантов головы Бориса Годунова. Я думал, что их двадцать – тридцать, не больше. Оказалось 1291. Вот на это иногда уходят годы...»
Ну что ж, вот эта неудовлетворенность, когда все кажется недостаточным и несовершенным, наверно, как раз и близка тому пределу, который зовется искусством. Как ни далек этот предел, стремление к нему для художника всегда благодатно.
Все это хочется вновь и вновь утвердить, когда думаешь о нелегком пути, который прошел художник Евгений Адольфович Кибрик.
ЖУКОВ
Наверно, художника надо смотреть в выставочном зале. Так, чтобы был вернисаж. И доброе слово маститого коллеги. И речь именитого доброжелателя. И восторженная толпа. И стрекот кинокамер, и робкое пощелкивание фотоаппаратов. И многоцветье каталогов и буклетов. Наверно, художника надо смотреть в выставочном зале, но я предпочитаю иное. В этом случае посреди мастерской ставятся два грубо сколоченных табурета – один на свои четыре ноги, другой ножками вверх. На первый усаживается гость, у второго становится художник. Опрокинутый табурет служит своеобразным мольбертом, впрочем, табурет устойчивее и, пожалуй, неприхотливее мольберта, если надо опереть на него не один десяток подрамников с холстами, листы картона и ватмана.
Итак, импровизированный вернисаж начался. У художника, разумеется, есть свой план показа. Он знает, с чего этот показ начать и как разнообразить, когда «выставить» черно-белые рисунки, а когда акварели. У тебя уже давно возник диалог с художником. Как ни скуп он на слово (к тому, что сказала его кисть, ему часто нечего добавить!), его нещедрое, но неизменно точное слово очень тебе необходимо.
Именно так я смотрел работы Николая Жукова. Смотрел его знаменитые циклы, все они были мне интересны. Военные тетради. Нюрнбергский процесс. Итальянские партизаны. Братья художники. Писатели. Актеры. Иллюстрации к книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Дети в нашей жизни (Жуков любил рисовать детей)... Но не только это и, пожалуй, не столько это. Все это было лишь подступами к теме, которой суждено было определить жизнь художника в искусстве.
Первая работа. Нет, не просто цикл, посвященный Марксу, а цикл иллюстраций, цикл графических работ, иллюстрирующих книгу воспоминаний о Марксе. Впрочем, рисунки были вызваны к жизни книгой и с книгой связаны, но позднее как бы книгу покинули и зажили своей собственной жизнью. Сегодня это самостоятельный цикл – Маркс.
Как ни своеобразны эти циклы, есть одна черта, которая их объединяет: это этапы мировой истории и истории отечественной. В том случае, если бы, например, возникла книга-монография о минувшей войне, рисунки художника могли бы войти в нее как нечто органичное. Следовательно, это художник исторической темы, раскрывающий существо событий и людей, чьей мыслью и энергией живет и развивается время. Однако ни один цикл художника не объял и не воплотил историческое начало так полно, как его главный труд – Ленин.
История. Глубоко убежден, что зрительный образ Ленина, каким его воспримет грядущее время, будет складываться не только из того, что воссоздали кино и фото, но и из того, что сотворили люди искусства – художники Андреев, Иогансон, актеры Щукин, Штраух, Плотников. Конечно, фотография и кинолента обладают достоинствами бесценными, однако произведение искусства, если оно подлинно, добудет такую глубину, которую способно добыть лишь оно. Наверно, в ряду тех наших художников, чей труд был здесь плодотворен, свое большое место займет и Жуков.
Я сказал – исторический художник... Но главное тут не столько в характере темы, которая по всем признакам является исторической, сколько в том, какими чертами отмечен человек, которому работа посвящена. Если это человек такого размаха и такой силы интеллекта, как Ленин, то наивно думать, что эту задачу можно решить без того, чтобы твоя работа не стала исследованием. Вот почему работа художника, создающего Лениниану, это в какой-то мере и работа ученого. Если образ Ленина – это мысль Ленина, то источником, питающим творчество художника, должны быть сочинения вождя: нет, не только книги и доклады, но не менее важны записи и письма – они в большей мере личны. Однако даже удачно найденная тема не может стать произведением искусства, если она не стала образом человека. И художник отправляется на поиск по дорогам, которые когда-то были и дорогами его героя, а что есть поиск, если не исследование? Эти дороги и многотрудны, и извилисты: это не только, к примеру, невские набережные или кремлевские площади, но и улочки лондонского пригорода, залы Британского музея, Гайд-парк... Художник знает, что Ленин был здесь, но надо увидеть его так, чтобы все остальные поверили, что он здесь был. И есть закон правды: убеждает лишь знание предмета, деталь, неопровержимо свидетельствующая – это было так, а не иначе.
Деталь. У Жукова есть рисунок необычный – «Солдатские ноги». Да, множество ног, обутых в солдатские опорки. Художник тщательно выписал эти опорки. Видно, как они износились на ухабистых, каменистых, пыльных дорогах войны. Взгляни на эти ноги и поймешь, как нам было худо... Если бы Жуков писал батальные полотна на батальные темы, то надо было воссоздать только эту деталь, чтобы зритель понял: художник не мог это выдумать, он это видел. Если полистать рабочие тетради художника, наверно, можно отыскать там и вековой дуб на лондонского Гайд-парка, и читательский столик из Британского музея, и рисунок смольнинского окна, и торцовое покрытие кремлевских площадей, и рисунки тесаного камня, который укрыл площадь... Казалось, что в этом примечательного – камень?.. Но это тот самый камень, из которого выстраивается создание искусства.
Мысль. Жуков сделал полторы тысячи рисунков Ленина.
Я видел те из них, которые показал мне сам художник. Они относятся к разной поре в жизни Ленина, обнимают разные стороны ого натуры, показывают Ленина во всем разнообразии состояний человека, но, по мне, лучшие ид них те, где показана суровая простота в облике Ленина, где воссоздан Ленин-вождь, а следовательно, воитель революции и мыслитель. У меня есть тут свое объяснение удачи художника. Уверен, что существо Ленина – это мысль Ленина, его способность проникать в суть, его дар анализа, а следовательно, предвидения. Ну, например, вот этот простой и емкий рисунок – «Истина». Молодой Ленин полураскрыл книгу, удерживая страницу, которая взволновала его. Возможно, это книга Маркса, а быть может, Чернышевского или Плеханова. Книга дала толчок мысли Ильича: вот она, истина, которую он искал... Ее бледный свет едва забрезжил, она только-только обозначилась, но как она обнадеживает, как много обещает. «Вот она, истина!» – точно шепчут губы Владимира Ильича. Рисунок сделан тушью. Он выразителен потому, что лаконичен: из тьмы выхвачено только то, что объясняет суть, – руки с раскрытой книгой и лицо, вернее, верхняя его часть – глаза, полные тревоги и радости, – истина! Не думаю, что успех тут дался художнику легко. Художник, отважившийся на то, чтобы показать такого Ленина, должен быть очень смелым человеком. Почти уверен, что успех тут обретен в итоге труда титанического, ибо это тот самый случай, когда одним талантом ничего не сделаешь, а необходимо... Впрочем, что тут необходимо, вопрос особый и требует особого разговора.
Зрелость. Благодарно сравнить два цикла – Маркс и Ленин. Даже глазу неискушенному видно: второй цикл в большей мере приближен к бедам и радостям земли, он, этот цикл, строже, жизненнее. Почему? Нет, не только потому, что первый сотворен молодым Жуковым, а второй но столь молодым. Не только поэтому. Вернее, не столько поэтому. Причина в другом – между первым и вторым циклами была война. Да, Ленин увиден художником, который был на войне. Он увиден глазами нашей великой беды и нашего великого опыта. Казалось, какое отношение могут иметь к ленинской теме все эти жуковские циклы – «Солдаты», «Нюрнбергский процесс», «Пленные», «Партизаны»? Оказывается, самое прямое!.. Вот эта суровая сдержанность в облике Ленина, раздумье, трудная мысль но дадутся художнику, за плечами которого не было опыта жизни, а война сгущает, конденсирует опыт жизни.
Для художника, работающего над образом Ленина, независимо от того, актер он, писатель или график, бесценна андреевская Лениниана. Нет, но потому лишь, что Андреев и лепил и рисовал Владимира Ильича с натуры, и в силу того, что он проник в существо образа: ость в андреевском Ленине спокойная мудрость вождя, вопреки всем ненастьям века уверенно смотрящего вперед. Если этот образ убеждает, то прежде всего своей естественностью, своей человечностью. Кстати, уровень постижения человека, каким обладал Андреев, был очень высок – об этом говорят некоторые его работы, в частности скульптурные портреты Островского и Гоголя. У Андреева Ленин сосредоточен, нерасторжимо-собран, хотя и не напряжен, – повторяю, спокойная мудрость владеет вождем... Но то, к чему Андреев пришел, общаясь с Владимиром Ильи чем, художник, работающий над образом Ленина сегодня, приходит дорогой многотрудной. Тем поучительнее, что итоговая мысль близка андреевской. Что это за путь и что это за мысль?
Жуков писал об андреевской Лениниане: «Все скульптуры Андреева отличает одно общее свойство: они передают то, что можно схватить в наброске, – промежуточное движение. Благодаря этому зритель ощущает как бы живого Левина». Жуков стремился воссоздать живого Ленина, ухватив именно это «промежуточное движение». Обладая даром воображения, Жуков стремился увидеть Ленина таким, каким его видели те, кто имел возможность наблюдать его близко, – то, что можно было назвать «промежуточным движением», пожалуй, лучше их никто не знал.
«К себе» и «от себя». Жуков вспоминает свой в высшей степени интересный разговор с Бонч-Бруевичем, известным деятелем революции и управляющим Совнаркома. Увидев рисунок Жукова, на котором Ленин изображен с «застывшей, напряженно вытянутой рукой», собеседник художника сделал вывод, что Жуков не видел живого Ленина. Реплика Бонч-Бруевича, которой он сопроводил это свое замечание, столь характерна и в такой степени отвечает сути нашего разговора, что есть смысл воспроизвести ее полностью. «Верно, бывало, когда Владимир Ильич, выступая, обращался в зал, выставляя вперед руку, чтобы правильно поставить акцент в речи, добиться большего контакта со слушателями, – сказал Бонч-Бруевич. – В движениях Ленин был очень подвижным, искрящимся. Но жесты его были мягче, красноречивее, точнее, они были как бы «к себе», а не «от себя», и именно в этом их характерная особенность. Жест «от себя» характеризует человека самоуверенного, эгоистичного, а вы знаете, что Ленин таким не был».
По словам Жукова, это замечание Бонч-Бруевича имело для него большое значение. Мысль Бонч-Бруевича о ленинских жестах «к себе» и в высшей степени важный вывод, который сделал художник, изучая андреевскую Лениниану, в сознании художника как бы отождествились и оказались для художника плодотворными. Именно плодотворными. Многие работы Жукова потому так убедительны, что воссоздают Ленина в ходе его каждодневных дел и как бы сделаны с натуры.
Но что значит «как бы с натуры»? Как ни совершенна способность художника мыслить зримо, эта способность беспомощна, если не опирается на звание материала. Как подсказывает опыт художника, многое могут дать свидетельства современников.
Воспоминание. Говорят, что успех беседы зависит от рассказчика: талантлив рассказчик – и беседа удастся, бесталанен – беседа неминуемо потерпят крах. Конечно, рассказчик – это важно, но не менее важен талант того, кто вызвал рассказ. У Жукова был дар расположить рассказчика к такому рассказу. Среди тех, с кем Николай Николаевич беседовал о Ленине, сам художник выделяет Глеба Максимилиановича Кржижановского. Художник однажды долго беседовал с Кржижановским, показав ему шестьдесят своих рисунков и выслушав замечания Глеба Максимилиановича по каждому из них. «Внешность Кржижановского была такова, что в продолжение двух часов моего пребывания я испытывал страстное желание рисовать его самого, – вспоминал позднее Жуков. – Сухощавое, очень подвижное, пергаментного цвета лицо с глазами, впитавшими в себя жизнь века, поразило меня своей мудростью. Глаза его были настолько выразительны, что они поглотили все...» Я знал Кржижановского и готов подтвердить: жуковское наблюдение, по-моему, очень верно, особенно вот это: «...пергаментного цвета лицо с глазами, впитавшими в себя жизнь века...»
В течение тех двух часов, которые Жуков пробыл у Кржижановского, ему надо было не просто показать рисунки Глебу Максимилиановичу и попросить их своеобразно отрецензировать, но сделать иное, может быть более важное: склонить почтенного собеседника к разговору, который бы дал возможность художнику увидеть живого Ленина. Конечно, возможности одной беседы даже с таким лицом, как Кржижановский, ограниченны, но тем более важно было склонить его к разговору о живом Ленине. Задача была непростой, но Жукову удалось ее решить. Смысл его вопроса к Кржижановскому можно было определить так: «Если вам надо было дать представление о живом Ленине, как бы вы это сделали?» Видно, этот вопрос ставился перед Кржижановским и прежде, по крайней мере было впечатление, что у него не было необходимости импровизировать. «Вот артист Плотников в Вахтанговском театре... Слышали? Разгадал тайну Ленина. Он просто, как бы сам но замечая, ткнет палец вот так – в карман жилета или пиджака, и я вижу – передо мной Володя... Из всех актеров, которых я видел, Плотников наиболее близок к истине... В пьесе «Человек с ружьем» я его без слез смотреть не мог – стоит передо мной живой Ленин...» Кржижановского обмануть не просто. Если Плотников убедил его, значит, есть резон присмотреться к актеру пристальнее. Ну, разумеется, эта особая похожесть – плод труда и таланта актера, итог мук творческих, результат поиска, но что-то есть и органическое, свойственное первоприроде Плотникова. Именно поэтому Ленин в исполнении этого актера стал предметом особого интереса Жукова. Быть может, та многогранность мысли и настроений, которую несет у художника Ленин и которую вернее всего надо было бы назвать пластичностью образа, подсказана в какой то мере и наблюдениями, которые сделаны в театре. Однако, как ни совершенен был метод накапливании и осмыслении материала, которым обладал художник, он, этот материал, мог бы лечь мертвым грузом, если бы мастер не сумел претворить его в жизнь.
Портрет. Кстати о пластичности. Если пластичность в изобразительном искусстве – это естественность и выразительность в своем наиболее органическом сочетании, то на пути к ней, как полагал художник, есть одно средство, действенное. Нет, не просто безупречное владение рисунком, владение виртуозное, которое художник совершенствовал каждодневно. Когда листаешь его тетради, создается впечатление, что он вырабатывал в себе способность уметь рисовать все, что его окружает. С рабочих тетрадях Жукова не было второстепенного. Следовательно, не просто владение рисунком, а умение рисовальщика-портретиста, способного наблюдать натуру, мгновенно и точно ее воспроизводить. Не знаю, устраивалась ли когда-нибудь выставка портретов, созданных художником, всего лишь портретов, но, если бы такая выставка была устроена, она, как мне кажется, была бы интересной – здесь художник очень силен. Характерная черта этих портретов, – нет, не только тех, которые вынесены на холст и писаны маслом, но и портретов-эскизов карандашом, тушью, – психологичность. Ты можешь не знать человека, но взгляни на его портрет, он тебе скажет то, что тебе неведомо, – тут будет не только характер, хотя характер – это уже много... Вот портрет Георгия Товстоногова, как мне кажется, типичный для портретного творчества художника. Наверно, портрет был сымпровизирован за час-полтора, это даже не портрет, а эскиз к портрету, но как он психологически интересен и как в нем много содержания. Ты можешь обращаться к портрету, открывая в нем все новое, а это уже что-то значит... Вот эта способность художника видеть натуру характерна для его карандашных набросков, сделанных в часы застолья, на писательских и театральных форумах, на встречах с коллегами-художниками. Сегодняшний день нашего искусства здесь представлен портретной галереей. Особенно значительна галерея товарищей по оружию, мастеров кисти и резца: Кончаловский, Кибрик, Меркуров, Нисский, Кокорин, Дубниский, Сойфертис... Художник осуществил свой замысел столь лаконичными средствами, что кажется – рисунки сделаны как бы с одного удара, и всюду присутствует сам художник, его внимательно-радушный, задумчивый или чуть ироничный взгляд. Так или иначе, а во всех рисунках воссоздан человек, и рисунок говорит о нем так много, как столь скупыми средствами ты не скажешь о нем ни в кино, ни в театре, ни даже в литературе, – поистине здесь карандаш художника всесилен.
Художник, чьи работы всегда были преимущественно черно-белыми, обращается к акварели. В этом – желание зрелого мастера раздвинуть пределы профессионального опыта. Но не только это. Жуков будто хочет сказать: «Я – художник, и мне это подвластно». В точном соответствии с природой акварели, сохраняя свойственную этим краскам способность воссоздавать оттенки света, Жуков подолгу ищет натуру для своих акварельных работ, полагая справедливо, что для водяных красок не каждая натура хороша. Когда возник замысел портретов итальянских партизан, художник решил: пришла пора акварели. И действительно, бронзоволикие люди, мужчины и женщины, чья одежда не боится ярких красок, выглядели на портретах Жукова в высшей степени колоритно. Видно, стихия красок увлекла художника, она показала Жукову, что здесь у него могут быть серьезные приобретения, и он не оставлял акварели и после возвращения из Италии. «Сделал в один сеанс! Как вам? По душе?»
Портрет, который показал мне Жуков, действительно был хорош – краски сильны, сочетание их мягко и натурально, сама фигура человека исполнена радости, рисунок дышал жизнью. Как пи праздничен был портрет, художник, увлекшись красками, не забыл главного: он сберег отношение к человеку, которого написал, этот человек ему был дорог...
Но кисть художника умеет быть и злой, я бы сказал – злой беспощадно. В течение нескольких месяцев изо дня в день художник работал в зале заседаний Нюрнбергского трибунала. Устроившись в глубине зала и вооружившись биноклем, он писал военных преступников... Жуков был свидетелем бед и жертв войны. Много и упорно он думал над тем, что явилось первопричиной войны и как велик след, который она оставила в душах людей. Все это предопределило его отношение к Нюрнбергу. Он понимал, что у него возникла единственная в своем роде возможность увидеть лицом к лицу тех, кто вызвал адов огонь и повинен в гибели миллионов. С неутомимостью и упорством, на какие способен художник, Жуков писал портреты подсудимых. Из того, что Жуков сделал в те дни, опубликована лишь малая часть. В архиве художника хранится серия рисунков, которые Жуков сделал по эскизам, вернувшись из Нюрнберга. Изображение преступников здесь намеренно шаржировано – в рисунках Жукова они глядят как бы из ночи своих злодеяний, в рисунках нет предметного фона, его заменяет тьма.








