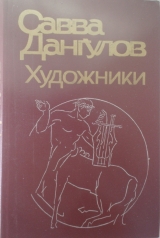
Текст книги "Художники"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 60 страниц)
В повести о комиссаре есть вставная новелла, короткая, но в высшей степени выразительная, – речь идет в ней о молодой крестьянке, местной уроженке, решившейся на предательство... Но прежде чем вернуться к этому эпизоду, есть смысл обратиться еще к одному воспоминанию.
Поздней осенью сорок третьего года, вскоре после освобождения Харькова, в этом городе состоялся процесс над тремя немцами и нашим соотечественником. Все четверо имели отношение к специальной службе гестапо, которая приняла на вооружение последнюю гитлеровскую новинку – газовую камеру на колесах, «душегубку». На процесс были приглашены писатели и большая группа иностранных корреспондентов. По маршруту свирепствовало ненастье, вылет откладывался, потом решено было махнуть на погоду и лететь. Долетев до Харькова, самолет завис над городом и сорок минут утюжил харьковские холмы. Могло быть и хуже, но, к счастью, все обошлось. Когда прямо с аэродрома мы прибыли в театр, где происходило едва ли не последнее заседание суда, то в ложе, ближайшей к сцене, увидели писателей, среди них А. Н. Толстого, И. Г. Оренбурга и К. М. Симонова.
Шел допрос одного на немцев, – долговязый, с тощей шеей и худыми ключицами, он вел рассказ с бесстрастной обстоятельностью и пунктуальностью, не очень стараясь умалить свою вину: видно, он понимал, какая кара ждет его, и примирился с этим. Наоборот, наш соотечественник, шофер «душегубки» Буланов, был прямой противоположностью немцу – близость возмездия лишила его самообладания, он страшился этой минуты, которая неотвратимо приближалась, его бил озноб.
Все четверо были приговорены к смертной казни через повешение – казнь должна была состояться на рыночной площади Харькова. Когда на следующее утро я прибыл на эту харьковскую площадь, то первое, что увидел, это знаменитый Дом промышленности – в начале тридцатых фотографии этого здания были популярны и украшали страницы наших иллюстрированных изданий. Поистине надо было обладать неудержимой фантазией, чтобы представить этот дом рядом со столь необычным действом, как казнь предателя. А на рыночной площади большого города вместе с немцами-палачами народ казнил именно палача-предателя. Не все из тех, кого я знал, пошли на рыночную площадь, но, как верно писал позже Симонов, каждый тут решает за себя. Пошел Толстой, пошел Симонов, не помню, чтобы отказался кто-то из корреспондентов; впрочем, тут вряд ли уместно осуждение – действительно, каждый решает за себя.
Но в этой картине, которую не забыть, была одна подробность, врезавшаяся в память, – поведение предателя... Этот человек, пошедший в услужение злейшему врагу и обрекший сотни своих соотечественников на мученическую смерть, и на допросе не отличался мужеством, а тут обмяк, не в силах держаться на ногах. Вот оно, существо предателя: когда казнил, не воспротивился, не сбежал, на худой конец, не утратил присутствия духа, сохранив самообладание и способность лютовать, а когда дело дошло до него самого, до его поганой шкуры, рухнул едва ли не бездыханно – где-то тут изуверская суть предателя.
Алексей Николаевич, узнав, как труден был наш полет в Харьков, уговорил нас ехать поездом. Поскольку тогдашняя дорога из Харькова в Москву требовала едва ли не суток, я организовал дело так, чтобы корреспонденты передали свои телеграммы непосредственно из Харькова. Писатели обжили в специальном вагоне одно купе, корреспонденты – остальные. В писательском купе главенствовал Толстой, постоянно вызывая на спор Эренбурга, который не очень-то был расположен к спору, – такого кроткого Эренбурга я не знал. Когда Толстой был особенно воинствен, Симонов, опасаясь взрыва, взлетал на верхнюю полку, куда был определен по положению младшего, – человек не робкого десятка, он, как мне виделось, тут чуть-чуть робел и предпочитал пережидать грозу «над облаками».
Все виденное в Харькове жило в сознании, и даже тогда, когда разговор пытался объять более чем пространную тему наших отношений с союзниками, беседа неминуемо возвращалась к виденному па рыночной площади Харькова. У Симонова было свое понимание происшедшего: характерное – разговор, который мне приходит на память, наверно, не очень пространен, но содержит в себе существенное. Все понятно – предатель... а вот как он возник? – спросил Симонов, когда однажды мы стояли у окна вагона. – Чтобы вот так злобствовать, надо, чтобы была злоба, – откуда она?
– Тут на каждый случай свой ответ, – мог только заметить я.
– Отыскать этот ответ – значит понять происшедшее? – откликнулся мой собеседник.
– Но крайней мере попытаться объяснить...
– Себе, разумеется?
– В первую очередь...
Этот разговор припомнил я, когда читал симоновского «Пантелеева», вставную новеллу о предательнице, которая, озлобившись, увидела в советской власти единственную виновницу того, чем обделила ее судьба, не дав красоты и мужа, доброго нрава и детей. Когда же рядом с нею оказался шпион и призвал ее стать шпионкой, то она, по собственному признанию, пошла за ним, «как собака»... Правда, он обещал ей за предательство полторы тысячи рублей, но вряд ли дело в этих полутора тысячах: не посулил бы он этих денег, все одно пошла бы.
Но тут, пожалуй, достоверность рассказа не в самой его версии, какой бы она ни была убедительной, не в авторском толковании, которое дополняет рассказ, а в том, как событие видится глазу человека, способного взглянуть на него со стороны. В новелле, о которой идет речь, есть такое лицо – девушка-шофер, юная Паша, тоже местная уроженка, добровольно вступившая в Красную Армию и севшая за руль военной машины, полуторки, существо в высшей степени беззаветное в своей решимости помогать делу. И хотя она возникает в повести еще до того, как мы повстречали «кособокую», она уже ополчилась на нее и всей своей сутью с нею единоборствует. Впрочем, тут ость свой кульминационный момент, и в нем можно рассмотреть ответы и на некоторые вопросы, интересующие нас. Эти две женщины не знают друг друга, но и нет силы, которая может отвратить их столкновение.
В разгар допроса «кособокой», когда уже не было двух мнений об ее вине, раздался голос Паши Горобец:
– У, ведьма! Так бы и стрелила тебя!
Истинно, встреча этих женщин неотвратима – однако есть смысл принести соответствующее место из симоновской повести, они, эти строки, многое объясняют.
«Задержанная вскинула на нее глаза, и они долго смотрели друг на друга: черная, тихая женщина, похожая в своей неподвижности на узел темного тряпья, из которого торчали только лицо и толстые ноги, и звонкая, вся, как струна, натянувшаяся от негодования, голубенькая шоферка с голыми коленками, голыми до локтей, сжатыми в кулаки руками, с растрепавшимися во время езды и упавшими на шею косичками желтых пыльных волос...
– Чего на нее смотрите, товарищ начальник, стрелите ее – и все, – просто, как о чем-то само собой разумеющемся, сказала шоферка. Потом помолчала и, уже ни к кому но обращаясь, отвечая на свои мысли, задумчиво и убежденно добавила: – Я бы ее стрелила!
– «Стрелить» успеем, – сказал Пантелеев, – а вот посмотреть на нее, что в нашей жизни бывает, это надо!..»
Вот тут и конец цитате, – не так уж велика она, а все в нее вместилось. И понимание того, что казнь предателя отвечает самому существу представления народа об измене, и то трудное, что тогда и Симонова повергло в раздумье. Пантелеев сказал: «Стрелить» успеем, а вот посмотреть на нее, что в нашей жизни бывает, это надо!..» Симонов, возможно, дополнял комиссара: «Все понятно – предатель... а вот как он возник?»
Не знаю, есть ли в шеститомном симоновском собрании произведение, у которого не было бы автобиографической первоосновы? Полагаю, что нет. Вопрос этот не праздный. Думаю, что критик, пишущий о Симонове, должен хорошо знать его жизнь и по этой причине. В самом деле, если есть ключ, объясняющий симоновские сюжеты и характеры, то он, этот ключ, в автобиографическом взгляде на эти сюжеты и характеры. Повторяю, что применительно к Симонову это тем важнее, что расстояние между его прозой и действительностью короче, чем у кого-либо иного. Критику, пишущему о Симонове, наверно, поучительно прочесть Симонова, имея в виду это обстоятельство, при этом не для уточнения творческой биографии, а по иной причине: в высшей степени интересно выяснить, как истинные наблюдения помогают писателю сделать характер убедительным.
Я не знал комиссара Николаева, с которого Симонов писал своего Пантелеева. По признанию Симонова, это был самобытный русский человек, донецкий шахтер, невысокий, коренастый, очень сильный. У него, оказывается, была та же манера говорить с солдатами, что и у Пантелеева. Идя в атаку во главе роты, он, подобно Пантелееву, произносил: «А ну, вставайте, братчики!» Впрочем, то, что я говорю, Симонов написал в связи с рассказом «Третий адъютант», о комиссаре Николаеве, но смею думать, это верно, если соотнести с «Пантелеевым».
Если же обратить взгляд к существу проблемы, то надо сказать следующее: близость симоновской прозы к виденному не просто в природе его таланта. Писатель, во многом вызванный к жизни литературой факта, писатель, которому всегда близка газета, Симонов тонко чувствует современника, понимая его вкусы, его устремления, его идеалы. Он знает: доверие этого его современника к писателю основывается и на представлении о том, какое расстояние отделяет книги писателя от его собственной жизни. Эренбург назвал Симонова писателем киплинговского типа, если быть точным, то это писатель скорее хемингуэевской, а если говорить о наших прецедентах, то тихоновской традиции.
Читателю импонирует строгая простота всего, что написано Симоновым, идущая от той самой достоверности очевидца, о которой шла речь выше. Михаил Иванович Калинин, как известно, бывший тонким ценителем литературы, нашел очень верные слова, чтобы определить именно эти качества симоновской прозы: «Не знаю, читали ли вы последнюю статью Симонова «Дни и ночи». Я должен сказать, что она хорошо построена. Вообще его статьи дают реальную картину боев. В последней статье соблюдены все пропорции и соотношения. Статья написана сдержанно. С внешней стороны это как будто бы сухая хроникерская запись, а по существу – это работа художника, картина, долго незабываемая». Замечание Михаила Ивановича о пропорциях, как, впрочем и о сдержанности симоновской прозы, касается самого существа. Свои суждения Калинин высказал в речи, с которой выступил перед комсомольской аудиторией. Как свидетельствует Д. И. Ортенберг, за несколько дней до выступления Калинин позвонил ему, пытаясь установить, в какой мере все описанное Симоновым соответствует происшедшему, а когда узнал, что все описанное действительно было в жизни, чему и редактор, кстати говоря, был свидетель, заметно обрадовался, заметив: «Это хорошо». Калинин по-своему объяснил, почему ему пришлась по душе сдержанность симоновской прозы: «Жизнь стала суровой. Люди стали сосредоточеннее, задумчивее».
Повторяю, наблюдения, которые сделал Калинин, точно определяют существо симоновской прозы, при этом удивительно верны в высказанном мнении акценты, касающиеся и читателя, и писателя. Калинин, разумеется, не хуже всех остальных понимал, что подчас и документальная проза не обходится без известной доли вымысла, но ему важно было установить, имеет ли это место теперь. В подтексте калининской реплики присутствовало мнение, как мне кажется, верное: вымысел должен иметь место лишь в крайнем случае, а лучше вообще обойтись без него. Калинина можно было понять: когда сами события имеют столь насущное значение, а народ в них в такой мере заинтересован, есть ли смысл расцвечивать их в очерке сомнительными красками вымысла?
В какой-то мере это правило верно и применительно к жанрам, где исторически у вымысла были, так сказать, все права гражданства. Я говорю о военном романе, повести, рассказе. Можно понять Симонова, который, выскажу предположение, больше всех напастей боится переложить свирепой охры вымысла и в повести, если даже законы жанра этого требуют. Я говорю об образе Лопатина в цикле одноименных симоновских повестей. Тема эта по-своему любопытна.
Вопрос логичный: да не избрал ли Симонов имя Лопатина своим псевдонимом? Где прошла между ними демаркационная линия и что она изменила?
Повесть идет от второго лицо, но такое впечатление, что это лицо первое. Все увиденное в повести увидено глазами Лопатина. Начало повести: «Корреспондент «Красной звезды», интендант второго ранга Лопатин сидел в приемной члена Военного совета Крымской армии, ждал адъютанта и смотрел в окно». Да, так и сказано – корреспондент «Красной звезды». Казалось, это Симонов. И еще сказано: «Лопатин только вчера вечером вернулся из двадцатидневного плавания на подводной лодке». Это тоже Симонов. «Лопатину не довелось быть на финской войне, но он слышал от своих товарищей, служивших в армейской газете на Карельском перешейке...» Это тоже Симонов – его не было в Финляндии.
Но повесть дает основания, чтобы утверждать обратное: Лопатин иной человек, хочется сказать даже, что совсем иной. В сорок первом ему больше сорока – ну какой же это Симонов? Он долговяз и угловат – не Симонов. В очках – нет, не Симонов. Интендант – сроду не был. Хочется сравнить Лопатина с кем-то из краснозвездовцев, и кажется, что такой был. И долговязый, и в очках, и интендант. Был, разумеется. А может, дело не во внешности? Ведь совершенно определенно, что автор настолько отождествляется с Лопатиным, что различие утрачивается. Не хочется видеть, что ему сорок с лишним и он в очках, а видишь Симонова. Автор настолько симпатизирует Лопатину, что хочется думать – они люди одного корня. По строю характера, по самой душевной сути. И храбростью безоглядной, и сомнениями, и страхом одной душевной организации. Да, и страхом, – симоновская тема: и человеку не робкого десятка на войне страшно.
«Лопатин шел на два шага позади Пантелеева, поглядывая вперед, на Ганическ, с содроганием думая, что немцы оттуда прекрасно их видят и вот-вот начнут стрелять».
И еще:
«Бойцы, шедшие на несколько шагов впереди Пантелеева и Лопатина, с винтовками наперевес, приблизились к самим окопам. Лопатин вспомнил, что у него тоже есть наган, и вынул его из кобуры».
Страшно Лопатину? Наверняка, но, как истинно храбрый человек, которым к тому же владеет чувство долга, он понимает, что обязан совладать со страхом. Допускаю, что автор поделился с героем собственными переживаниями. Но в натуре Лопатина есть черта, которая, хочу думать, очень точно соотносится с сутью Симонова. Какая? Уже было сказано, что Симонов склонен взглянуть на войну с неожиданной стороны, подчас даже совершенно неожиданной, явив нечто такое, к чему писатель не часто прикасается. Но вот симоновская особенность: он хочет рассмотреть это глазами человека, которому он бесконечно доверяет. Нет, не только глазами Лопатина, но и Пантелеева. Больше того – по правую руку от себя он всегда видит Пантелеева, видит в образе Синцова или Левашева, но обязательно есть Пантелеев и рядом с ним Симонов. Как ни опытен Пантелеев, он Симонова не оберегает. Даже наоборот – готов устремить такой тропой, которая горит. Однако зачем ему Пантелеев? Разве Лопатина недостаточно? Очевидно, недостаточно. Дело в том, что не Симонов, а Лопатин хочет, чтобы рядом был Пантелеев. Лопатину необходима совесть Пантелеева. Именно поэтому Симонов призвал Пантелеева, кажется, что на веки веков призвал, чтобы Лопатин имел возможность открыться Пантелееву. И тут следует сказать главное: для Лопатина это исповедь по самому существу того, что есть его совесть, его нравственность.
«А остальных, наверное, увели в плен», – подумал Лопатин, глядя на трупы, застывшие в разных позах, но чаще всего ничком, уткнувшись мертвыми головами в песок. Его охватило уже несколько раз испытанное на войне чувство страха, загадочности и непоправимости, которое рождается у человека, попавшего туда, где все мертвы и нет никого, кто бы мог рассказать, что здесь произошло несколько часов назад».
И буквально в следующей строке:
«А Пантелеев думал в эту минуту совсем о другом...»
Да, целеустремленный и спокойно-мудрый Пантелеев мысленно восстанавливал картину случившегося здесь, и она вовсе не казалась ему загадочной, – наоборот, все, что здесь произошло, было видно как на ладони, и это уязвило его в самое сердце.
« – Из всего взвода только несколько человек дрались как надо, – сказал он, останавливаясь возле Лопатина. – А тех, кто побежал от огня, немцы перестреляли. Высадились, перестреляли и в плен забрали, – повторил он со злобой. Он был сейчас безжалостен к погибшим, и в то же время в нем кипела такая обида за их нелепую смерть, что казалось, он готов был заплакать».
Разное видение войны, разное ее понимание, настолько разное, что люди будто бы навеки разминулись в ее восприятии, и все-таки контакт сердец, тесный, а значит – исповедь.
«Минометный залп так внезапно нарушил странно затянувшуюся тишину этого дня, что Лопатин со всего маху бросился на землю. Мины легли совсем близко от шедших первыми Пантелеева и Лопатина, и их обоих горячо обдало землей и дымом. Пантелеев быстро вскочил, короткими сильными движениями стряхнул землю с плеч и не оборачиваясь пошел вперед. Лопатин последовал его примеру. У него было бессмысленное, но от этого не менее сильное желание держаться как можно ближе к этому человеку».
Мысль, к которой мы обратились в данном отрывке выражена достаточно точно: исповедь. Да, исповедь перед тем большим и справедливым, что зовется Отечеством и Революцией, – в данном случае истину эту отождествлял Пантелеев. В смертельную минуту, которую Лопатин пережил, он не хотел, чтобы этим человеком был кто-то иной. Все самое сокровенное, что взволновало его и что жило в его душе, он мысленно обращал к Пантелееву.
Но знаю, был ли у Симонова тут замысел, но я воспринял написанное именно так: Пантелеев и Лопатин – исповедь. Исповедь по самому существу проблемы: советский человек и Родина, место его в войне, которая является для него отечественной, его долг. Не было бы этого, не было бы и повести.
Итак, Лопатин и Симонов? Автобиографично? В той мере, в какой это необходимо для понимания Симонова, наверно, автобиографично, остальное неважно. Нас это может интересовать в связи с главной мыслью, которой мы коснулись: все написанное Симоновым о войне является, в сущности, свидетельством человека, видевшего войну, – симоновские повести тут не составляют исключения, – впрочем, само название цикла «Из записок Лопатина», да, того самого Лопатина, который, как было установлено выше, не чужд автобиографического начала, указывает на это определенно.
И вновь сознание обращалось к вопросу, имеющему для нас свой немалый смысл: истинно казалось необычным, как человек, который не был кадровым армейцем, проникся в такой мере существом армии, – не свойство ли это молодости, которая особенно восприимчива, а может, влияние родословной, которая до энного колена состояла из седоусых полковников?
В коллективе «Красной звезды», как он сложился в военные годы, был необыкновенно колоритный человек. Внешне он был точной копией Дон Кихота. Высокий, благородно-степенный, разумеется, с бородкой, точно оструганной, с пристальным взглядом заметно темных глаз, с печальной укоризной взирающих вокруг. Единственное отличие от знаменитого испанца заключалось в том, что наш коллега был полковником Советской Армии и писал обзоры о войне на Тихом океане. Впрочем, к отличительным чертам полковника следовало отнести его непобедимое жизнелюбие, жажду общения, которые делали его человеком, как бы созданным для застолья, – веселый Дон Кихот. Михаил Петрович Толченов принадлежал к старому офицерству, знал армию и строй ее жизни, проникая тут в такие заповедные углы, каких мы могли и не знать.
Для почтенного Толченова молодой Симонов был уникумом, взывающим к раздумью, для полковника Толченова, всей своей сутью человека армейского, представляющего первоядро армии, как она сложилась на Руси исторически. Из тех вопросов, которые поставил перед ним молодой писатель, главным, наверно, был вот этот: каким образом Симонов, не будучи профессиональным военным, являл собой кондового военного – Толченову-то было ведомо больше остальных, что эта самая кондовость с неба не падает.
– Бьюсь об заклад – семья, – сказал Михаил Петрович со свойственным ему азартом, когда соответствующая толика грузинского сухого, в котором знал толк Толченов, была испита.
Итак, семья.
Я видел однажды мать Симонова. Еще на Малой Дмитровке. Я обратил внимание, с какой стремительностью молодой простучали ее французские каблучки по кирпичу нашего большого двора, когда она шла в редакцию. По-моему, ей не было тогда пятидесяти, и она была женщиной. Ее гордую строгость я хотел понять так, но, возможно, в ней, в этой строгости, был и иной смысл. Но, глядя на нее, хотелось думать и об ином: вот это коренное, русское, что отложилось в симоновском языке, не могло же возникнуть, если мать к этому не была причастна. Ну, предположим, когда в известной симоновской поэме суворовский денщик Прошка говорит генералиссимусу: «Ну, проигрались, что за горе? Вам нынче в шашки не с руки, по нынешним годам в фаворе те, что умеют в поддавки...», то это, наверно, можно объяснить умением Симонова стилизовать говор своих героев, всего лишь стилизовать. А как объяснить вот это, хватающее за душу: «Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовом, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в салопчике плисовом, весь в белом, как на смерть одетый, старик», – как вот это! Не объяснишь ли это коренное, русское, истинно впитанное тобой с молоком матери стилизацией? Или иное, что приходит на память: «Сама Россия положила гармонь с ним рядом в забытьи и во владенье подарила дороги длинные свои», – как это? Если мать тебе не подарила вместе с жизнью того нерасторжимого для всей твоей человеческой и душевной сути, что зовется родным языком, вряд ли ты этот язык обретешь у кого-то иного. Первая сказка, как и первое стихотворение, – как бы они могли войти в твое сознание, если бы не было рядом мамы?
Образ матери, как он возникает в симоновских стихах, матери-страдалицы, не был бы вызван к жизни, не будь на земле этой по-своему красивой горожанки, одетой даже в ту бедовую для страны пору с тем небогатым и милым изяществом, которое выдавало в ней человека, любящего красивое.
«Нас пули с тобою пока еще милуют. Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещено, что русская мать нас на свет родила...»
Но толченовский вопрос все еще ждал своего ответа. То, что я знал о Симонове, было недостаточным, чтобы на этот вопрос ответить. Давно отодвинулась в прошлое война, и где-то на ущербе пятидесятых годов в писательском доме в Голицыне за большим обеденным столом, правда, много позже того, как трапеза кончилась, появилась почтенная пара. В том, с какой безупречной точностью, усаживаясь за стол, женщина расположила столовый прибор, определив места для ножа, вилки, салфетки, сказывалось знание. Она делала это с радостным и чуть-чуть хлопотливым вниманием, а он молчал, – он мне показался в тот день очень строгим в этом своем молчании. Быть может, этому впечатлению еще способствовали его белью усы «лемехом» и неулыбчивые, особенно в прищуре, глаза. А потом я увидел их на голицынской тропе, ведущей в дальний лес, и опять она мне показалась открытой и доброй, а он чуть-чуть недоступным в своей нестариковской стати. Она была седой, совсем седой, но не утратила той подвижности я, пожалуй, изящества в одежде, какую я заметил еще на Малой Дмитровке, – да, то были симоновские старики.
Наверно, есть своя сокровенность, когда ты, не очень-то обнаруживая себя, имеешь возможность наблюдать людей, которые интересны, с некоего расстояния. Именно с некоего расстояния, храня точно зеницу ока это расстояние, – в нем есть преимущество. Вот так было и той голицынской осенью, когда я видел, правда, всего несколько дней, симоновских стариков.
Я не знал и не мог знать стихов поэта об отце, кстати написанных едва ли не в ту голицынскую осень, но если бы знал, то поймал себя на мысли – эти стихи не разминулись с человеком, которого я увидел в Голицыне, они рисовали его портрет точно.
«Я знал: презрение – за лень, – знал: за ложь – молчание, такое, что на третий день сознаешься с отчаяния. Мальчишке мыть посуду – крест, пол драить – хуже нету. Но не трудящийся не ест – уже я знал и это. Знал, как в продскладе взять паек, положенный краскому, как вскинуть вещевой мешок и дотащить до дому...»
Дело не в том, что этот суровый и показавшийся мне замкнутым человек стремился привадить Симонова еще в ребячьи годы к солдатскому житью-бытью, не обойдя и испытаний, ведомых солдату, – он пошел дальше, коснувшись того сущего, что есть представление солдата о чести.
В своей книге «Разные дни войны», воссоздающей своеобразную хронику войны от первого дня до последнего, как она отложилась в дневниках писателя, Симонов упоминает имя генерал-полковника Ивана Захаровича Сусайкова, которого он видел в первые дни войны в Бобруйске и который позже был членом Военного совета у Конева и Малиновского.
Я знал генерала Сусайкова по Румынии, где он на правах первого заместителя маршала Толбухина возглавлял Союзную Контрольную Комиссию. Сын кузнеца и сам в молодые годы кузнец, Сусайков принадлежал к тем нашим военным интеллигентам, к которым академия пришла уже после того, как их интеллект сформировался. Если в природе существовала сила, которая сыграла тут решающую роль, то этой силой была книга – на Сусайкова это правило распространялось безусловно, он был, как свидетельствовали мои наблюдения, великим книжником.
Смуглолицый и светлоглазый, заметно светлоглазый, он был невысок и покатоплеч. Они у него, эти плечи, были сильными, сразу видно – кузнец. Но в походке он был, как мне привиделось, скован, не мог ходить быстро, даже если присмотреться, тянул ногу – не след ли ранения? В остальном был очень хорош – красивый, сильный человек с живым умом, наблюдательный. Вот прочел симоновскую повесть о Пантелееве и вспомнил Сусайкова: нет, эти люди были похожи не только тем, что были людьми одних социальных истоков, их сближало и иное – убежденность человека, которого сотворила революция и который понимает, что всем обязан ей.
Москва, остановившая свой выбор на этом человеке, когда речь шла о главе Союзной Контрольной Комиссии, имела на этот счет веские резоны. Пост этот, в сущности, пост военного дипломата, человека образованного, мыслящего, умеющего строить отношения с людьми, среди которых было немало иностранцев. Сусайков этими качествами обладал и явил их в Румынии в полной мере – он был там популярен.
Но было обстоятельство, которое надолго лишало Сусайкова общения, он болел, сказывалось ранение, полученное в начале воины. Я ведал тем участком Союзной Контрольной Комиссии, а потом посольства, который имел отношение к прессе, культурным контактам, культурным, а следовательно, литературным. При той любви к книге, которая была у генерала, это помогало делу. Я часто бывал у генерала, бывал и в пору его болезни. Я не покривлю душой, если скажу, что на столе, придвинутом к кровати больного, всегда была гора книг. Поводом к нашей беседе явилась книга симоновских очерков и рассказов, напечатанных в «Красной звезде» и «Правде», – они вышли в Военном издательстве.
Была весна сорок пятого, и каждая новая книга воспринималась в свете победы, которая зримо приближалась.
– Представляю интерес тех, кто будет жить после нас, к истории войны, – сказал генерал, уперев локти и приподнявшись. – У писательской книги тут преимущество, но при одном условии...
– Каком?
Он улыбнулся.
– Скромном весьма: должна быть правдива...
– Как у Симонова?
– Да. – Его согласие было лаконичным, убежденность была в этой лаконичности.
Вот так-то, по-симоновски правдиво – в устах старого воина это была великая похвала. В устах воина, чье слово было тем более весомо, что этот человек, повторяю, напоминал мне Пантелеева.
Сусайков недолго жил после войны. В сущности, он умер молодым человеком – ему не было и пятидесяти. Но сказанное тогда запомнилось. Думаю, что наши потомки не во многом разойдутся с заслуженным генералом: при всех тех данных, которые свойственны симоновской прозе, ей воздадут должное еще и за правдивость.
Этот очерк уже набирался, когда позвонил Давид Иосифович Ортенберг и сказал, что сегодня на рассвете умер Симонов. Знал, что Константину Михайловичу худо, и все-таки в сообщении этом была внезапность удара. Если верно, что годы уходят вместе с людьми, то самые дорогие для всех нас годы, годы военной страды, столь нерасторжимо связанные с великим братством «Краснов звезды» отступают и становятся историей вместо с Симоновым.
Как-то совсем по-иному взглянул на то, что написал о нашем товарище, теперь понимаю, написал в последний год его жизни. Говорю «по-иному», ибо только теперь осознал, что эти строки читал и Симонов. Читал и отозвался письмом, в котором мне видится и его ум, и непобедимая душевность, и столь характерная для него способность мерить сущее великой мерой правды, и конечно же доброта, что превыше всего.
Вот это письмо.
«...Я был очень тронут и твоим милым дружеским письмом и тем, что я прочел...
Прежде всего, конечно же, очень интересно человеку увидеть себя глазами товарищей тех лет, той же профессии, да вдобавок еще из недр той же редакции.
Интересно и другое – с журналистикой, наверное, ни ты, ни я никогда не порвем, но все-таки при этом мы оба с тобой проделали ту кочковатую странную, интересную и опасную дорогу, которая называется дорогой из журналистики в писательство. Я думаю, именно от общности этого пути и взгляда на него, на этот путь, ты подметил многое из того, на что не обращали внимание другие, и ковырнул какую-то часть того нутра нашего, которая была в годы войны связана с внутренней работой души людей, при этом повседневно помнящих о газетном листе не только как о необходимости, но и как о собственной потребности.
В каком-то месте, где ты вспоминаешь стихи, в какой-то строчке пропущено одно слово – скажи, чтобы поглядели, проверили. К этому, собственно говоря, и сводятся все мои фактические замечания, если ты в какой-то степени их от меня ждал.
Благодарю тебя и обнимаю.
Твой
Константин Симонов
24.XI.78».
В эти дни я был свидетелем скорби, стихийной, а потому искренней – народ видел в нем писателя-воина, любил его.








