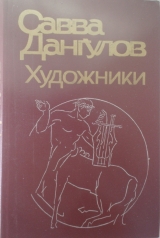
Текст книги "Художники"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 60 страниц)
Образы Нафисет и Гулез таят в себе немалый материал для раздумий. Соотнесенные с исторической судьбой женщины-горянки, чей путь был не просто многотруден, а тернист, образы керашевских героинь взывают к разговору, в первосути которого революционные процессы нашего времени, их влияние на судьбы людей.
Старая истина: все, что писатель пропустил сквозь личное восприятие, все, что он ощутил сердцем, способно сберечь обаяние жизни, способно взволновать читателя. Писательское видение действительности, какие бы формы оно ни носило, небезразлично читателю. Керашев пошел на единственный в своем роде эксперимент: он ввел в роман образ писателя, взглянув на происходящее его глазами. Наверно, автобиографические черты были еще в образе Биболэта, но там эта автобиографичность была чуть-чуть отвлеченной – Биболэт был одной армии с Керашевым, но всего лишь одной армии. Иное дело герой романа «Состязание с мечтой» – Шумаф. Конечно, в высшей степени поучительно, что увидел в нашей жизни Шумаф. Но не менее значительно его понимание своего места в жизни. В том, что обнаружил Керашев в образе Шумафа, присутствует его, Керашева, исповедь.
У самих истоков такого образа, как Шумаф, если этот образ соотнести с реальной адыгейской действительностью, лежит явление истинно революционное: рождение письменности, а вместе с этим и литературы. Да, в данном случае рождение адыгейской литературы, вызванной к жизни Октябрем и Октябрем выпестованной. Кажется, что в тот самый день, когда возник у нас разговор с Керашевым о младописьменных литературах Северного Кавказа, писатель мог подумать и о своем Шумафе. Образ Шумафа нерасторжим с созданием адыгейской литературы, а следовательно, со всем процессом, который этому предшествовал, – всеобщее начальное, а потом и среднее образование, осуществленное советской властью и в Адыгее, важнейшее звено этого процесса.
Не могу не вспомнить Хан-Гирея, который, говоря о перспективе создания черкесской письменности, подчеркивал:
«Если бы черкесы имели письмо, то их язык скорее получил бы образование, в особенности поэзия их достигла бы высокого совершенства. В этом согласится всяк тот, кто только может постигать силу выражения и красоту слога черкесских древних песен... Все, что я говорил здесь об этом предмете, доказывает возможность приобретения азбуки для черкесского языка, но не одними трудами частных лиц, а посредством благотворительности правительства. Следовательно, нет никакого сомнения, что это событие, спасительное для описываемой здесь страны и народа, совершится в наше время...»
Хан-Гирей обозначил осуществление этого события, действительно значительного для адыгов, однако в иные сроки – только всеобщее образование, реализованное революцией, сообщило этому делу и размах и прочность. Из тех свершений революции, которые восприняла Адыгея, создание литературы – одно из самых внушительных. Керашевский Шумаф – его родословная, его нравственный идеал, его способность к творчеству, его готовность служить революции – живое олицетворение деяния революции, у которого имя новой адыгейской словесности.
А как Керашев? Он как бы поставил самого себя в условия к живой действительности. Конечно, у него была опасность принять позу поучающего – в этом случае нравоучения, а может быть, даже резонерства не избежать. Керашев поступил иначе. Он создал образ человека глубоко убежденного и скромного. Он деятелен, этот керашевский Шумаф, но работа его ума преломилась не столько в слове, сколько в мысли. Он все видит, во все пытается проникнуть, все постичь, но делает это, соблюдая нормы такта. Он понимает: не только он видит, но и его видят люди, поэтому постоянно имеет в виду, как бы это не обернулось против него, а следовательно, против дела. Жизнь, которую наблюдает Шумаф, откладывается в книге, над которой он работает, – таким образом, нам видны все циклы процесса, а значит, и проблемы, которые владеют умом художника. Нередко острые проблемы. Человек мысли, он хотел бы, чтобы его роман заставлял размышлять. Слушаешь керашевского героя и думаешь: писателю дано проложить мост между народом и его историей, между народом и его историческим деянием. Он, Шумаф, конечно, прав, что истинным условием настоящего произведения должна быть современность, если даже она обращена в историю. Способность прямо говорить правду – вот качество, которое герой Керашева хотел бы предъявить к своему роману. Ясность, к которой стремятся Шумаф в романе, от ясности главной идеи, которую он исповедует.
Есть мнение, что Керашев, сообщив своему герою достоинства, которых нет у тех, кто героя окружает, поднял его над остальными и таким образом замкнул в пределах своего мира, а может быть, даже изолировал. Не думаю, чтобы это было так. Быть может, достоинства, которыми обладает Шумаф, и способны поднять его над массой, но проблемы, которые он решает, проблемы насущные, они не отторгнут его от людей, а сблизят с ними. Кстати, это люди видят и, смею думать, понимают. Так или иначе, а перед нами одновременно и исповедь писателя, и подвиг его сердца.
В ряду тех проблем, которые возникли с Октябрем, одна из самых важных: Октябрь и национальное строительство. Формула эта необыкновенно объемна. Она предполагает строительство государственности, экономики, культуры, решение всего комплекса нравственных проблем. События, которым дал толчок Октябрь, не остановились на 1917 годе – Октябрь продолжается, и мир тому свидетель. Наверно, есть книги, призванные объяснить людям явления, которые вызвал к жизни Октябрь, и при этом ответить на вопрос: что произошло. Это хорошие книги – честь им и слава. Иное дело – книги писателей. У них – своя функция и своя, надо думать, привилегия. Они, эти книги, призваны сказать людям, как это произошло. Последнее тем более действенно, что позволяет увидеть события, о которых идет речь, сделать человека очевидцем событий, очевидцем, если даже человек отстоит от этих событий за тридевять земель, если он иного языка и племени. Значение того, что сделал Тембот Керашев на опыте Адыгеи, как раз в этом и состоит. Человек, призванный к жизни и творчеству Октябрем, он объяснил людям смысл великой революции, увидев в этом свои долг, свое призвание.
Мне хотелось бы закончить эту статью обращением к писателю.
Дорогой Тембот Магометович, сознаю несовершенство своих познаний в столь многосложной теме, как Адыгея, ее литература и ее писатель-классик Тембот Керашев. В одном прошу мне верить: в моем горячем желании воспринять и разделить радость адыгов по поводу столь крупного явления их словесности, национальной культуры, духовного бытия, каким является Тембот Керашев.
Помню Ваши слова, сказанные мне на горьковских торжествах в Москве: «Литература требует всей жизни». Воззвав к своему Шумафу, Вы дали понять читателям, каковы пределы возможностей писателя, что в его силах, что он может. Наверно, не только я в этой связи подумал: адресовав эти требования Шумафу, Вы предъявили их себе. Это был, разумеется, акт мужества. Невольно возникла мысль: где-то тут осуществление мечты, способной одарить писателя радостью совершенного. Подумалось и другое. Вы всю жизнь занимались любимым делом, и это дарило Вам удовлетворение. Вас окружали люди, которые были Вам близки, – это способно было согреть душу. Вам выпало счастье видеть осуществление многих Ваших надежд, и это воодушевляло Вас. Но одно было, как мне кажется, превыше всего: трудные дороги жизни, подчас очень трудные, – иного бы они сделали несчастным. Вас – счастливым. Древние полагали: жить – значит верить. Стоит ли говорить, что ваша вера нерасторжима с будущим, а будущее в судьбе новой Адыгеи – вера в ее звезду была и Вашей верой.
Счастья Вам, дорогой Тембот Магометович, и пусть не будет счета череде Ваших лет, как и длине пути, освященным вечным адыгейским «Гьогу маф», что с той же силой звучит и по-русски – «Светлой дороги».
АТАРОВ
В начале тридцатых годов жил я во Владикавказе, работал в газете, много ездил по равнинам и горным дорогам. Был – и не раз – в Садоне, на рудниках, в Беслане, где строился маисовый комбинат, в теснинах Терека и, разумеется, на Гизельдоне, где в ту пору укладывались последние камни гидростанции. И хорошо помню: куда бы ни устремлял свои стопы, всюду мне называли имя писателя, который уже побывал здесь до меня, неизменно одно и то же! Ну что тут скажешь? Ты считаешь, что торишь заповедную тропу, а ее уже кто-то прошел до тебя. Первый раз ты это как-нибудь переживешь, а когда тебе говорят об этом вновь и вновь, больших симпатии к твоему тайному сопернику ты не испытываешь.
Впрочем, справедливости ради следует сказать, что была в творчестве этого писателя одна черта, которая подкупала: то, что он писал, было отмечено не только оперативностью, но и значительными стилевыми достоинствами. Я сказал: не только оперативностью. Но и оперативность была завидной. Поистине тебе следовало еще понять, как складывалась география написанного, в такой мере обширная, в какой она может быть, если учитывать бескрайние наши пространства.
Сегодня мы имеем возможность ответить на этот вопрос более полно, чем прежде, по той самой причине, что вышло в свет наиболее обстоятельное двухтомное издание того, что написал Николай Сергеевич Атаров.
Двухтомник Николая Атарова состоит из вещей, добытых в поте лица. Автору его, что называется, на роду было написано добывать строки нелегким трудом, потому что тот, кто вызывал его к жизни как писателя, сам был таким (Николай Сергеевич начинал в «Наших достижениях»). И двухтомник, о котором идет речь, пожалуй, является в первую очередь свидетельством верности горьковскому принципу: утвердить бытие как деяние.
Факт никогда не будет произведением искусства, если он не окрылен сознанием и образным мышлением художника. Все это очевидно, но есть и в факте нечто такое, что влечет к нему художника: энергия правды, сила достоверности. Кажется иной раз: призови фантазию, изобрети, и то, что ты создашь силой своего вымысла, будет ярче и многоцветнее факта, добытого в жизни. Но все-таки художник тянется к факту, добытому в горниле бытия. Он, этот факт, для художника тот камертон, по которому подчас определяешь степень убедительности, а следовательно, и силу вымысла. И как ни богата твоя фантазия, жизнь богаче ее. Поэтому то, что подскажет факт, может навести на мысль, которая в иных обстоятельствах не обязательно посетит тебя. К тому же факт, подсмотренный в жизни, – это и новая деталь, и новый образ, и новые краски... Давно установлено: секрет долголетия мастера – в постоянной новизне изобразительных средств. Как ни наивен с первого взгляда поход за тридевять земель за чудо-жар-птицей, именуемой в просторечии фактом, этот путь нередко является кратчайшим путем к успеху.
Все эти мысли приходят на ум, когда думаешь об атаровских произведениях, таких, как «Повесть о первой любви», «Коротко лето в горах», и других. Близость к жизни подсказала писателю эти сюжеты. Да только ли в близости к жизни дело? Ведь это труд требовательного художника. Я вижу, каким языком написана атаровская проза, как соотнесены пропорции даже в этюдах, как найдены детали и как интересно все это по мысли.
Кстати, при обстоятельствах равных Н. Атаров предпочитает газету, потому что она дает возможность ему говорить с многомиллионной аудиторией. Что же касается качества, то оно у него не подразделяется на нечто такое, что пишется для сегодняшнего дня и для будущего читателя. Скажу больше: то, что он делает для сегодняшнего дня, как раз и рассчитано на долгую жизнь.
Многое из того, что написал Н. Атаров, рождено писательской причастностью к жизни. Педагог по образованию, а еще точнее – просвещенец (в том высоком значении этого слова, какое оно обрело у нас в первое десятилетие после революции), он, став писателем, не перестал быть и просвещенцем. Именно с этой целью, будучи депутатом одного из райсоветов Москвы, пришел он в педагогическую секцию и немало там сделал доброго. Для конкретного дела и для литературы. Его книга «Не хочу быть маленьким» – плод этого труда и этих раздумий, проникнутых высокой гражданственностью. Педагогические этюды Н. Атарова имеют и самостоятельный интерес. И являются своеобразной разведкой боем к его главным произведениям, посвященным большим проблемам нашей молодежи.
Читая произведения многих наших мастеров литературы, созданные не за одно десятилетие, мы видим: возник новый тип писателя, для которого пафос гражданской темы и гражданского деяния – его существо, его первосуть.
В атаровской книге «Не хочу быть маленьким» есть такие строки: «В детстве горячее солнце, гуще трава, обильнее дожди в смертельно интересен каждый человек». Мне кажется, что волнение, которое владеет тобой, когда ты читаешь эту книгу, объясняется тем, что автор как бы сомкнул свое детство с заревой порой жизни своих героев, свой Владикавказ с таежной Сибирью, Пятихатками, Одессой, Москвой, где живут описанные им люди.
Редко в каком рассказе Атаров не обращается к Владикавказу и владикавказцам – они колоритны и духовно красивы, его земляки. Здесь и осетинский Эдисон – Цыпу Байматов, по мысли которого была воздвигнута гидростанция на реке Гизельдон. И народный артист Владимир Тхапсаев, великолепно сыгравший на осетинском языке шекспировские роли. И профессор Всеволод Александрович Васильев, давший крылья многим, в том числе и Атарову.
Случилось так, что я прожил во Владикавказе, нынешнем Орджоникидзе, несколько лет и знал героев Атарова. Ходил с Байматовым из Кобани в Даргавс, когда строился Гизельдон. Был свидетелем первых шагов осетинского театра. Не раз беседовал с Васильевым. Знал атаровский Владикавказ, не зная Атарова. Не помню, говорил ли я с Васильевым о его питомце. Если говорил, Всеволод Александрович мог произнести нечто такое, что я слышал от него не раз: «Психология человеческого поступка – это и есть литература». Не зная моих отношений с Владикавказом и Васильевым, Николай Сергеевич, в сущности, повторил слова своего старого учителя, когда двадцатью годами позже я принес ему в журнал «Москва» повесть. Видно, нечто кровное перешло от учителя к ученику. Кровное. Вот прочел новую книгу Николая Сергеевича, и она отозвалась в моем сердце словами его старого профессора: «Психология человеческого поступка – это и есть литература».
Даже интересно, как книга, которая, в сущности, является сборником газетных и журнальных очерков автора, может так взволновать читателя, стать зримым событием общественной и литературной жизни. Великие потрясения жизни, вызванные революцией, и человек – вот ведущая мысль книги. Психология человека, весь уклад быта и прежде всего семья и школа. Именно семья и школа. Отец. Мать. Дети. Учитель. Ученики.
Око книги, ее прозорливый взгляд – сам писатель, его мировоззрение, гражданская совесть, его способность видеть правду, его верность этой правде, верность храбрая, бескомпромиссная. У Атарова есть возможность в самой книге поговорить па эту тему с читателем. Прямо на эту тему. В книге четыре очерка о писателях – Гроссмане, Паустовском, Иване Катаеве, Пановой. В прекрасном очерке о Василии Гроссмане автор ответил на кардинальный для себя вопрос: как он представляет себе призвание писателя? «Быть писателем-антифашистом – значит обладать гражданской зоркостью, чувствовать ответственность перед мертвыми, читать свою рукопись глазами тех, кто погиб». Это сказано с прямотой и храбростью правды: «...читать свою рукопись глазами тех, кто погиб».
По мнению автора книги, к бесстрашию подвигнул писателя народ на войне. С бесстрашием большого художника он сшибает силы-антагонисты, утверждая честь и совесть. Атаров по образованию педагог. Его большая проза – «Повесть о первой любви» и «Коротко лето в горах» – посвящена проблемам молодежи. Молодежь и комплекс проблем, ее волнующих, живут и в книге Атарова. Писатель создал здесь свой жанр. Он называет его очерком-рассказом. Я бы назвал этот жанр педагогической новеллой. Она всегда насущно злободневна, эта новелла, проблемна, интересна по своей философской сути, по изобразительным средствам. В отличие от многих произведений документальной литературы, новеллы Атарова отнюдь не однодневки. Убежден, что их будут читать завтра с той же страстью, с какой мы читаем их сегодня. И не только потому, что из множества проблем, которыми отмечен сегодняшний день, Атаров избрал самые острые и вечные, – сами новеллы художественны.
В сочетании с возможностями большой ежедневной газеты столь мобильный жанр, как атаровская новелла, средство действенное. Оно позволяет писателю, ищущему все новых и новых форм сопричастности с действительностью, не утрачивать контакта с жизнью. Однако писатель не переоценивает здесь своих данных. Он понимает, что и опыт жизни, и ратный труд в годы войны, и немалое журналистское умение не могут дать ему всего, что требует избранная им стезя.
В самом деле, профессиональное умение писателя, как и его жизненный опыт, мертво, если автор далек от того, чем живет народ сегодня. Будить беспокойство, не дать «заслониться и остынуть»!.. Именно этим объясняется неуемная жажда, с которой Атаров ищет общения с живой жизнью, будь то неожиданный полет за пять тысяч километров от Москвы, где трагически оборвалась жизнь девочки, или работа в комиссии по борьбе с беспризорностью, куда повлекли его депутатские обязанности.
Не дать заслониться и остынуть!.. То, что делает писатель, по сути своей не только литература, но и педагогика, а он сам просвещен в том значении этого слова, в каком его понимали наши первоучители Луначарский, Крупская, Макаренко. Да и предметом разговора является событие, для педагога проблемное. Только пределы аудитории необычны – сотни писем, идущих в адрес Атарова, дают лишь приблизительное представление об этих пределах.
Нередко писатель просит слова в связи с событием, которым отмечен минувший день. Событие ёмко. В нем и философия времени, и психология человека, и единоборство сил-антагонистов, единоборство смертельное. Силы эти не анонимны. Не на жизнь, а на смерть идет борьба нового со старым, добра со злом. Борьба, первыми жертвами которой почти всегда являются дети. И вот писатель говорят с тринадцатилетним правонарушителем, пытаясь вникнуть в смысл глубоко трагических слов, произнесенных мальчиком: «А мне никогда не исполнится четырнадцать». Или устремляется за пять тысяч километров от Москвы, чтобы склониться над железнодорожным полотном, где за несколько дней до этого бросилась под поезд четырнадцатилетняя девочка – недомыслие родителей толкнуло ее на это. Или, вызванный неожиданно телефонным звонком на людную московскую площадь, стоит перед девочкой в заячьей шапке, решившей поведать ему историю о неумном директоре, историю столь же скорбную, сколь и поучительную. И писатель исследует событие, чтобы по прямой от него дойти до правды. Дойти не заслоняясь.
И выводы, к которым обращается писатель, звучат почти афористично.
К человечеству надо идти от человека.
Чем больше самоуправления, тем меньше самоуправства.
И еще.
Ничто так не обезоруживает человека, как узаконенное зло. Формы этого зла могут быть различны, но одно характерно и для него: оно обороняется законом, и подчас небезуспешно. Ничто так не способно искалечить юную душу, как это. Самодур, ставший директором школы, – это достаточно узаконенное зло. И не только для ребенка, поле зрения которого в этом возрасте ограничено самой природой, но и для школы.
Кстати, в одном из рассказов книги писатель повествует о том, как он участвует в изгнании такого директора: человеку с совестью не страшно зло, если даже оно легализовано. Совесть ведь идет не от бумаги, узаконившей зло, а от первозакона государства, у колыбели которого стояли Октябрь и Ленин.
Писатель сделал благо: не позволил обратить закон в щит, способный прикрыть зло. Разумеется, важно, что он помог покарать самодура. Еще важнее, что сберег чистоту закона. Для всех важно. Для детей – во сто крат.
Книга повествует о событиях подчас нерадостных, однако мы закрываем ее со светлым чувством. Почему так? Это книга человека, глубоко верящего в свой идеал. Книга коммуниста, для которого превыше всего судьба того большого и во веки веков непреходящего, что во всем мире зовется русским Октябрем. Своеобразным камертоном здесь является новелла «Ночь в Зарамаге», новелла об Осетии, новелла вдохновенная и глубоко философская, о маленьком народе, который завоеватели загнали в скалистые тупики, раздробив по ущельям. О маленьком народе, который Октябрю обязан своим физическим существованием, самим своим спасением. «Какой же силы нужен был переворот жизни, чтобы горы как будто прилегли и выпустили из ущелий запертый в них маленький парод». В этом рассказе – пафос книги, ее истинное звучание и то большое, что в конечном счете является эпицентром работы писателя, – его вера.
У литераторов, когда-то работавших в журнале «Наши достижения», говорят, пользовался успехом такой рассказ. В журнале существовало правило: все рукописи, поступающие в редакцию, посылались Горькому в Сорренто. Так сделали и с первой атаровской рукописью, – кажется, то был очерк об осетинском Эдисоне, с которого мы начали рассказ. Когда минули положенные месяцы и автор пришел в редакцию, чтобы узнать о судьбе рукописи, редакторы встретили ого едва ли не одними и теми же словами: «Держите его, ребята!» Молодой автор был и ошеломлен и озадачен, однако ненадолго. Ему показали рукопись его очерка, вернувшуюся от Алексея Максимовича. Доброе отношение к очерку и его автору Горький выразил весьма определенно: «Держите его, ребята!»
Оказывается, к приходу Атарова в литературу Алексей Максимович был причастен, и весьма непосредственно: выбор и на этот раз был стоящим. По разным поводам я читал письма Николая Сергеевича к литераторам. Среди них были литераторы отнюдь не только молодые. Тем более характерно, как дорожили они мнением Атарова. В этих письмах были гражданская зрелость, и вкус, и интеллект, и та доброжелательность, без которой немыслим разговор людей творческих. И я подумал: горьковская школа.
Старая истина гласит: только бескорыстие воздается сторицей. Жизнь и труд писателя, так кажется мне, отразили эту истину.








