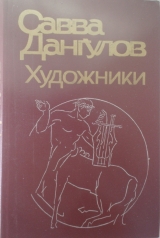
Текст книги "Художники"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 60 страниц)
В диалоге с политиками, кто оттягивает открытие второго фронта, у художника, если так можно сказать, своя изобразительная интонация, как и постепенно вырисовывается свой типаж. Не могу сказать, чтобы тут не было преемственности с героями карикатур двадцатых годов, когда в поле зрения художника все чаще оказывались твердолобые, – монокль, разумеется, отсутствует, да и смокинг заменен более строгим платьем, приличествующим военной поре, но аналогия нет-нет да прорвется, при этом и в текстовках под рисунками, – кстати, литературное обрамление, как всегда у Ефимова, на высоком уровне: фраза лапидарна, она синхронно соотнесена с рисунком, она выдает острослова. В нерасторжимой связи с рисунком это, конечно, эпиграмма, и, как каждая хорошая эпиграмма, готовая обрести ту завидную летучесть, когда стихотворная строфа передается из уст в уста и творение автора удостаивается самой высокой похвалы – его, это творение, делает своим народ. Если же вернуться к достоинствам того, что создаст уже не кисть, а перо Ефимова, то надо сказать, что Борис Ефимович принадлежит к тем художникам (они были в истории нашего изобразительного искусства – Нестеров, Рерих, Грабарь), у которых перо соперничает с кистью. Книга Ефимова «Невыдуманные истории» – свидетельство тому. В книге есть главы, которые бы сделали честь и литератору, – например, глава о Нюрнберге. Помянул главу о Нюрнберге и подумал, что это, наверно, не случайно, – да только ли о литературных достоинствах этой главы надо говорить, если тут ефимовский антифашизм достиг той воинственной патетики и гнева, какую может обрести это понятие в устах человека, объявившего войну чуме века, войну не на жизнь, а на смерть.
Херлуф Бидструп, которого я имел честь принимать вместе с Борисом Ефимовичем дома в московском Тропареве, сказал: «Художник, утративший связи с современностью, должен все начинать сначала». Мне, признаться, подумалось: «Наверно, это особенно грозно для художника, который связал себя с летописью современности, как тс же Бидструп и Ефимов. Не случайно же пятьдесят лет они несут свой неусыпный дозор на страже мирного труда людей.
В канун своего восьмидесятилетия Борис Ефимович заглянул в свой сатирический архив, явив в новом цикле с последовательностью хронологической весь блестящий ряд персонажей: Юз, Остин Чемберлен, Пилсудский, Геббельс, Геринг, Гитлер... Вереница ефимовских персонажей выглядела зловещей, но точной: Юз возник из пня дуба, Чемберлен, как винтовку, бросил за плечо одеревеневшего Пилсудского, Гитлер бьет по барабану берцовыми костями и Геринг восстал из преисподней с веревкой вокруг шеи... Где они, рыцари воинственного антисоветизма? Ушли в землю – память о них разве только сберегли рисунки Ефимова. Сберегли в назидание. Да ушли ли в землю? У Ефимова есть рисунок: как в круговерти дыма, вырвавшегося из трубы Белого дома, закружился, завертелся, обратился вскачь сонм новых ефимовских персонажей, в лике которых, честное слово, можно опознать черты тех, кто сгинул во тьме истории, от Юза до Пилсудского, от Чемберлена до зловещей плеяды гитлеровских сподвижников, которых выстроил по ранжиру достопамятный Нюрнберг...
Но служба миру, наверно, обязывает честного художника не только к тому, чтобы предать анафеме зло, но возвеличить добро в тех проявлениях, в каких он может рассмотреть его в жизни. Помню, как во время диалога с Борисом Ефимовичем на все той же выставке у Москвы реки мы оказались у стенда иллюстраций к мировой классике, выполненных художником с тем исследованием характера человека и жизненных обстоятельств, которые выдает в художнике наблюдательность, остроту видения, и я вспомнил реплику Горького по поводу ранних рисунков Кукрыниксов, которыми они сопроводили роман Алексея Максимовича. Помнится, Горький, которому рисунки понравились, тем не менее заметил, что, принимаясь за иллюстрации, художники должны забыть, что они карикатуристы, обратив свое художническое зрение на суть произведения, – наверно, я цитирую писателя не буквально, но, как представляется мне, смысл реплики передаю верно. Борис Ефимович, которому мнение Горького заметно импонировало, высказался в том смысле, что это не всегда зависит от художника-карикатуриста, но, наверно, он должен эту опасность преодолевать. Справедливости ради следует сказать, что в иллюстрациях к Салтыкову, Горькому, Ильфу и Петрову, как и в рисунках к Гауфу и Гашеку, Ефимову удалось обойти этот опасный риф.
Книга Бориса Ефимовича, к которой мы уже адресовались, заканчивается обращением к молодым художникам, посвятившим себя карикатуре, – в этом обращении весь Ефимов, его прямота и доброжелательность:
«Не без сочувствия к личной симпатии смотрю я на девятнадцатилетнего новичка, сконфуженно протягивающего секретарю редакции свою первую газетную карикатуру. Я знаю, сколько еще у него впереди карикатур и рисунков, сколько еще газет и журналов, сколько еще секретарей и редакторов. Я знаю, впереди у него беспокойная повседневная работа в советской изобразительной публицистике, многие годы творческих забот и трудов, успехов и неудач, радостей, горестей, сложностей. Впереди у него – жизнь».
Пожелаем и мы Борису Ефимовичу, щедрый талант которого не меркнет, как и не убывает его деятельная энергия, новых свершений.
2Но память Ефимова хранит не только тех, кто стал персонажами его сатирических скетчей, особая глава в творчестве художника – его дружеские шаржи, объектом которых, в частности, стали писатели, вставшие у истоков нашей словесности: Луначарский, Маяковский, Светлов, Кольцов, Чуковский, Эренбург, да только ли они? Было бы не по-ефимовски, если бы художник не перенес их на александрийский лист.
Дружеский шарж – это в какой-то мере и портрет, а портрет не создается, как правило, с одного удара. Впрочем, вряд ли верен взгляд, что работа художника одного с Ефимовым жанра – это экспромт, как всякий экспромт, молниеносный и обязательно удачный. Если рисунок, о котором идет речь, призван нести ясную и лапидарную мысль, если он ограничен числом персонажей, каждый из которых должен быть отмечен чертами характера, если этот рисунок к тому же в какой-то мере обязан быть остроумным, стоит ли говорить, что такой рисунок требует от художника труда.
Тут, быть может, уместен вопрос: «Как работает Ефимов?»
То, что могу вспомнить, отмечено отнюдь не сегодняшним днем, но, быть может, в какой-то мере отвечает на вопрос.
Первые месяцы войны. Редакция военной газеты па Дмитровке. Фронтовой режим: страдные сутки, когда день неотличим от ночи, «летучка» в полночь, «планерка» на рассвете. Редакция па трех этажах и некое ее подобие в подвале, куда газета уходила во время бомбежек. Стены в подвале напитаны сыростью и полутьмой. Когда в саду «Эрмитаж» – он рядом – гремят зенитки, электричество принимается мигать – ого точно задувает.
Однажды в подвал спустился Ефимов – в одной руке кусок дежурного ватмана, в другой – флакончик туши, а заодно карандаш с кистью. Устроился за столом, что стоит в поле все еще мигающего света. Очинил карандаш и попробовал обмакнуть перо во флакон с тушью. Но прежде чем начать работу, улыбнулся и, наклонившись к соседу, произнес нечто такое, что и расслышать мудрено в грохоте зениток. Сосед, разумеется, расслышал и ответил Ефимову улыбкой. Будто посветлело в подвале – казалось, даже электричество перестало мигать. Все думалось: ну конечно, он такой, как ты его себе представлял, вдохновенно-веселый человек с волшебной кистью. Вот сейчас обмакнет ее еще раз а тотчас явит экспромт завидный...
Но из-за чего он так помрачнел? И, кажется, даже закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться? А потом взял не кисть, а карандаш и тронул им бумагу, как могло показаться, робко. Тронул и отнял руку. Потом тронул еще – весь раздумье, весь сомнение... Погодите, погодите, да Ефимов ли это? Карандаш шел по ватману трудно. Не карандаш – но бумаге, а резец – но меди. Штрих, да, тот знаменитый ефимовский штрих, когда на шероховатой поверхности ватмана, казалось, видны следы ворсинок от колонковой кисти, этот самый небрежный штрих выписывался!
Мастер сатирического скетча и экспромта-шутки, он вдруг стал самим олицетворением многотерпения. Да неужели здесь происходило нечто такое, что разрушало исконное единство жизни и творчества художника? Или, что еще более разительно и необычно, единство человека и художника? Но ведь я сказал, что рисунки художника очень похожи на него. Тогда в чем же дело? Художник, взявшись за перо, перестал быть самим собой?
Все это необходимо было осмыслить, но одно было несомненно: художник остался верен заповеди истинного. Той самой заповеди, которая гласит: талант жив трудом. Нередко трудом самоотверженным. В самом деле, как ни способен человек, он, принявшись за работу, может даже показаться непохожим на себя. С известной долей юмора можно сказать: мера его непохожести на себя – всего лишь мера сознания им ответственности. Даже если от начала работы до ее конца – годы...
Молодого мастера перспектива большой работы порой приводит в уныние и заставляет делать дело спустя рукава, мастера зрелого – воодушевляет. Как ни огромно здание, которое предстоит выстроить, пятидесятитысячный кирпич будет уложен с той же тщательностью, что и пятый. Я сказал: с той же тщательностью. И тому есть объяснение. Если даже сил меньше, чем прежде, их восполнит та мера воодушевления, которая отличает человека творческого.
Если говорить о том, откуда у человека эти силы, ответить не просто. Одно точно: немало сделали учителя. Да, те первые, что пришли с революцией и передали молодым своим товарищам (они звали молодых: «Товарищ!») многое из того, что имели. Многое, и прежде всего главное: веру!
Ефимов навестил тяжелобольного Луначарского в Париже – незадолго до этого Анатолии Васильевич был назначен послом в Испанию. Луначарский ехал к месту новой работы и занемог, как потом оказалось, смертельно.
Ефимов пришел к Луначарскому с Евгением Петровым – разговор, разумеется, шел о литературе.
– Я ведь много написал книг, – сказал Луначарский, – но все эти вещи я считал только вступлением к своей главной, обобщающей литературно-философской работе...
(Позднее, говоря о том, что ему предстоит еще сделать, Анатолий Васильевич развил эту мысль: «...так хотелось оставить молодому поколению мои, в сущности, очень большие знания в области мировой культуры и искусства, как-то собрать их в одной-двух-трех книгах... Не слишком перегружаясь дипломатической работой, я смогу отдаться литературе, закончить книгу о сатире, биографию Бекона для «Жизни замечательных людей», книгу о Фаусте, переработку пьесы Ромена Роллана «Настанет время», закончить серию этюдов о Гоголе, еще много всякого другого...»)
Итак, Луначарский говорил о том, что предстоит сделать, и длинный список был рассчитан на годы и годы, а жизнь уже определила все свои сроки: не было не только лет, дни были на ущербе... Живые это понимали, должны были понимать. О чем они думали, должны были думать? В жизни у тебя немало учителей, но не всякого ты признаешь своим учителем. Учитель – это авторитет. В немалой степени и человеческий. Далеко не всякого примешь в учителя. Этого готов был принять. Как у каждого, кто много обрел, у этого была неудовлетворенность достигнутым. Все думал человек: мало знает, мало сделал. Видел дальнюю вершину и стремился к ней. Все готов был учесть. Не учитывал только состояния собственного сердца. Всегда не учитывал. И сейчас, когда тот берег был уже виден.
– Не мы на него, а он на нас благотворно подействовал своей бодростью, оптимизмом, жаждой деятельности, молодостью, – сказал тогда Борису Ефимовичу его спутник.
А Ефимов отозвался на это карандашным портретом Луначарского, больного Луначарского. (В правом углу круглым ефимовским почерком обозначен год: 1933.) Портрет немудреный, но в нем есть нечто такое, что может ухватить карандаш: жизненно верно и по настроению... Видно, как беспощаден огонь недуга, как худо человеку... Но видно и иное: лицо полно света. Это свет мысли и, пожалуй, надежды. Смерть? Нет, не о ней сейчас забота... А что до кровати и подушек, то дело не в них. Просто человек склонил многомудрое чело, чтобы обратить думы к сущему: впереди – вершина...
Луначарский не принадлежал к числу тех, кто оказывал непосредственно влияние на формирование Ефимова – человека и художника, – я говорю об этом столь определенно, имея в виду воспоминания самого художника. Но Луначарский, несомненно, представлял то поколение и ту когорту деятелей революции, на которой вышли те, кто оказал решающее воздействие на становление Бориса Ефимовича.
Однако вернемся к портретам-шаржам. Из того поистине неисчислимого, что создал Ефимов, главное – ефимовские портреты писателей. В них, и этих портретах, есть черты ефимовского умения и характера. Как и подложит быть газетному рисунку, он у Ефимова лаконичен. Можно сказать, что тут в высшей степени экономичный штрих приведен в соответствие с глинной мыслью, которую рисунок несет. Маяковский весь в этой теме: «Вот лозунг мой и солнца!» Никто но требует от этих портретов психологии, а она в них есть. Вот хотя бы портрет Маяковского: в нем вся натура поэта, непреклонность, достоинство и та могучесть, которой исполнена каждая его строка. Мы сказали «натура», хотя портрет плакатен и по-плакатному символичен: перед нами тот самый Маяковский, который пришел к нам если не из коммунистического далека, то по крайней мере из дня сегодняшнего. Поэт-стяг. Ефимов указывает на это недвусмысленно. Всмотритесь в портрет – и вы увидите, что у него своеобразный фон: новый дом с телевизионной антенной, знак дня нынешнего.
Мне показался интересным светловский портрет, веселый и чуть-чуть печальный, но со всей непростой сутью. Конечно же Светлов был поэтом нашей комсомольской юности, юности военной, но он был по своему существу человеком глубоко штатским: и первый раз, и второй раз он пошел на войну по мандату долга. Портрет передает этот смысл очень точно: просторная буденовская шинель, из-под которой видна партикулярная сорочка с галстуком. Здесь – весь Светлов, поэт-романтик и бессребреник, не такой уж молодой, возможно, с признаками недуга, хотя портрет помечен пятьдесят четвертым годом и ничто еще не предвещало трагического исхода... Но такова уж природа нашего видения: мы смотрим на портрет сквозь призму того, что произошло с человеком в годы, когда портрет уже написан. Да правомерно ли это? И есть ли у художника возможность заглянуть в завтра и своеобразно прочесть судьбу человека? По-моему, есть: проникнув в психологию, художник обретает возможность понять человека, а это значит: в какой-то мере обнаружить прозорливость.
Деятелен, жизнелюбив и молод у художника Михаил Кольцов, хороший писатель, чей труд в литературе был отмечен чертами новизны, революционной новизны – речь идет не только о теме, всегда насущной, но и о форме. Сюжетны, точны по композиции и языку были кольцовские фельетоны, которые хочется назвать рассказами и потому, что они не стареют. Кстати, Кольцов остался в нашей памяти и как талантливый организатор литературно-издательского дела, вызвав к жизни много добрых начинаний, некоторые из которых живут по сей день... Именно деятелен, жизнелюбив и молод, моложе, чем он может показаться нам: достаточно сказать, что Кольцов стал редактором «Огонька», когда ему было двадцать четыре. Эти черты, для Кольцова существенные, видны в ефимовском рисунке, как видно и иное: что-то такое, что должна была сберечь память о человеке, нетускнеющая.
Во многом интересен и портрет Чуковского: живой Корней Иванович. И не просто живой, но и в чем-то характерный. В чем? Тот, кто видел Корнея Ивановича в том же Переделкине, очевидно, припомнит его в общении с детьми, толпа которых неизменно была рядом с Чуковским. И в библиотеке, которую он создал и расположил рядом с домом (дети ему не мешали), и на большом и малом переделкинских кольцах, которые он дозорно обходил каждый вечер, сопутствуемый своими юными друзьями. Я иногда находился вместе с Чуковским на этих переделкинских кольцевых тропах. Мои беседы с Корнеем Ивановичем касались Уэллса и англоязычной литературы, при этом в стороне не оставались и проблемы, в которых литература и дипломатия соседствовали. Но вот вторгались дети, и пластинка напрочь переворачивалась. Мойдодыр и Цокотуха!.. Иной Чуковский? Нет, он был един. Просто всю его долгую жизнь жила в нем страна его детства, заповедная, жила и являлась к Чуковскому каждый раз, когда он разговаривал с детьми. Смею думать, что для Чуковского это были счастливые минуты. На рисунке Ефимова Корней Иванович изображен именно в такую минуту.
Рисунок Ефимова, на котором Валентин Катаев изображен в бескозырке, с многозначительным «Одесса» на околыше, недвусмысленно свидетельствует не только о катаевском авторстве таких романов, как «Белеет парус одинокий», «За власть Советов», «Хуторок в степи», первородиной которых был город на нашем юге, но и об ином: школой литературного умения Валентина Петровича, школой мастерства был этот город и та необыкновенно талантливая группа литераторов, которая отсюда вышла, – Олеша, Багрицкий, Булгаков, Паустовский, Бабель, Ильф и Петров. Между строк замечу, что однажды у меня был с Валентином Петровичем разговор прямо на эту тему. Я спросил его, не считает ли он закономерным, что приблизительно в одно и то же время, на нашем севере и юге, возникли две могучие писательские кучки, давшие вашей словесности больших мастеров: в Петрограде – «Серапионы», в Одессе – Олеша, Багрицкий и другие... Валентин Петрович не увидел в этом закономерности, однако в своем определении южной группы допустил, что ей были свойственны общие черты, которые есть смысл постичь. В статье, которую Катаев предпослал каталогу Бориса Ефимовича, он причисляет его к последователям Павла Андреевича Федотова, чья высокая гражданственность и приверженность реалистическому началу сослужили добрую службу русскому искусству, ее демократическим традициям. Если же вернуться к рисунку Ефимова, то в нем мы увидим Катаева, человека энергии неизбывной, сохранившего вопреки возрасту и жизнестойкость, и живую мысль, и острую реакцию к происходящему. Все это том более точно подмечено, что рисунок, сделанный двадцать лет тому назад и воссоздающий Катаева той поры, смотрится и сегодня.
Хорош у Ефимова Михаил Исаковский. Конечно, поэт дан песенником, что определяет суть поэзии Исаковского. Художник как бы преломил в образе поэта стихи Исаковского об одинокой гармони. Но в этом портрете видится большее – немалые душевные достоинства поэта, его широкая и участливая натура. Признаться, для меня это отождествлялось с тем щедрым, что сделал поэт для своего смоленского земляка. Кстати, однажды на большом банкете, который устроил Союз писателей в честь Исаковского, я слышал, как об этом говорил Александр Трифонович. Человек, как известно, достаточно сдержанный, Твардовский говорил эмоционально, стараясь воздать старшему товарищу полную меру благодарности. Я знал стихи Исаковского давно, мальчишкой слушал их в авторском исполнении, когда поэт, совершая большую поездку по стране, не минул и моего отчего города, но человечески ощутил его, слушая слово Твардовского. По-моему, Ефимов, вызван зримый образ поэта, в столь, казалось, своеобычном жанре, как портрет-шарж, коснулся этой открытости и широты Исаковского, чисто человеческой.
Конечно, портретная галерея, созданная Ефимовым, хранит все черты жанра – это рисунки художника, важная суть которых – смех. Однако в этих портретах рассматривается нечто такое, что может преломить художник, посвятивший себя изобразительной публицистике, как Ефимов. Ну, например, такая деталь, существенная. Портретист, как представляем его мы, в большей мере следует натуре, он ограничен, а подчас и скован в своем отношении к тому, кого он изображает. Иное дело – художник юмористического цеха!.. Он может занозить костюм Оренбурга колючками, посадить на плечо Маяковскому солнце, поселить в книге, которую держит Чуковский, муху-цокотуху, и это имеет свой смысл, не избежав, разумеется, и того, чтобы в самом облике человека раскрыть то человеческое, личное и обобщенное, что должно быть свойственно портрету, если даже он обрел форму дружеского шаржа. Именно дружеского: для Ефимова такой портрет синоним светлого начала, знак добра.
Наверно, способность заклеймить зло и восславить добро – это и есть Ефимов.








