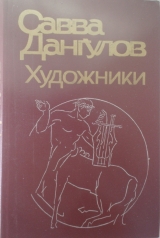
Текст книги "Художники"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 60 страниц)
Поездка в Предкарпатье показала некоторые из черт характера Эренбурга, о которых прежде я мог только догадываться: способность отдать себя увлечению, чисто писательская потребность видеть жизнь в необычных ее проявлениях. Все это черты молодости, которые каким-то чудом удалось сохранить Илье Григорьевичу; впрочем, он и не был стар – ему было в ту пору всего пятьдесят четыре.
– Мне надо еще поставить свой автограф на пяти тысячах экземпляров книги, – сказал он едва ли не в канун отлета на родину. – Не беда: не посплю ночь и мигом одолею – подумаешь... пять тысяч!
Когда на рассвете я заявился в «А те по палас», где остановился Эренбург, и, не обнаружив Илью Григорьевича в вестибюле, поднялся к нему в номер, то увидел картину, которая немало поразила. Номер был буквально завален книгами: чтобы уместить книги, пришлось сложить их на столе, стульях, подоконнике, заполонить почти всю площадь пола, завалить прихожую. Не без труда я проник в комнату. Посреди этого книжного развала, так и не разоблачившись, спал Эренбург, как мне помнится, зажав свое парижское стило в руке... Видно, скрип открываемой двери разбудил Илью Григорьевича – он поднял на меня недоуменный взгляд – ему необходимо было время, чтобы опознать меня.
– Представьте, работал почти до рассветного часа и надписал только восемьсот двадцать – только... Боже, в каком свете все это представит меня моим издателям? Может быть, отменить отлет?
Я помог ему уложить вещи, и мы выехали на аэродром, явившись туда едва ли не впритык к отлету самолета.
Да, это было именно так: человек обязательный, умеющий работать с быстротой и точностью завидными, он был подвержен увлечению и подчас но очень рассчитывал силы, становясь в такую пору как все.
Но, очевидно, я плохо знал Илью Григорьевича: в послевоенные годы он был одним из тех, кто взял на себя труд сплочения зарубежных общественных сил земли в борьбе за мир – его сподвижниками были Н. Тихонов, А. Корнейчук, К. Симонов и особенно, конечно, А. Фадеев. Но был еще человек, вклад которого в эту работу был исключительно велик, – я говорю о Владимире Петровиче Терешкине. Я знал Владимира Петровича по «Иностранной литературе» – он был членом редколлегии журнала, в котором я теперь работал одним из редакторов. Как я однажды писал, Владимир Петрович не был литератором, но великолепное знание международных дел в сочетании с деятельным и прозорливым умом делало его человеком незаменимым для нашей редакции. Как и надлежит члену редколлегии, он читал все, что предлагал секретариат в очередной номер, и по каждой вещи имел мнение, которое точно аргументировал. Это снискало Владимиру Петровичу уважение специалистов иностранной литературы – он пользовался у них авторитетом, какого не имели иные знатоки иностранной словесности. Как мне казалось, именно достоинства Владимира Петровича во многом определялись его характером: в недавнем прошлом политработник, прошедший трудными тропами войны, он умел разговаривать с людьми. В его беседах были свойственные Владимиру Петровичу скромность, уважение к собеседнику и, конечно, знание предмета. Мне было ведомо, что Владимира Петровича связывали добрые отношения с Эренбургом – в делах, относящихся к миролюбивым акциям прогрессивной общественности, Владимир Петрович был в своем роде советчиком всей группы наших деятелей культуры, причастных к этому движению, в частности другом и советчиком Эренбурга. И вдруг беда: Владимир Петрович заболел, по всему – тяжко. Стало известно, что врачи начали жестокую борьбу за его жизнь, подвергая его нелегким процедурам, а он вел себя так, как будто ничего не происходит: продолжал читать рукописи, не пропускал, как обычно, заседаний редколлегии... Но где-то силы изменили ему: он слег. Коли слег Владимир Петрович, значит, дело худо, сказал я себе...
Гроб с телом Терешкина был установлен в особняке на Кропоткинской, где помещался в ту пору Комитет защиты мира. Человек, имя которого при жизни было неведомо, собрал в особняке на Кропоткинской весь цвет пашей общественности – там я увидел и Эренбурга. Помню, Илья Григорьевич сказал мне: «Наверно, истинная ценность человека заключается в том, каким его удержала память людей... «С тех пор прошло чуть ли не два десятка лет, а слова Ильи Григорьевича не в состоянии стереть время – негасима память о Владимире Петровиче, его личности, его необыкновенном человеческом даре...
И вот последняя встреча с Эренбургом, самая последняя. Париж, весна шестьдесят девятого года, парк Тиволи точно легким туманом обволокла молодая листва, по Сене уже идут прогулочные суда, ярко-белые, заполненные поющими парижанами, – кажется, ветер размывает песню вместе с легким дымком, что протянулся за судном. Пятачок «Сите» полон туристов, которые, воспользовавшись горячим апрельским солнышком, не спешат укрыться в мглистом чреве храма, из высоких врат которого ощутимо тянет ветром... И вот наше посольство на рю Гринель, не столь уж просторный посольский дворик и на ступенях неширокого крыльца, ведущего в посольский особняк, Илья Григорьевич со старинным ружьем едва ли не наперевес – видел Эренбурга во всех видах, но в таком не видел.
– Хорош мушкет, а? – смеется Илья Григорьевич. – Музейная штука – лично принадлежал Наполеону... Геринг умыкнул у Франции, а я, разумеется, у Геринга...
Но все оказывается много проще: коллекционным мушкетом Илью Григорьевича одарили наши солдаты, которых в ходе боев судьба занесла в усадьбу Геринга под Кенигсбергом – среди прочих сокровищ, свезенных сюда вице-фюрером со всей Европы, было и ружье Наполеона Бонапарта. Эренбург принял трофей, решив при первой же возможности вернуть его Франции. Сейчас такая возможность представилась.
– Вот так-то: Франция получит этот мушкет из наших рук, когда он уже не стреляет... – произнес он смеясь. – А быть может, он шел с этим мушкетом на Россию?.. – заметил он, перестав смеяться. – Хорошо, чтобы так было всегда...
– Дать по рукам и сложить мушкеты в музеи?
Мне казалось, что он, уже старый человек, волонтер гражданской войны в Испании и солдат Великой Отечественной, предпринял это путешествие в милую его сердцу Францию, прихватив с собой смешную Бонапартову пушку, чтобы утвердить истину, которая в ту пору определяла смысл его бытия: сложить все мушкеты в музеи, все, сколько их есть на свете...
ТИХОНОВ
Пусть разрешено мне будет вернуться к поре, которая однажды уже возникала в этой книге, – для меня это пора золотая. Казалось, отрочество уже ушло, а юношество не возобладало. Пятьдесят моих сверстников, мечтающих о первооткрытии в жизни и чуть-чуть в искусстве, создали театр. Своим стягом молодой театр сделал кумач революции – кумачовое знамя звало к поиску. Вспоминаю театр моих сверстников и вижу белый в многозвездной кубанской ночи сосновый помост, освещенный фарами тракторов, и высокоплечую фигуру моего друга Толи Багреева, читающего тихоновский «Перекоп»:
Нам снилось, если сто лет прожить —
Того не увидят глаза,
Но об этом нельзя ни песен сложить,
Ни просто так рассказать!
Ничто не производило такого впечатления, как всесильная тихоновская «Брага» – «Баллада о гвоздях», «Песня об отпускном солдате» и конечно же «Баллада о синем пакете». В тихоновских стихах была внезапность новизны. Когда читалась «Баллада о синем пакете», ритм стихов, казалось, передавался слушателям:
...Повез, раскачиваясь на весу,
Колесо к колесу, колесо к колесу...
Молодые актеры утверждали себя в чтении тихоновских баллад, шло незримое соревнование. В него были вовлечены слушатели, среди которых еще были живы и перекопцы, те, кто «живыми мостами мостил Сиваш». Чтение стихов заканчивалось за полночь, при этом уже не на сосновых подмостках, а на таких же белых в многозвездной кубанской ночи степных шляхах.
И когда луна за облака
Покатилась, как рыбий глаз.
По сломанным рыжим от крови штыкам
Солнце сошло на нас...
Однако почему мы так тянулись к Тихонову, почему были так заворожены его стихами? Ну, революция, которая единственно владела нашим сознанием, была в стихах и иных поэтов, быть может, она была выражена не так увлекательно и сурово, как у Тихонова, но она была. Очевидно, тут действовало иное, не совсем осознанное, что было сферой не столько ума, сколько сердца... Необычное!.. Да, необычное, едва ли не лежащее в пределах сказочности, где уже перестает действовать земное притяжение, чуть ли не фантастическое, а вместе с тем не противостоящее нашей жизни, больше того – и возвышающее. «Праздничный, веселый, бесноватый, с марсианской жаждою творить...» – так мог сказать только Тихонов, назвать все это романтикой – еще не все объяснить.
Книжку стихов открывала тихоновская фотография. Мне виделся суровый человек, эта суровость была в свечении глаз, в особом строении лица, – мне казалось, вот такой подбородок, крупный, больше квадратный, чем округлый, должен выдавать в человеке мужество... Каким был этот человек, какую жизнь он прожил? Военный интеллигент, династически военный? Не иначе – сын артиллерийского полковника, воспринявший профессию отца, – среди профессиональных военных артиллеристы были самыми образованными. Быть может, носит френч с накладными карманами и галифе, стянутые в сухих икрах крагами? Курит трубку, сам нарезая тоненьким перочинным ножичком желтый турецкий табак? Какой он, Тихонов?
Во мне был жив свой образ поэта. Он был нерасторжим с тихоновскими стихами. Случись мне увидеть иного Тихонова, я, пожалуй, не признал бы его.
В марте сорок второго кто-то из моих сподвижников по «Красной звезде» сказал, что в редакции видели Тихонова, накануне прилетевшего из Ленинграда. Был тот поздний час, когда дневная маета большой газеты медленно стихала и вожделенная первая полоса, только что тиснутая и еще не просохшая, шла наконец к редактору. Я точно пошел за этой полосой вслед, полагая, что она мне проложит путь и к Тихонову, – как мне сказали, он у редактора. Дверь в кабинет была открыта, верхний свет выключен, горела только лампа над конторкой, освещая склоненную фигуру редактора, читающего полосу. Рядом стоял человек в зеленой гимнастерке и солдатских сапогах. То ли боковой свет был тому виной, то ли сумерки, вползшие в комнату, мне бросились в глаза его провалы щек, заполненные тенью. В облике человека не было ничего общего с тем, что я увидел на фотографии, открывающей книгу его стихов, как, впрочем, и с образом человека, которого я выносил в своем сознании, разве только подбородок, характерный тихоновский подбородок, – худоба сделала его еще более приметным.
– Сколько надо дней, столько и дадим! – сказал редактор с той лаконичностью, какая у него была принята. – Три колонки ваши!
Я еще пытался расшифровать в своем сознании реплику редактора, когда друзья корреспонденты поведали, что Тихонов живет в странноприимном доме гостиницы «Москва», работая над поэмой о двадцати восьми, живет затворником, дав своеобразный обет явиться в редакцию только с текстом поэмы. Признаться, мне не все в этой версии казалось убедительным, и я пытался оспорить ее в своем сознании, но у моих сомнений срок был короток – Тихонов вышел из своего заточения. Больше того, была собрана редакция – Тихонов читал поэму.
Смотри, родная сторона,
Как бьются братьев двадцать восемь!
Смерть удивленно их уносит:
Таких не видела она.
И стих обуглится простой
От раскаленной этой мощи.
Пред этой простотой святой,
Что всяких сложных истин проще.
И слабость моего стиха
Не передаст того, что было.
Но как бы песня ни глуха, —
Она великому служила!
Помню, когда я на другой день развернул свежий номер «Звездочки» и увидел разверстанные на три колонки тихоновские стихи, озаглавленные значительным «Слово о 28-ми гвардейцах», ощутил волнение. Как ни короток был срок, который поэт отдал стихам, в поэме была сокрыта тихоновская сила, хотя поэт, казалось, не переоценивал и этого:
Но как бы песня ни глуха, —
Она великому служила!
Поэма была напечатана, Тихонов улетел в Ленинград, улетел, как это было принято тогда, ночью, пройдя едва ли не на бреющем над черной ладожской водой, а в редакции еще долго вспоминали встречу с поэтом и его поэмой. Что-то было в облике поэта и воинственное, и ненастное, – сам лик поэта, казалось, был освещен горестным огнем Ленинграда.
Ранней осенью сорок третьего года я был в Ленинграде, который все еще был сдавлен блокадным кольцом и яростно обстреливался. Незадолго до этого я вернулся из «Красной звезды» на Кузнецкий мост и теперь прилетел в город на Неве, представляя Наркоминдел. Вместе со мной был Александр Верт, английский писатель и публицист, которого привела в Ленинград, как мне казалось, неодолимая ностальгия – он родился в городе на Неве в более чем состоятельной семье и юношей покинул Россию, едва свершился Октябрь...
Мы прилетели в Ленинград в полночь, прилетели, по слову наших летчиков, «с подскоком» – засветло сели в Хвойной, дождались ночи и, приникая к воде, пересекли Ладожское озеро и вошли в пределы города. Сели в черте Ленинграда, – как потом я узнал, то был Смольнинский аэродром. Едва забрезжил неяркий рассвет, артиллерийский гул, устойчивый, медленно нарастающий, точно мы были в горах, разбудил нас. Помню, как мы бежали с Вертом на Моховую, где был когда-то его отчий дом, сопутствуемые этим гулом, бежали не останавливаясь, не без тревоги взирая на бледное по осени ленинградское небо. Потом, не без влияния ленинградцев, стали реагировать на артиллерийский аккомпанемент не столь тревожно, однако не забыв осведомиться: «Сколько сегодня немец выпустил по городу снарядов? Тысячу шестьсот? Вчера было две тысячи, – говорят, наши летчики смяли у него несколько батарей...»
Нас сопровождал молодой литератор, сотрудник местной газеты, хорошо знающий город, – будем звать его Терехов. Маленький, жизнерадостный, с симпатичной плешинкой на макушке, он читал город, как книгу, подчас забывая, что эта книга была не однажды прочитана и Вертом. Надо отдать должное Терехову, у него было то преимущество, что он знал и новые главы этой книги, чего по понятным причинам нельзя было сказать о Верте. В том незримом соревновании, которое шло у Верта с Тереховым в знании города, англичанин подчас уступал нашему провожатому, а подчас брал верх, при этом убедительно. У меня в далекой перспективе были задуманы «Дипломаты», и я хотел знать дипломатический Петербург. Терехов тут мог сказать мало, в то время, как Верт был на высоте. Британское посольство у Троицкого моста, французское – на набережной, американское – на Фурштадской, германское – на площади Исаакия – все это показал мне Верт, сопроводив рассказами, которые были только у него на памяти, в частности живописным рассказом, как городская толпа громила германское посольство в памятный первоавгустовский день 1914 года, сбрасывая на тротуар многопудовые дива, украшающие фасад.
Верт хорошо знал литературный Ленинград, при этом и современный. Он мог спросить неожиданно: «А нельзя ли повидать Вишневского?» Пли еще определеннее: «Я прочел в «Ленинградской правде» стихи Саянова, – может, есть смысл встретиться с ним». Но особенно много Верту говорило имя Тихонова: «Красная звезда» вот уже больше года печатала ленинградский дневник поэта: «Ленинград в мае», «Ленинград в июне»... К тому же у Верта были тут свои соображения, подсказанные тихоновским стихотворением, которое однажды Верт прочел, – оно касалось английской темы и относилось к предвоенной поре.
Сквозь ночь, и дождь, и ветер, щеки режущий,
Урок суровый на ходу уча,
Уходит лондонец в свое бомбоубежище,
Плед по асфальту мокрый волоча.
В его кармане – холодок ключа
От комнат, ставших мусором колючим.
...Мы свой урок еще на картах учим,
Но снится нам экзамен по ночам! —
писал Тихонов, вызывая и Верта на раздумья, в которых были и мысль и страсть. Верт, великолепно знавший русский, проник в полутона тихоновских стихов, сделав вывод, который оспорить трудно: «Это стихотворение отражало нарастающее у советских людей предчувствие, что избежать войны с нацистской Германией, пожалуй, не удастся: «Снится нам экзамен по ночам...»
Наш спутник был знаком с Тихоновым и мог рассказать такое, что было ведомо только ему, но это могло ответить любознательности англичанина лишь частично. Однажды, когда мы возвращались с Кировского завода, где, по рассказам, незадолго до этого выступал Тихонов с поэмой «Киров с нами», Терехов заметно оживился и, указывая на серый дом, выдвинутый уступом, заметил:
– Вот это и есть родительский дом Николая Семеновича, детство его прошло здесь...
Верт смешался заметно:
– Погодите, но ведь это известный петербургский дом, здесь жил Герцен...
Но Терехов был невозмутим.
– И Тихонов, – подтвердил Терехов и пояснил: – До ухода в гусары.
– Погодите, но Тихоновы... известная петербургская фамилия, не так ли? – спросил Верт в явной связи с увиденным; впрочем, реплика Терехова о гусарах скорее этому способствовала, чем противостояла.
Признаться, и у меня воспряли мысли о Тихонове, отпрыске знатных петербуржцев...
В один из этих дней последовало приглашение в особняк на Литейном проспекте: приглашал артистический Ленинград – писатели, художники, композиторы. Когда мы вошли в особняк, который нам показался беломраморным, волнение объяло нас. Легче было сказать, кого тут не было, нежели кто тут был. За хозяина вечера был Всеволод Вишневский – его морской китель был расцвечен пятью или шестью рядами орденских ленточек. Вишневскому помогал Виссарион Саянов, чьи пушистые усы, которые он отрастил к тому времени, можно было сравнить с усами Буденного. Были Вера Кетлинская и Борис Лихарев, как, впрочем, и многие другие. Живопись представлял художник Серов, его полотна, посвященные суровым дням блокады, мы видели накануне, музыку – Элиасберг, которого ленинградцы почитали: он дирижировал оркестром, исполнявшим в блокадном городе знаменитую Седьмую симфонию Шостаковича...
Верту хотелось услышать рассказ о ленинградской эпопее из уст людей искусства, и мы прошли в гостиную особняка, где стоял овальный стол, очень нарядный. Рассказ начал Вишневский – он говорил о кронштадтцах. Потом вдохновенно говорил Саянов, рассказавший о боях в небе Ленинграда. Потом стройное каре родов войск было нарушено и возник рассказ о ленинградской эпопее, рассказ живой, вдохновенный и необыкновенно человечный. Кстати, к этому времени мы пересели уже за другой стол, накрытый по тому времени с неслыханной щедростью. Все казалось – тяжелая дверь столовой распахнется и войдет Тихонов. Верт ждал этой встречи. Накануне он говорил мне о тихоновских дневниках, публикуемых в «Красной звезде», сравнивая их с толстовскими, – это сравнение было в обычаях Верта, он знал русскую классику. Но тяжелая, обремененная лепниной дверь столовой была неподвижна – Тихонова в этот вечер не было. Верт осторожно спросил хозяев о поэте. Ему ответили, что его нет в Ленинграде. Верт не скрыл своего сожаления.
Мы возвращались в «Асторию», сопутствуемые нашими ленинградскими друзьями, – рядом с нами был Виссарион Саянов. Получилось так, что вопрос Верта о Тихонове и реплику англичанина: «Жаль, что нет Тихонова, я очень рассчитывал повидать его здесь» – Саянов засек и оценил. Последнее, как я потом установил, было характерно для Саянова – больше, чем кто-либо иной из ленинградских литераторов, он был связан дружбой с Николаем Семеновичем. Тихонов воздал этой дружбе в своей «Двойной радуге», там есть глава о Саянове. Зачином к главе Николай Семенович избрал прокофьевские строки: «Был с нами друг наш замечательный, высокой доли человек...» Глава озаглавлена «Палатка под Выборгом», как, впрочем, и стихотворение, которое Тихонов посвятил Саянову. Глава воссоздает картину зимней войны в Финляндии, когда судьба соединила поэтов, поселив их в палатке под Выборгом. Для Тихонова то была третья война, для Саянова – первая. Тихонова восхищает Саянов смелой прямотой, храбростью. «Мы дружили с ним давно и по-настоящему. Нигде так, как на войне, не узнается человек во всей широте настоящих чувств. Так я увидел моего друга в ту незабываемую, беспощадную зиму войны с белофиннами. Мы проделали с ним весь зимний поход, с первого до последнего дня. В марте 1940 года, после прорыва линии Маннергейма, в дни боев за Выборг, мы жили с ним в одной палатке, на снегу, среди сугробов, и непрерывный грохот орудий сопровождал нас с утра до вечера», – напишет со временем Тихонов, воздав должное другу и дружбе. Но это произойдет много лет спустя, а сейчас была ленинградская ночь сорок третьего года и мы, сопутствуемые Саяновым, возвращались в «Асторию».
– Конечно, я лицо не совсем беспристрастное, – говорил Саянов, намекая на свою дружбу с фронтовым побратимом, – но я все-таки скажу все, что хочу сказать... – Судя по тому, с какой настойчивостью он повернул сейчас разговор к Тихонову, у него была потребность продолжать разговор, начатый в особняке на Литейном. – Допускаю, что сейчас говорить об этом рано, но попомните мое скромное пророчество: именно Тихонов был летописцем блокады – никто точнее и ярче не вел эту летопись, при этом и в поэзии... Собранное воедино, все написанное Тихоновым даст и цельную и верную картину того, что пережил Ленинград… Мы вошла в подъезд гостиницы. То ли быстрый шаг ужесточил дыхание нашего спутника, то ли волнение, которое объяло его, мы слышим, казалось, как колотится его сердце.
– Конечно, каждый из нас что-то сделал в эти годы, но Тихонов сделал больше остальных, – закончил Саянов, тяжело дыша, его пушистые усы вздувались.
Рассказ Саянова был своеобразно продолжен в моем сознании почти через четыре года, когда я прочел тихоновский этюд «Из осажденного Ленинграда». Этюд малоизвестен, он был напечатан в специальном выпуске нашей газеты, к ее двадцатипятилетию, – у этого выпуска было весело-праздничное имя «Красная звездочка». Впервые со времени войны в газете возник весь ряд краснозвездовцев, от Эренбурга и Симонова до Суркова и Павленко. Как некогда, ленинградцы выступили в своих откликах на юбилей едва ли не плечом к. плечу – Саянов в стихах, Тихонов в прозе. В тихоновском этюде есть настроение той поры, да к тому же это едва ли не единственное свидетельство, в котором поэт говорит о своих отношениях с «Красной звездой», хотя и кратко, но прямо и полно.
Итак, «Из осажденного Ленинграда».
«В «Красной звезде» я начал печататься очень давно, но никогда не ощущал такой тесной связи с ней, такого ее значения в моей жизни, как в годы Великой Отечественной войны. Я видел своими глазами, как читают ее с первой и до последней страницы на переднем крае бойцы и командиры, какой популярностью она пользуется в массах и как велика сила ее ведущего, вдохновляющего слова. В тот период «Красная звезда» объединяла огромный боевой коллектив писателей, поэтов, очеркистов, журналистов. Большой гордостью для меня было печататься в такое время в такой газете, за которой следил миллионный, необыкновенный читатель, который с оружием в руках громил фашистских захватчиков.
Особое значение страницы «Красной звезды» приобрели для меня после того, как, по предложению редакции, я начал печатать в ней свои ежемесячные обзоры положения в осажденном Ленинграде. Я начал их с мая 1942 года, и потом они под названием «Ленинград в июне», «Ленинград в июле» и т. д. печатались вплоть до освобождения Ленинграда, до дней разгрома немцев под Ленинградом. Последний очерк назывался «Победа».
Обычно полполосы отводила газета под этот обзор. Писать его было сложно и необыкновенно ответственно. Многое нельзя было сообщать о жизни фронта и города, чтобы не раскрывать военной тайны, многое редакция сокращала или из-за «излишней лирики», или по недостатку места, но на каждый такой очерк я имел письма с фронтов, от рассеянных по фронтам ленинградцев...
Редакция «Красной звезды» много помогала мне. Когда я писал поэму «Слово о 28-ми гвардейцах». В трудные минуты фронтовой, осадной жизни я всегда чувствовал товарищескую поддержку, заботу и дружеское участие моих боевых товарищей по «Красной звезде».
Мне представляется уместным вернуться к весне сорок второго, когда Тихонов работал над поэмой о двадцати восьми. В поэме есть строки, для всего существа Тихонова характерные, – они воссоздают момент для гвардейской дружины трагедийный. Только что была отбита первая волна танков, как возникла вторая, еще более мощная.
...И Бондаренко, что когда-то
Клочкова Диевым назвал.
Сказал ему сейчас, как брату,
Смотря в усталые глаза:
«Дай обниму тебя я, Диев!
Одной рукой могу обнять,
Другую пулей враг отметил». —
И политрук ему ответил,
Сказал он:
«Велика Россия,
А некуда нам отступать,
Там, позади, Москва...»
В окопе
Все обнялись, как с братом брат...
Мне подумалось, что эту поэму должен был написать именно Тихонов – она будто вызрела из самого существа жизни поэта, его взглядов на человека и жизнь. Ему должно было необыкновенно импонировать, что победа у разъезда Дубосеково добыта дружиной, в которой находились дети всех наших народов: «В окопе все обнялись, как с братом брат...»
Осенью семьдесят шестого года у меня была необыкновенно увлекательная поездка к сердцу горного Таджикистана, на Памир, на Вахш, где шли полным ходом работы по строительству Нурекской гидростанции. Повод к поездке был более чем добр: рабочие Нурека присудили мне свою рабочую премию. В Москве уже лежал снег, а здесь была райская теплынь. Нас пригласил к себе Мирзо Турсун-заде.
Мне было интересно наблюдать поэта. Все было в нем умеренно особой, так мне казалось, таджикской мягкостью – и жесты, и походка, и манера говорить.
Стол был накрыт в доме, из просторных окон которого открывался чудесный вид на памирское предгорье и гряду гор, в такой мере четких, что казалось – до них рукой подать. Точно пользуясь этим, наш хозяин, сидящий во главе стола, невысоко поднимал руку и, указывая на горы, несмотря на декабрь но утратившие зеленого отлива, произносил:
– За этой круглой горой – мои родные места...
Желая сделать гостю приятное, он спросил меня: «Что бы вы хотели увезти из Таджикистана?» Я был наслышан о необыкновенных достоинствах местной чинары и ответил: «Чинару, разумеется... Но вот вопрос, – обратился я к хозяину, – возьмется ли чинара в моем подмосковном саду?..» – «Лучше, чем любое другое наше дерево», – заметил Мирзо, и мигом были добыты саженцы чинары. «А знаете, вы хорошо придумали с чинарой, – сказал мне поэт, прощаясь. – Она живет дольше всех наших деревьев, а значит, у нее есть будущее».
Ну что ж, это, наверно, было главным, что следовало сказать гостю, важнее этого ничего не скажешь, если хочешь, чтобы он остался твоим другом. Я не знаю, что после первой встречи сказал Мирзо Тихонову, но это наверняка были очень значительные слова, – как мне сказали, у Мирзо была многолетняя дружба с Николаем Семеновичем, у Мирзо и его литературы. Но последнее я уже сам могу свидетельствовать.
Случилось так, что, вернувшись из Таджикистана, я попал в большой конференц-зал писательского особняка на улице Воровского, на встречу с таджикскими литераторами. Мне была понятна радость таджиков, когда появился Тихонов. Русский поэт не без радостного волнения отвечал на рукопожатия таджиков, – в том, с каким почтительным вниманием те склоняли головы перед старым поэтом, был знак душевной приязни, знак родства. Все стало понятно, когда хозяева и гости заняли места за большим столом и слово было предоставлено Тихонову, слово о таджикской литературе. Для меня речь Николая Семеновича была отмечена впечатлением новизны – я никогда не слышал, как он говорит на аудитории. Не хочу искать иного слова, но могу сказать, что был захвачен стихией тихоновской речи. Ее речевой образностью, ее живостью, ее неброской целеустремленностью, ее стройностью, ее познавательным богатством. Можно было только удивляться, как Тихонов проник в суть этой литературы, почувствовал ее существо. Речь была исполнена стремления проложить своеобразный мост между таджикской литературой и остальными литературами Союза Советов. Если в природе существовал человек, которому было бы по силам соорудить этот мост, то в данную минуту таким человеком мог быть только Тихонов.
Можно было догадываться, какое впечатление тихоновское слово произвело на наших таджикских друзей, впрочем, не только догадываться.
– Конечно, приятно, что Тихонов так знает литературу таджиков, – произнес в этот день Мирзо Турсун-заде своим тишайшим голосом, от волнения его голос становился не громче, а тише. – Но ведь он так знает не только таджиков...
Последнее было и значительно, и, пожалуй, принципиально для Тихонова, был резон осмыслить это.
Евгению Федоровну Книпович связывала многолетняя дружба с Тихоновыми – с тех пор, как Николай Семенович с семьей перебрался в Москву, Книпович была их близким другом. Блистательный критик и литературовед, человек, в котором знание отечественной словесности редчайшим образом сообразовалось с владением проблемами литератур зарубежных, Евгения Федоровна, как можно было догадываться, уже по кругу своих литературных пристрастий должна быть интересна Николаю Семеновичу. При том внимании к общению, которое всегда было у Тихонова, при том интересе к беседе, который для Николая Семеновича всегда был так важен, дружба с Книпович питала мысль, а следовательно, творчество поэта. Видно, потребность в этих беседах была так велика, что беседы были повседневными (позже я расскажу об одной из таких бесед, происходившей в присутствия Евгении Федоровны в тихоновском доме), но было и по-иному. Любительские фотографии сберегли воспоминания о прогулках и по переделкинским «кольцам», и по окрестным лесам, когда рядом с Тихоновыми, Николаем Семеновичем и Марией Константиновной, была Евгения Федоровна.
Мысль, которую пробудила во мне встреча с таджикскими литераторами, интересно было вывести на суд Книпович, – казалось, что ее мнение поможет мне наиболее точно познать эту грань личности Тихонова, человека и литератора. У меня была возможность предупредить Евгению Федоровну о моем намерении, и беседа была для нее не внезапна. Мы сидели в дачном домике Книпович в Переделкине, и на столе лежали фотографии, воссоздающие походы по переделкинским лесам, когда вместе е Тихоновыми была и наша собеседница. Евгения Федоровна выдает нам фотографии по одной, заметно радуясь, как впечатление нарастает. Но вот рука Книпович остановилась, как мне показалось – печально остановилась.
Мария Константиновна любила эти наши походы, заставляла себя ходить, если даже была не совсем здорова... – Евгения Федоровна складывает фотографии, молча отодвигает – ей надо время, чтобы обрести прежнее состояние, успокоиться. – Знали, что она больна, и все-таки все происшедшее было внезапным, такое всегда внезапно...








