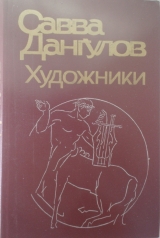
Текст книги "Художники"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 60 страниц)
Мы не без труда возвращаемся к беседе – нужна всесильная пауза.
– Нет, в Ленинграде я Тихонова не встречала, – произносит Евгения Федоровна, точно предупреждая мой вопрос. – Я познакомилась с ним уже в столице, когда сюда перебралась Ольга Дмитриевна Форш и поселилась в гостинице «Москва». Ольга Дмитриевна писала свой очередной роман, нередко обращаясь за советом к толстым книгам, иллюстрации которых были переложены рисовой бумагой, для таких заядлых курильщиков, как мы с Николаем Семеновичем, неслыханно аппетитной. Готова признаться в грехе: как ни стойки мы были с Николаем Семеновичем, иногда выдержка изменяла нам, и из толстой книги осторожно извлекался лист рисовой бумаги, разумеется, в строжайшей тайне... Таким образом, тайна, обычно способствующая разобщению, в данном случае повела себя по-иному, положив начало доверию, а потом и дружбе... – Евгения Федоровна умолкла, дав попять, что короткая экспозиция закончена и сейчас прозвучит ответ на мой вопрос. – Если вы поговорите с близкими Николая Семеновича, они вам расскажут, что его знание Востока складывалось с детства, Востока нашего и, зарубежного... Известна реплика Джавахарлала Неру: «История Индии? Спросите об этом лучше Тихонова – он знает...» У него была потребность видеть мир, страсть к путешествиям. Он исходил Кавказ, прошел по многим тропам Средней Азии, был в Индии, Пакистане, Афганистане, знал эти страны с той обстоятельностью и глубиной, какая позволяла ему говорить со знатоками, спорить, ставить проблемы. У него было множество друзей в этих странах, которые высоко ценили привязанность Тихонова к их отчим местам. Особенно, разумеется, среди литераторов. Симон Чиковани и Аветик Исаакян, Айбек и Мирзо Турсун-заде. Эта дружба была творческой: он переводил этих мастеров, переводил в полную силу тихоновского дара, сделав стихи национальных поэтов и событием русской поэзии. Он и русских друзей подчас выбирал, учитывая их интерес к Востоку. Пример – Петр Андреевич Павленко. В их беседах постоянно присутствовал Восток. Он дорожил своими отношениями с грузинской поэзией – эти отношения складывались многие десятилетия. Его переводы грузинских поэтов составили книгу: Симон Чиковани, Галактион и Тациан Табидзе, Сандро Шаниашвили и Паоло Яшвили, Карло Каладзе, Георгий Леонидзе, Иосиф Нонешвили, Григод и Ираклий Абашидзе... В том, что Грузия и ее культура создали в годы революции, поэзия занимает свое заметное место – трудом Тихонова, как, впрочем, и иных советских поэтов, эта поэзия стала нашим общим достоянием. Но пример Тихонова, который он явил в своем общении с многоязычным Востоком, свидетельствует и об интернациональном существе нового человека, свободного от предубеждений прошлого, несущего свет межплеменного братства, – таков Тихонов!
У меня была возможность многократно убедиться, как великолепно знал Тихонов мой отчий Северный Кавказ. Казалось, сами горы запомнили, что тут был Тихонов. Тот, кто бывал в горной Кабарде, Балкарки, Осетии, Ингушетии, найдет тому свидетельства убедительные: тут помнят Тихонова. И в первую очередь, конечно, поэты. Было что-то радостно-неодолимое в том, как мои беседы с поэтами Кавказа неизменно приводили к Тихонову. Для них он был не просто старшим сыном в семье Матери-Поэзии, он был учителем, бескорыстным и самоотверженным, у которого в его знании Кавказа не было равных.
Я задумал этюды о поэтах Северного Кавказа. Дли начала я взял три имени: Гамзатов, Кулиев, Кугультинов. Задумав этот цикл, я руководствовался прежде всего тем, что знал поэтов, многократно разговаривал с ними, а с Гамзатовым и Кулиевым мы однажды путешествовали. Все, что я сказал о поэтах Кавказа, имея в виду Тихонова, возникло в ходе моих бесед с поэтами. Мне подумалось, этюды не могут увидеть свет без того, чтобы я не показал их Тихонову. Письмо, которым Николай Семенович отозвался на мои скромные опыты, не скрою, меня воодушевило. Дело, разумеется, не в похвале, хотя тихоновская похвала каждому лестна. Более важным мне представляется мнение Тихонова по существу: свободный и столь характерный для Николая Семеновича взгляд на поэзию Северного Кавказа, ее самобытные корни и связи.
Привожу текст письма полностью, соотнесенный с текстом моих этюдов, которые включены в эту книгу. Читатель получит возможность проникнуть в существо тихоновских раздумий, которые мне представляются важными.
«22 апреля 1976 года
Дорогой Савва Артемович!
Приветствую Вас сердечно!
Как только я освободился от заседаний двух комитетов, я сразу прочел Ваши этюды о поэтах Кавказа, и прочел не без удовольствия. Пишу я Вам на машинке, потому что мой почерк стал к старости очень затейливым и я не хочу, чтобы Вы тратили время на разбор моих каракулей.
Итак, вот что я скажу, прочитав этюды. Всякий критик, далекий от Кавказа и Вашей темы, разбирал бы стихи Кугультинова, Кулиева и Гамзатова с общей критической точки зрения. Вы же имеете несомненное преимущество, потому что в Ваших этюдах о поэтах Вы сами выступаете и как кавказец, человек, близкий по духу к их поэтическим вдохновлениям, и как писатель – большой любитель и знаток поэзии, живо чувствующий тот внутренний мир, в котором рождаются стихи.
Кроме того. Вы в своих этюдах выступаете с собственными дополнениями, справками, воспоминаньями, которые очень обогащают материал. Особенно мне понравился обстоятельный, живописный, большой этюд о творчестве Расула Гамзатова.
То, что Вы одновременно сказали и свое слово о его прозе, своеобразной, поэтической книге «Дагестан», и много говорите об его отце, великолепном поэте и человеке – Гамзате Цадаса, расширяет исторически тому и раскрывает новые горизонты.
Родоначальник поэтического направления дагестанской новой поэзии, конечно, Гамзат Цадаса, и Расул его прямой наследник. Ваши этюды написаны широко, свободно и легко читаются. А Ваши наблюдения и то, что Вы близко к сердцу берете содержание стихов Ваших кавказских земляков, очень доходит до читателя, сообщая ему и нечто новое о знакомых поэтах.
Что касается возникшего в тексте разговора обо мне, то мне трудно говорить о киком-то моем воздействии, скажем, на творчество Кайсына Кулиева, который сам по себе является искусным, сильным мастером стиха, и особенности кавказской темы ему, конечно, ближе, хотя бы потому, что он родился в центре гор – в суровом Чегеме – и прекрасно знаком со всем, что составляло с детства мир скал и снегов, окружавший его и вошедший во все его поэтическое творчество.
Я лично уважаю Кайсына Кулиева и за его человеческий характер и люблю за его замечательные стихи, которые я имел честь переводить в свое время.
Конечно, мы не можем сказать, что вышеназванные поэты находятся вне поля зрения широкого читателя. Они очень известны и любимы, и их новые стихи распространяются сразу по написании, но Вы своими этюдами добавили многое к познанию поэзии современных певцов Северного Кавказа.
Лирический, как бы разговорный стиль Ваших этюдов оправдан и тем, что Вы с такой теплотой, так по-дружески говорите сразу и о поэзии, и о тех, кто является сегодня передовыми поэтами нового, и вносите в свои раздумья воспоминания о прошедших временах, которые заключают в себе много поучительного и для истории русской поэзии, соприкасавшейся так глубоко с певцами горных народов и в старые времена.
Крепко жму руку.
Николай Тихонов»
Но заманчиво было продолжить разговор, начатый в письме, повидав Николая Семеновича. Стоит ли говорить, как я был воодушевлен, когда узнал, что это желание в какой-то мере взаимно.
В Переделкине еще удерживался снег и с вечерними сумерками заметно отвердевал, но небо уже казалось весенним, как и сами вечерние зори были уже апрельскими – долгими и заметно яркими. Николай Семенович только что совладал с простудой, и его нынешняя прогулка была едва ли не первой. С тех пор, как я видел его, прошло года два. Высокомудрое восьмидесятилетие оставило свои знаки на его облике. Но стоило заговорить Николаю Семеновичу, и он точно сбрасывал груз лет – все таким же живым был тихоновский голос, все такое же острое внимание светилось в его глазах, все так же непобедим был его смех и сопутствующий смеху жест, точно отводящий возражение собеседника.
– Хочу, чтобы мы повидались, – подтвердил он и осведомился: – Вы сказали, что жена с писательской делегацией в Америке? Дождемся ее возвращения, послушаем, что она нам расскажет. Итак, приглашение не заставит себя ждать...
И вот переделкинский май. Он мне видится в свечении прудов, неожиданно зеленых после недавней зимы, в блеске листвы бесподобных здешних берез, которая в своем высоком высоке точно потекла ручьями, в отсвете влажной травы. Большой тихоновский дом точно дышит теплом и покоем. Двери, ведущие из столовой в соседние комнаты, распахнуты, и дом кажется особенно просторным и светлым. Наверно, место за столом, которое сейчас занимает Николай Семенович, давно обжито, но оно, как я замечаю, не во главе стола. Тихоновское правило: обнаружить, что он тут хозяин, значит чуть-чуть стеснить гостей, не по нем.
Да и байковая куртка, в которую одет Николай Семенович, призвана служить этому же – никакой парадности. Белая блуза Евгении Федоровны Книпович, сидящей рядом с Николаем Семеновичем, выглядит много торжественнее.
В этот раз я не увидел Александры Михайловны, доброй хранительницы тихоновского дома, которой этот дом обязан многими своими достоинствами. Хозяйничала молодая Ирина Александровна, дочь Александры Михайловны. Стол, накрытый ею, был красив – в нем были краски весны. Правда, для Николая Семеновича, который отдал себя во власть неумолимой диеты, это был больше праздник глаз, но это был праздник, – как мне казалось, Николай Семенович нет-нет да оглядывал стол радостным взглядом, молчаливо гордясь молодой хозяйкой.
В том, как Николай Семенович завязывает первый узелок беседы, мне тоже видится тихоновское: не злоупотребить властью хозяина, все преимущества отдав гостям.
– Как там Америка? Евгения Федоровна сказала, что поездка удалась, не так ли? А?
Итак, как там Америка? Он слушает гостью, охватив белой рукой подбородок, – его внимание должно быть приятно говорящему, его интерес почтителен. Впрочем, и предмет беседы остро актуален: американские писатели принимали своих советских коллег. Гостям показали Америку: Нью-Йорк, Вашингтон. Сан-Франциско, Новый Орлеан. Но главное – дискуссия «Роман в современном мире». Тема давала простор для обмена мнениями по вопросам самым жгучим: призвание художника, писатель и общество, свобода самовыражения, традиция и поиск. Обе стороны были представлены значительными именами, разговор был и профессиональным и принципиальным.
– Значит, Артур Миллер? – вдруг спрашивает он. – Однако...
Ему интересно, как выглядит этот спор, если соотнести его с именами.
– Апдайк?.. Мейлор?..
Его уровень знания американской литературы достаточно высок, – как всегда, он много читает; наверно, не только этим объясняется хорошее знание предмета, по и этим.
Я смотрю на Тихоново и думаю о чуде встречи. В самом деле, разве это но чудо? Вот этот седой человек, седина которого, казалось, разлилась по его лицу, сделав его больше обычного белым, открыл для себя мир, напрочь новый. Пробудил ли он в тебе этот мир или поселил заново, неважно – это мир новый. Краски, слова, образы, понятия – все в такой мере теперь твое, что ты готов опознать это по признакам. «Длинный путь. Он много крови выпил...» – в этом есть признак. «Таили верфи новую грозу, потел кузнец, выковывая громы...» – и это. «Видно, брат, я сожженной березе надо быть благодарной огню...» – и это. «И, может быть, уже возмездье на полдороге, как заря...» – тоже. В этом определенно привилегия художника: войти в самое твое сердце и зажечь свет, новый свет, которому жить столько, сколько отмерено тебе судьбой прожить на этой земле, не меньше.
Вы сказали, у них обостренное восприятие событий, происходящих в мире? Каких именно? Афганский Апрель? – Да, он произносит последнее слово столь значительно, что хочется озаглавить его большой буквой: «Апрель», – итак, он недвусмысленно дал понять, что перебрасывает мост с заокеанского Запада на Восток: Афганистан.
Теперь пришла пора задавать вопросы нам:
– Каким вы помните Афганистан, Николай Семенович?
Он очень доволен: его тема!
Кому не известно – его, его... К тому же есть повод, единственный в своем роде: месяц назад в Афганистане произошла революция, которую, кстати говоря, пророчил древней стране и Тихонов, но об этом разговор особый... В этой маленькой стране было нечто такое, что на веки веков приворожило к ней русского поэта. Этой своей любви поэт был верен едва ли не всю жизнь. Это отразили и стихи и проза Тихонова, как, впрочем, это вобрала его мысль, исследующая историю Афганистана, его многовековой путь, его место на современном Востоке. Человек знаний энциклопедических, привыкший рассматривать явления в перспективе и сполна использующий при этом мнение столь всемогущей силы, как Время, Тихонов был склонен к вершинным раздумьям, в которых свою роль играли Вчера, Сегодня, Завтра. Вот он и предрек Афганистану его революционное Сегодня. Наверно, никто не вменял в обязанность поэтам провидение, в Тихонове оно было. Прочтите его «Могилу Бабура». Этот рассказ – диалог афганца и русского. Хотя собеседником афганца Тихонов сделал ученого, мне тут видится сам автор, его интеллект, его знание восточной мудрости, его любовь к Афганистану. По воле автора, диалог не зря возник у могилы Бабура, – государственный человек и поэт, «не писавший пустых стихов», Бабур точно взывал к постижению судьбы страны.
Но это не просто рассказ об истории, даже увлекательный, это рассказ-спор. Афганец исходил руины страны, знатные руины, недвусмысленно установив: здесь была цивилизация, ничем не уступающая западной, а может быть, в чем-то и превосходящая ее. Афганец убежден: достоинства этой цивилизации и во взаимовлиянии с Западом. Это только кажется, что океан суши, лежащий между Западом и Востоком, непреодолим. Древние его преодолевали, при этом и афганцы. Великие пути, связывающие Восток с Западом, шли через Афганистан. Балх и Бамиан были центрами цивилизации и потому, что здесь Запад подавал руку Востоку, великая культура эллинов побраталась с культурой Индии. Видно, с напором запустения способны совладать только размеры памятника. Пирамиды? Колизей? Не только. Знаменитая статуя в Бамиане, единственная и по своим размерам, свидетельствует об этом. Однако где причины запустения? Великие пути стали путями морскими? Не только. У запустения есть свое имя, точное, – колонизаторство. Запустение явилось в Афганистан с приходом западных завоевателей – это они нарекли народ, который соперничал своей образованностью с эллинами, дикарями... Однако где выход из положения? Возвратить великие пути с моря на сушу?.. Очевидно, есть один великий путь, истинно великий, который следует воспринять и афганцам: суверенность, если быть точным – революционная суверенность. Вот русский поэт и подвел рассказ к его логическому концу. Впрочем, все, что случилось на афганской земле нынешним апрелем, точно явилось исполнением тихоновского провидения.
– Бедный, суровый и гордый народ – вот что надо сказать об афганцах, – произносит Николай Семенович, точно проникнув в наши раздумья. – «Мы единственные два народа, которые никогда не были побеждены! Только представьте, как нам легко понимать друг друга!» – сказал мне один афганский друг.
Тихонов умолк, улыбаясь.
– Тебе приятно было вспомнить слова афганского друга, Коля? – спрашивает Евгения Федоровна – тихоновская улыбка сказала ей многое.
– Да, Женя...
Видно, доброго слова Книпович сейчас как раз и недоставало Николаю Семеновичу – он воодушевился.
– А знаете, пример, который преподали нам древние, перебросив, вопреки примитивной технике тех лет, гигантский мост с Востока на Запад, многому учит – человек, понимающий пользу общения, идет вперед семимильными шагами. Это правило, многократ проверенное жизнью, тем более верно, когда речь идет об искусстве: художнику иногда надо обратиться к непривычному, чтобы обрести себя...
– Поль Гоген, Коля?
– Не только. Наш Александр Волков, который стал певцом Востока... Человек Севера, он сумел понять Восток: все, что он создал, настоящее...
Но сказанное можно чуть-чуть распространить и на Тихонова: постигая Восток, он обогатил и себя. Однако тут, наверно, надо говорить обо всем строе жизни Николая Семеновича. Он точно стал всей своей жизнью на скрещении больших дорог земного шара, помогая людям понять друг друга. Те, кто доверили Тихонову великий труд борьбы против войны, имели в виду, разумеется, в первую очередь интернационализм Тихонова, подтвержденный самим подвигом его жизни, но в какой-то мере и бесценный тихоновский дар общения.
...Николай Семенович поднимает наполненный бокал: за гостей. Мой бокал: за хозяина... Чувствую, как вздрагивает вино в моем бокале, готовое пролиться. Была бы моя воля, я, пожалуй, вспомнил бы сейчас и степной Кавказ, и многозвездную ночь, кубанскую ночь, и сосновые подмостки посреди степи, освещенные фарами тракторов, и тихоновское бунтующее, озорное, хватающее за душу: «Владеть крылами ветер научил, пожар шумел и делал кровь янтарной...» Но воли моей, наверно, нет, как тем более нет храбрости. «Вот вы назвали меня в своем письме «кавказцем». Наверно, то, что я сейчас хочу сказать, вы слыхали не однажды, но я скажу: за вашу любовь к Кавказу и за любовь кавказцев к вам, – поверьте, Николай Семенович, там вас очень любят...»
В глубине дома ожил телефон. Николай Семенович заметно смущен:
– Звонят друзья, просят включить телевизор...
– Да не хотят ли они обратить наше внимание на то, как Тихонов вручает Ленинские премии?
– А ты откуда знаешь, Женя?
Да, у сегодняшнего вечера добрый венец: телевидение передает вручение Ленинских премий, оно состоялось вчера. Вручает Тихонов. Со строгим вниманием, в котором есть взыскательность к себе, он следит сейчас за церемонией вручения. Но вот любопытно: там, в Кремле, Тихонов, приветствующий награжденных, осиян добрейшей своей улыбкой, а здесь неожиданно печален, быть может, даже хмур.
– Да не слишком ли пространна речь? Может быть, надо было бы короче, а?
– Нет, ты хорошо сказал, очень хорошо сказал, Коля...
Он вдруг просиял, мигом сняло пасмурность. «А может быть, и в самом деле хорошо?» – точно говорит его взгляд. Он улыбаясь смотрит на Книпович: признателен – сказала слово и сняла печаль. «Да, наверно, неплохо», – точно повторяет он.
В этот майский день 1978 года с тем мы и покинули тихоновский дом: казалось, у хозяина было ощущение полноты жизни: судьба определила ему деятельную жизнь, исполненную высоких стремлений, он понимал это и был благодарен...
Н. Т.
Весть о кончине Тихонова ошеломила – не очень просто было уложить это в сознании. Вспомнил я разговор с переделкинским старожилом, происшедший за две недели до этого. Старожил знал писательский городок и о каждом из его знатных обитателей имел свое мнение, которому, пожалуй, нельзя было отказать и в беспристрастности и в точности. Но вот разговор зашел о Тихонове, и старожил на какой-то миг онемел. «Святой человек, – произнес он, сдерживая волнение. – Святой – все для людей...» Вот так-то: все для людей. И вновь мысль обратилась к судьбе Тихонова. Вот прошел человек по земле, и всюду, где ступала его нога, остались друзья. Ведь мог пройти так, как проходят миллионы, не оставив следа, а оставил самый зримый след – друга. Наверно, все в неодолимой силе, которой был наделен он и у которой единственное имя – любовь к человеку. В век свирепого национализма, когда целые государства, как загоны для парнокопытных, поделены на белых и черных, человек прошел по земле, как и надлежит человеку, – сея любовь ко всем людям. Конечно же Тихонов явился перед людьми в точном соответствии со своим краснокожим паспортом, по в немалой степени и потому, что был Тихоновым: душевное богатство, любовь к многоплеменному и многоязычному человечеству, в самом высоком смысле слова побратимство были цветом его крови. Истоки многое могут объяснить в жизни человека. В какой раз я должен был сказать себе: существо и в истоках.
Судьбе было угодно, чтобы мой новый приход в тихоновский дом в Переделкине был приурочен к встрече с сестрой Николая Семеновича – Антониной Семеновной.
– Кто такой Николай?
Сказать, что она очень похожа на брата, не все сказать. Во взгляде ее светлых, заметно круглых глаз, в привычке ширить глаза, когда в беседе возникает нечто неординарное, в движении руки, в улыбке, которая тем ярче, чем настойчивее она вам возражает, – во всем этом есть тихоновское. И не только: в обстоятельности, в стремлении вести доказательный разговор, в привычке не обойти прецеденты, если даже они и не столь близки. В ее рассказе все не заглазно, все имеет свой лик. Как сейчас: Антонина Семеновна точно семейный альбом раскрыла – фотографии, три поколения Тихоновых...
– Мать – начало всех начал, все от нее...
Взглянул на фотографию, и вспомнилось некрасовское: «Есть женщины в русских селеньях...» Лицом не красавица, а красива – прелесть в гордой: посадке головы, в линиях фигуры, в стати.
– Крестьянка?
– Мать у нее крестьянка – пришла в Питер из Вышнего Волочка пешком, а отец мастеровой, кондитер, из латышей...
– Дом держала она?
– Как и надлежит – вместе с отцом. У нас был хороший отец: заботливый и строгий, работящий, конечно... Знал всему меру. И питью: рюмку за обедом, дальше не шел – мера. Мастеровой. Жил во Франции и говорил по-французски, хорошо говорил, но французской грамоты не одолел. По-русски был хорошо грамотен. Читал, но только газеты, книг не читал. Любил во всем опрятность. Вижу его по воскресеньям, чисто выбритого, с чуть напомаженными усами, которые он придерживает пальцами, чтобы они не утратили формы. Был привязан к детям, но это не очень выказывал, доверив все жене. Он ее любил, а значит, и доверял... Мать дружила с книгой, она пристрастила к чтению и Николая. Признаться, я, младшая, чуть-чуть ревновала ее к Коле, мне казалось, что он был ее любимчиком. Может быть, я была и не права, но одно верно: его вырастила ее любовь. Первое его стихотворение, наверное самое первое, посвящено ей: «Не надо мне святой Екатерины – живая здесь, живая хороша...» Хорошая книга была в почете у Тихоновых, лучшим подарком считалась книга. Мать дарила детям, дети – друг другу. Писать стихи Николай стал рано. Решился отнести их на улицу Гоголя, в редакцию «Нивы», – там стихи понравились, их напечатали. Это было великой радостью для всех, особенно для матери, – она гордилась Николаем. Колина чуткость – это от нее, его способность все принимать близко к сердцу – от мамы. Когда его забрали в гусары, он вернулся оттуда седым. Что-то там произошло такое, что сделало его седым в двадцать лет. В семье говорили, что какой-то барчук засек на глазах Николая лошадь. Ну что ж, и эта причина правдоподобна, если иметь в виду Николая, очень похоже на него – человек, он был человеком...
Она замолкает, глядя вокруг, точно видит все впервые. За окном май, как в минувшем году, когда за столом был Тихонов. И широко распахнуты двери, как тогда, поэтому дом кажется таким просторным.
– Счастливый? Наверно. Но из тех счастливых, что видели горе... И в своей жизни. Отца скосил голод в двадцать первом, мать – в сорок первом...
Она вновь замолкает, не в силах совладать со скорбью, что поселилась в ней...
Я возвращаюсь от Тихоновых. Шумят несравненные переделкинские березы, распадаясь на зеленые ручьи, по-майски бледно-зеленые, а память воссоздает рассказ, который я только что услышал, многократно повторяя:
«Человек, он был человеком...»








