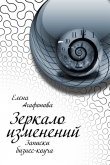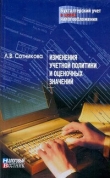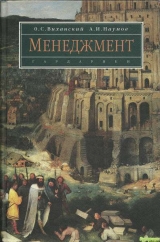
Текст книги "Менеджмент. Учебник"
Автор книги: Олег Виханский
Соавторы: Александр Наумов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 44 страниц)
«В Центре я планировал организовать такую систему работы, при которой любая подходящая нам по профилю идея будет превращаться в готовый продукт, – говорит Дмитрий.
– Если эксперты Центра считают, что своими силами нам разработку до производства не довести, то мы будем искать и приглашать другие исследовательские институты.
Мы уже активно сотрудничаем с МНИИ эпидемиологии и микробиологии им.
Габричевского».
Во всех странах планирование исследовательских работ – серьезная проблема.
Средний срок создания нового биотехнологического препарата – около трех лет, а проведения его исследований еще пять.
К тому же в разработке обычно находится сразу несколько препаратов, и на разных стадиях ими занимаются различные отделы и лаборатории.
Молодая компания не могла себе позволить опаздывать с выпуском новых препаратов.
Чтобы отслеживать эти процессы, необходимо было создать эффективную систему планирования исследовательских работ.
Чтобы следить за процессом исследований, Морозов внедрил систему планирования при помощи сетевых графиков (прил.
1), традиционно применяемую в отраслях промышленности, для которых характерны долгосрочные проекты, – например, в кораблестроении и машиностроении.
Внедряя систему (на это ушло четыре месяца), пришлось преодолевать сопротивление ученых, зато теперь процесс создания препарата максимально прозрачен.
Все промежуточные результаты обсуждаются на еженедельных совещаниях.
«Теперь я могу сказать, какой продукт на какой стадии разработки находится», —доволен предприниматель.
«У »Биокада" есть будущее, – считает Матвей Юрьев.
– Держать Центр только для разработок не совсем эффективно.
Его надо загружать и поисковыми работами».
Подбор персонала «На момент приобретения Центра уровень недоверия ко мне был очень высок, – считает Дмитрий.
– Институт находился в состоянии банкротства, а тут пришел бизнесмен и заявляет научным работникам, что они сейчас займутся для него разработками».
Придя в институт, Дмитрий обратился ко всем с просьбой подумать о переходе в Центр.
Сначала все захотели, а потом многие передумали.
Первыми отказались руководители подразделений – не поверили.
«Я сказал, – вспоминает Дмитрий, – что с теми, кто придет ко мне, мы вместе будем распоряжаться всем и все будем решать сами».
Отвыкшие работать не восприняли этот призыв.
Пришли те, кто любил работать.
Одной из тех, кого заинтересовало предложение перейти в Центр, была Ольга Петровна Туманская, начальник лаборатории.
Юрьев охарактеризовал ее так: «Умеет решать непростые задачи на уровне искусства».
После некоторых раздумий она все-таки перешла в Центр, а за ней потянулись и другие.
Процесс пошел.
В настоящее время в Центре работает более 30 человек, из них 5 докторов наук и 15 кандидатов, в том числе лауреат Ленинской премии В.И.
Марченко.
Морозов считает, что ему повезло с учеными.
чЭто были сложившиеся группы, в которых специалисты – генетики, микробиологи, биохимики – хорошо понимали друг друга и работали в одной команде.
Нужно было только изменить управление, мотивацию и четко поставить цели и определить задачи.
«К ученым нужно подходить как к партнерам по бизнесу, – говорит бывший банкир.
– Они хотят точно знать положение компании на рынке и направление ее деятельности.
Им нельзя просто ставить задачу, а нужно показывать, какой продукт с коммерческой точки зрения является наиболее привлекательным.
Создав его и удачно продвинув на рынок, мы получим финансовые средства, которые позволят развиваться дальше.
Когда ученые видят системный подход, свою роль в общем деле, то спокойно делают свою часть работы и их не нужно погонять».
Менеджеры «Биокада» считают, что на ученых наиболее эффективно воздействует нематериальная мотивация (при условии, что базовые материальные потребности ученого удовлетворены).
Доверие к'руководителю, уверенность в стабильности, профессиональный рост и чувство собственной востребованности через успех созданного продукта гораздо сильнее связывают творческого человека с компанией, в которой он работает, чем только материальное вознаграждение.
Денис Львович Александров рассказал, что когда он через некоторое время после начала работы в Центре привез в одну из клиник партию интерферона, то был поражен, с каким нетерпением врачи ждали препарат.
«Надо было видеть их глаза.
Они так его ждали.
Я был уже полезен тем, что привез препарат.
Я почувствовал свою пользу», – вспоминает Александров.
«Увидеть плоды собственной работы в аптеке или в больнице для ученого очень важно, – считает Морозов.
– Но не менее важно и то, как будут разделены результаты этой работы.
Ведь ученых в советское время постоянно обманывали и с авторскими правами, и с вознаграждениями.
Мне же выгоднее делиться с ними, чем обирать.
Патент на новые разработки оформляется на «Биокад», но неимущественные права оформляются на разработчиков.
У нас четко прописана схема расчетов по этим правам.
Лицензионные платежи, которые мы должны были бы переводить, если бы использовали чужой патент, пойдут нашим разработчикам.
Получив данные об объеме продаж – а мы не будем их скрывать от них, – они легко на калькуляторе подсчитают свой доход».
Двое сотрудников «Биокада» уже ездили на международную конференцию в Турин.
Часть расходов на участие покрывал научный грант, часть затрат брала на себя компания.
Стимулируя профессиональный рост ученых, компания добивается роста и своего авторитета.
Первое время многим психологически было очень тяжело, некоторые все-таки ушли.
Но благодаря последовательным убеждениям ученые начали понимать, что направление работы теперь во многом указывает рынок, что по-другому прикладная наука сегодня жить не может.
«Для меня нет важнее сейчас задачи, – говорит Дмитрий, – как привлечь в Центр перспективных выпускников и студентов, омоло-дить коллектив Центра.
Мы уже начали искать способных ребят на старших курсах биофака МГУ и Института биотехнологии.
Нам надо успеть убедить их пойти к нам работать до того, как они начнут искать себе место за рубежом.
Нескольких выпускников, которые были на стадии отъезда, мы уже убедили остаться у нас.
Мы обеспечили ребятам достаточную зарплату, жилье, лучшее лабораторное оборудование, возможность ездить по миру и общаться с коллегами».
Директор Центра инженерной иммунологии Одно время до приобретения Центра Дмитрий рассматривал в качестве возможного кандидата на должность директора Дениса Львовича Александрова, работавшего в НИИ с 1986 г., защитившего там докторскую диссертацию и ставшего через год после прихода в НИИ начальником лаборатории.
Однако Александров отказался, сославшись на возраст.
На деле Дмитрий нуждался в человеке, кто бы смог эффективно руководить исследованиями Центра.
По рекомендации одного профессора из мединститута он пригласил в ноябре 2001 г.
на работу бывшего выпускника этого вуза Матвея Юрьева.
Юрьеву тогда было 37 лет.
Он окончил 2-й Московский государственный медицинский институт им.
Н.И.
Пирогова (ныне – Российский государственный медицинский университет), защитил кандидатскую диссертацию и уже успел поработать в кардиоцентре РАМН и компании «Ланит», предоставлявшей ведущим российским предприятиям информационно-технологические услуги.
После знакомства с Юрьевым Дмитрий понял, что кандидат профессионально понимает предмет и имеет шанс стать управленцем.
Первоначально речь шла о занятии Юрьевым должности заместителя генерального директора «Биокад» по научной работе.
«Меня это устраивало.
Я пришел в «Биокад» как ученый, но директором я быть не хотел.
Нести административно-хозяйственную нагрузку не входило в мои планы, – отмечал Матвей.
– Я работал руководителем проекта в «Ланите», и из этой работы я вынес некоторый опыт управления творческим коллективом.
Я также был знаком с основами бизнеса и управления».
После ряда встреч Юрьев понял, что он может разговаривать с Морозовым на одном языке.
«У нас сложился неплохой тандем.
Отказаться от предложения стать директором Центра было невозможно, – вспоминает Матвей.
– Я понимал, что надо было изменить менеджмент, чтобы решить проблемы создаваемого Центра.
Александров, на которого в самом начале делалась ставка, при всех его положительных качествах был не в состоянии сделать это.
Он уже как бы сросся с этими проблемами, жил в них».
Юрьеву была поставлена задача реорганизовать только что приобретенный исследовательский Центр и оптимизировать его структуру.
Позже Дмитрий отметил, что с этой задачей Юрьев более или менее справился.
Однако в отношении других заданий, особенно касающихся подготовки вывода на рынок новых препаратов, а также внедрения системы планирования исследовательских работы, сроки их завершения неоднократно откладывались.
«На меня возложили много административно-хозяйственной работы: оборудование, материально-техническое снабжение, ремонт и т.д.
и т.п., – говорит Матвей.
– С оборудованием были сложности – например, трудно объяснить сотруднику НИИ, что нужно забрать в Центр прибор, на котором он работает – при том, что неизвестно, будет ли этот сотрудник вообще работать в Центре.
Было очень трудно вести переговоры с руководством НИИ, так как мы все время что-то хотели у них забрать.
В условиях, когда тебя затягивает текучка и решение многочисленных хозяйственных вопросов, заниматься наукой трудно»).
«Я пытался его контролировать, – говорит Дмитрий.
– Мы постоянно собирались и обсуждали возникающие проблемы.
Письменных отчетов я от него не требовал.
Правда, сейчас буду вводить письменную отчетность».
Говоря об отношениях с руководителями подразделений, Матвей отмечал, что отбирал он их вместе с Морозовым из НИИ: «Там люди жили в основном на американские гранты.
Создавали свои центры, финансировали и объединяли вокруг себя специалистов.
Мы пытались с ними со всеми договориться о переходе к нам.
Им приходилось решать – либо продолжать сидеть на фантах и писать только отчеты (по гранту даже не требовались публикации), либо идти в Центр «Биока-да» – а в Центре надо было выдавать реальный продукт к определенному сроку.
Александров пришел к нам сам, а вот других надо было агитировать.
Их интересовали оплата и перспективы Центра».
Кроме того, Юрьеву надо было организовать коллектив и построить структуру, обеспечивающую создание запланированных продуктов, первым из которых должен был стать интерферон.
Над этим он работал совместно с Морозовым и Андреевым – главным маркетологом «Биокада», тоже выпускником второго медицинского института, который вывел Матвея на Морозова через одного институтского профессора.
«Я считаю, что мне удалось создать коллектив и построить структуру Центра – структура была принята, – отмечал Матвей.
– Возрастной проблемы я не чувствовал.
Если начнешь обращать внимание на возраст, да еще и на титулы, то вообще ничего не сделаешь.
Но я не до конца встроил этот коллектив в процессы, в которых участвовал «Био-кад».
Не удалось создать эффективное взаимодействие Центра с заводом.
Я пытался создать команду.
Кроме указаний, я просил давать мне предложения по планам работы.
Я не специалист во всех областях биотехнологии.
Если бы я все знал, зачем тогда другие? Я хотел формализовать исследовательскую работу и внедрить планы работы.
Проводил совещания.
Сначала было некоторое сопротивление – они опасались контроля над их рабочим временем.
Но когда к ним пришло основное понимание работы, общаться стало легче.
Спрашивая их, сколько времени у них занимает та или иная процедура, тот или иной эксперимент, я знал примерно правильный ответ.
Я выстраивал отношения с ними в зависимости от ситуации.
Планы работы не были для них чем-то новым.
В советское время все работали по планам.
Но здесь с ними произошел некоторый шок, и я боялся переборщить.
Годовой план составить удалось, а вот отчетность формализовать не получилось».
«Выстраивая свои отношения с коллегами, Юрьев пытался административно победить их.
Но победили они его, – заметил Дмитрий.
– То, чего он хотел, было невозможно.
Этих людей можно было только обратить в свою веру.
Они признают только авторитеты в своей области».
«Да, ему было непросто.
Нужно было ездить и на завод, и в Центр.
Возможно, у него были и семейные проблемы, – продолжает Дмитрий.
– Но он не жаловался.
Надо понять, что ему выпал уникальный шанс – возглавить НИИ в 37 лет.
Разве можно было об этом мечтать в прежние времена? У него была реальная возможность запросто общаться с академиками и авторитетнейшими учеными в своей области».
«Наблюдая за его работой, я несколько раз ему давал понять, что если я на что-то ему не указываю, то это не значит, что я не вижу, что и где происходит.
Для этого мне было достаточно пройти по Центру и поговорить с людьми.
Я просил его помнить об этом».
«Ограничение моих полномочий мешало мне работать эффективно.
Так, например, мне приходилось объяснять, почему ремонт крыши начался на месяц позже.
У нас с Морозовым не было четкого разделения полномочий.
Никакого документа на этот счет тоже не было».
Негатив постепенно накапливался, и Юрьев понял, что он должен написать заявление об уходе сам.
«Вообще-то решение о его замене со-зрело у меня давно, – отмечает Дмитрий.
– Другие акционеры считали, что его давно надо было бы уволить.
Я же все оттягивал этот момент».
Говоря о мотивах своего ухода, Матвей отмечал: «Вообще назначение директором Центра было для меня больше горизонтальным ростом.
Это была просто другая должность.
Это была административная карьера – хотелось себя попробовать в чем-то новом.
Однако роль администратора мне не понравилась.
Организационный период слишком затянулся.
Я не ощущал своей профессиональной надобности.
Повлияла и удаленность места работы от дома.
В данном случае меня могли бы устроить какие-нибудь преференции.
Стать одним из собственников я тоже не хотел, так как понимал, что отдача от этой собственности наступит,не скоро.
К уходу я склонялся постепенно».
Последний раз Матвей был в Центре в мае 2003 г., когда там проходило заседание Научного совета, членом которого на тот момент он еще являлся.
Это было отчетное заседание, назначенное Морозовым как Председателем совета.
Ученые отчитывались о результатах своей работы.
Вел заседание Д.Л.
Александров.
Юрьев сидел, слушал, иногда задавал вопросы, но сам так ничего и не сказал.
Подчиненные о руководстве исследовательским Центром Александров Д.Л.
(61 год, в 1973 г.
окончил 2-й Московский медицинский институт им Н.И.
Пирогова, канд.
мед.
науке 1977 г., д-р мед.
наук с 1994 г.): «Да, Юрьев был моложе и свободнее меня.
Профессионально мы его так и не почувствовали.
Он проявил себя как менеджер, но как несостоявшийся менеджер.
У него были попытки и желание показать себя как современный менеджер.
Но не получилось.
Проблема планирования исследований – интересная проблема.
Для ученых она, с одной стороны, отторгаема, а с другой – приемлема.
Когда решение этой проблемы поручили Юрьеву, то, на мой взгляд, он отнесся к этому чисто формально.
Он преподнес это изначально в такой форме, что воспринято это было в штыки.
Когда после него этим стал заниматься Дмитрий, то он не так обострял ситуацию.
Говорил, что это надо делать и делать надо шаг за шагом.
У Дмитрия это шло с объяснениями.
Он сам как бы учился.
Советовал попробовать делать вместе таким-то и таким-то образом.
У Юрьева это выглядело несколько иначе.
Чувствовалось, что это не его и что он пытается внедрить чужую идею без особого внутреннего желания.
С Дмитрием мы спорили.
Мы, исследователи, оперируем фактами.
Если факт подтверждается, то мы понимаем, что происходит.
Дмитрий пытался внедрить нечто организационно новое, основываясь на наших принципах.
Он понимал нас.
Правда, и у Юрьева, когда он внедрял систему планирования исследований, напряженность ситуации, спадала с каждым последующим совещанием.
Росло понимание и с нашей стороны.
Чем дольше он оставался руководителем, тем больше мы ему доверяли.
Хотя особых достижений при нем не было».
Юрьев чаще вызывал людей к себе, а Морозов больше ходит по рабочим местам.
Юрьев не пытался быть впереди нас, когда посещал нас на рабочих местах.
Видимо, он отставал в профессионализме.
Он не умел обобщать вещи, делать общий вывод из ситуации.
Хотя было видно, что он постепенно становится руководителем.
Он пытался объединить людей для решения вопроса.
Со временем сотрудничество между нами развивалось, нарастало понимание друг друга.
Матвей не имел управленческого опыта.
В финансах он разбирался, но не разбирался хорошо.
Жаль, что он ушел.
Ему надо было дать в какой-то другой форме понять, что от него хотят.
Он не был профессиональным руководителем, а он должен был быть первым среди нас, профессионалом на своем участке.
Он был наемный менеджер».
Туманская О.П.
(52 года, в 1974 г.
окончила Российский государственный медицинский университет, с 1984 г.
канд.
мед.
наук): «Матвей Максимович был нашим первым директором.
Сначала было трудно.
Коллектив был не сработанный.
Хотя моя лаборатория пришла в Центр почти целиком.
Все пришедшие знали друг друга, но вместе не работали.
Я бы никогда не согласилась быть директором.
Директор должен быть жестким человеком, я не такая.
Чтобы организовать рабочую группу, нужно быть жестким, иначе придется делать работу за своих подчиненных.
Юрьева представил нам Дмитрий Валентинович на собрании руководителей подразделений Центра.
Матвей Максимович выглядел худощавым и стройным молодым человеком, в костюме и при галстуке.
В нашей среде это необычно.
Свитер и джинсы – вот это наше.
Что он достаточно жесткий, было видно по типу его общения.
В Центре создавались новые подразделения.
Руководителей не хватало.
Однажды он мне сказал, что я должна в дополнение к своей лаборатории возглавить еще и другой отдел.
Он был так настойчив в этом своем решении, что переубедить его удалось только с помощью Д.Л.
Александрова – его заместителя.
Юрьев ходил по рабочим местам, интересовался, чем мы заняты, но ничего нового не предлагал.
Хотя проблемы, которыми мы занимались, он четко представлял.
Вообще-то мы долго раскачивались, но он не мог нам помочь.
Таким образом, мы оставались хозяевами в своей лаборатории.
Он мог оценить наши возможности и что у нас есть в заделе.
В биохимии мы были более профессиональны.
Он же был биолог по образованию.
Надо понять, что над ним был еще руководитель.
Сам он не мог все решать, как это делает Морозов.
Матвей в основном работал через руководителей подразделений.
Он собирал нас как директор Центра на регулярные совещания.
Матвей Максимович не нашел сразу правильного стиля общения с нами.
Он пытался что-то внушить нам, но у него не получалось.
Потом мы стали понимать его лучше.
Мы тогда еще не все верили в свою долговечность, а он пытался показать, что это надолго.
На него нельзя было обижаться.
Он пытался внедрять планы работы по научному эксперименту.
Мы сопротивлялись.
Однако в этом случае он не был достаточно жестким и настойчивым.
У Морозова это получилось лучше.
Вообще это дело не простое.
Запланировал что-то на 10 дней, а через 2 дня все надо менять.
Матвей пытался заставить нас это делать, а мы пытались доказать, что это невозможно.
Но он продолжал свои попытки».
Сергей Николаев (31 год, в 1994 г.
окончил биофак МГУ): «Я познакомился с Матвеем Максимовичем, когда он подыскивал людей по тематике в Центр.
Меня ему рекомендовали.
Вообще-то мы встретились с ним случайно на одной свадьбе.
В Центр я пришел с биофака МГУ.
В Москве работу найти не трудно, но платят мало.
В МГУ мне приходилось подрабатывать, а это в смысле роста мало что давало.
Здесь единственная проблема – это далеко, утомительно сюда ездить.
Но мне дали здесь жилье.
Мне Кажется, Матвей Максимович быстро вписался в коллектив, и люди стали переходить в Центр из Института.
Он умел договариваться с людьми, правда, каким-то своим способом.
Когда он принимал меня на работу в ноябре 2001 г., мы с ним долго беседовали.
Сначала он сказал, что я ему не подхожу.
Казалось, что он искал другой человеческий типаж.
На работу я вышел в феврале 2002 г.
До этого я посмотрел, что здесь и как.
В Институте были генные инженеры, но никто там толком не работал, просто сидели и играли на компьютере.
Мне работать с ним было легко.
Как руководитель он вел себя грамотно по отношению ко мне как к молодому руководителю.
В целом он меня поддерживал, понимал, что кто же из молодежи сюда поедет.
Я не защитил диссертацию до сих пор по своей вине.
В профессии иду своим путем.
Сейчас стали платить больше.
Я ушел из МГУ еще и потому, что у меня отец и дед – известные биологи.
Я сейчас заведую лабораторией генной инженерии, и у меня в подчинении 5 человек.
Меня недавно ругали на совещании за то, что я не управляю одним из своих сотрудников.
Но когда мне его давали, никто не спросил, хочу ли я его.
Да, он очень трудный работник, и никто не хотел с ним работать.
Юрьев из сферы, которая мне близка.
Его человеческие качества располагали к доверию.
Он был достаточно открытый человек.
С другой стороны, у него была некоторая жесткость, но ее было недостаточно, и он ушел.
Мне самому этого не хватает.
Себя очень сложно переделать.
Его недостаток – он не быстро все решал.
Проявив жесткость вначале, он не пошел дальше, а снизил темп.
Все очень долго тянулось.
Решая все медленно, Юрьев тем не менее начинал суетиться, когда приезжал Морозов, а после отъезда опять сникал.
Основная головная боль Юрьева была здесь, в Центре.
Морозов приобрел этот корпус с оборудованием, и все начали тащить, что попало – отсюда в Институт.
Юрьев пытался предотвратить это и мирно договориться с институтским начальством.
В результате постоянно шли споры по мелочам.
Документы не подписывались.
Кто-то что-то прятал, утаивал, и Юрьеву приходилось заниматься всем этим.
Царил большой беспорядок.
Морозов приказал просто закрыть двери в корпус, и все прекратилось.
Мягкая политика Юрьева не срабатывала в данной ситуации, и процесс затягивался.
Он пытался сделать как лучше.
Он все-таки был научным работником, но не менеджером.
Я знал, что он москвич, женат.
Когда он уходил, у него родился второй ребенок, а до этого у него болела жена.
Мне кажется, этого недооценивали.
Он ездил сюда через наш подмосковный завод и приезжал уже уставшим.
Профессионально он понимал людей и люди его понимали.
Сложной была задача заставить всех работать в условиях этого беспорядка.
А сложность была в том, что все могли прикрыться.
Каждый был себе на уме и как бы царьком в своем деле.
Он был младше, чем другие.
В науке вообще и в биологии в частности молодым не хватает жесткости.
В последнее время он заметно стал мягче.
Видимо, он решил увольняться.
Но с меня он всегда жестко требовал исполнения.
Отслеживая выполнение задания, Юрьев мог напоминать, но никогда не угрожал.
Переговоры с институтским начальством он вел сам, а если в них участвовал Морозов, то последний был как катализатор.
Чувствуя себя младше, Юрьев боялся обидеть человека.
Проводя совещания, он учился быть руководителем.
Бумаг к совещаникгне готовилось.
Когда он вел совещание вместе с Морозовым, то решалось все быстро.
Было видно, что он очень переживал, когда Морозов его ругал перед всеми.
Его возраст останавливал и меня останавливает.
Находясь здесь, в Центре, Юрьев целыми днями только говорил и обсуждал разные дела с сотрудниками.
Он пытался всех понять; хотел, чтобы всем было хорошо.
В какой-то момент, мне кажется, он упустил скорость.
Всех сильно удивило его решение уволиться.
От него этого не ожидали.
Собрав всех последний раз, он просто давил на каждого, пытался по всему провести свое мнение.
Речь тогда шла о распределении ответственности за закупки химикатов и препаратов.
Обычно он этого не делал.
Он был, видимо, на грани срыва.
Если бы он делал так всегда, то это, наверное, было бы лучше».
* * * Управлением научным Центром основатель «Биокада» после увольнения Юрьева занимается лично.
Он легко оперирует специальными терминами, но рассуждает прежде всего как бизнесмен: «Меня не интересует предмет «биология», меня интересует предмет «менеджмент».
Я своим ученым говорю: «Ваши идеи не стоят ни гроша, пока они не превращены в систему, в бизнес».
Однако он понимает, что вечно это продолжаться не может.
«Мы должны вновь найти и взять кого-то из молодых и подготовить его к должности руководителя Центра», – считает Дмитрий.
1.
Ведомости, 14 июля 2003 / Я экспериментирую над своей компанией 2.
Ведомости, 26 марта 2003 / Бактерии, приносящие миллиард 3.
Ведомости, 29 января 2002 / Своя наука будет у российской фармкомпа-нии 4.
Ведомости, 20 июня 2001 / Дрожжи от Госкомстата 5.
Ведомости, 10 апреля 2003 / Вкратце / «Биокад» заработал 6.
Время МН, 7 февраля 2002 / Чтоб не стать банановой республикой 7.
Время МН, 23 февраля 2001 / Банкиры наконец-то финансируют фармакологию 8.
Коммерсантъ, 24 мая 2002 г.
/ Интервью с Дмитрием Морозовым 9.
Коммерсантъ, 26 ноября 2001 г./Сибирскую язву упакуют в капсулы 10.
The Wall Street Journal, April 12-14 2002 / Russian Tycoon Takes An Unusual Leap Into Biotechnology 11.
The Moscow Times, February 26, 2002 / Capitalizing on Soviet Expertise 12.
Career Forum, 19 мая 2003 / Бизнес XXI века в борьбе за знания Приложения к сводной конкретной ситуацииПриложение 1 Принципы и ценности компании «Биокад» Для выполнения нашей миссии мы подтверждаем наши принципы и ценности: качество, лидерство, инновационность, результативность, групповая работа, внимание к потребителю, уважение к людям.
Качество: мы требуем от себя и от других высочайших профессиональных и этических стандартов, и наши процессы и продукты должны быть исключительного качества.
Мы используем высокие этические и социальные стандарты в делах нашего бизнеса, в нашем подходе к медицинской науке и в наших усилиях по защите окружающей среды.
Лидерство: мы верим, что лидеры дают власть тем, кто вокруг них, через передачу знаний и достойное вознафаждение выдающихся индивидуальных результатов; мы считаем лидерами тех, кто делает шаг вперед в достижении сложных задач, в умении видеть то, что должно случиться, и в эффективном мотивировании других.
Инновационность: мы уверены, что инновационность – это ключ к улучшению здоровья и поддержанию роста компании «Биокад» и ее прибыльности.
Результативность: мы стремимся к постоянным улучшениям в выполнении нашей работы, правильному измерению результатов и обеспечении согласия и уважения к людям в любой ситуации.
Групповая работа: мы знаем, чтобы быть успешной компанией, мы должны работать вместе, часто переходя организационные и геофафические границы для того, чтобы удовлетворять меняющиеся потребности наших потребителей.
Внимание к потребителю: мы имеем сильные обязательства в отношении удовлетворения потребителей, и мы постоянно концентрируемся в своей работе на их потребностях.
Уважение к людям: мы признаем, что люди являются основой успеха компании.
Мы ценим их профессионализм как источник силы, и мы гордимся нашей компанией, лечащей людей с уважением и достоинством.
Приложение 2 Люди – наша главная ценность (кадровая программа компании «Биокад») Мы верим, что успех нашей компании зависит от комбинации талантов и результатов работы преданных работников.
Поэтому мы хотим: • создать атмосферу уважения к людям во всей нашей работе, сознавая, что все члены организации понимают важность уважения прав и достоинства каждого; • создать условия, позволяющие нашим сотрудникам развивать свои таланты и оптимально использовать свои способности и потенциал, делиться информацией и вести открытый диалог; • обеспечить признание и вознаграждение всех сотрудников, основанное на достигнутых результатах и вкладе в успех компании; • создать равные возможности для каждого сотрудника; • обеспечить для каждого в нашей компании возможность работать в оптимально здоровых и безопасных условиях.
Мы берем на себя обязательства по отбору, развитию и продвижению работников и менеджеров, обладающих: • инициативностью, отсутствием стереотипов действий и мышления и гибкостью, необходимой для развития и расширения их опыта; • профессионализмом в сочетании с лидерством, что мотивирует людей к высшим результатам; • открытостью, пониманием нужд компании и мужеством оспаривать традиционные точки зрения; • способностью воплотить в жизнь корпоративные принципы в своих решениях и действиях; • командным духом и сознанием корпоративных ценностей, что позволит не только удовлетворить потребность человека в честном, доверительном общении, но и создать сплоченную, гармоничную команду единомышленников.
Вопросы к конкретной ситуации «Дмитрий Морозов» 1.
Какие, на ваш взгляд, проблемы помешали Матвею Юрьеву установить эффективное взаимодействие со своим руководителем и своими подчиненными в процессе вхождения в организацию? Какие решения вы могли бы предложить для устранения названных вами проблем? 2.
Какие личностные характеристики/качества Дмитрия Морозова и Матвея Юрьева соответствовали/или не соответствовали их ролевому поведению? Имеет ли место в Ситуации ролевой конфликт? Ехли да, то у кого? 3.
Какая из теорий мотивации наилучшим образом объясняет поведение Матвея Юрьева? 4.
Как бы вы охарактеризовали методы мотивации и стимулирования, применяемые Дмитрием Морозовым к сотрудникам Исследовательского центра? В чем заключается особенность стимулирования научных работников применительно к данной ситуации? 5.
Как бы вы сформулировали стратегию компании «Биокад» и в чем была сложность ее реализации? 6.
Какая из существующих моделей проектирования работы лучше всего соответствовала бы задачам, стоящим перед Исследовательским центром? 7.
К какому типу организаций и их структур вы отнесли бы компанию «Биокад»? 8.
Если в ситуации имеют место конфликты, то опишите и охарактеризуйте их, а также укажите, как они разрешались, с помощью какого стиля? Что бы вы могли предложить для их разрешения? 9.
Используя модель ситуационного лидерства Филлера, определите лидерские стили Дмитрия Морозова и Матвея Юрьева и их динамику.
Как вы думаете, Исследовательским центром должен руководить менеджер или ученый? Охарактеризуйте Дмитрия Морозова как лидера в компании «Биокад».
10.
Какую культуру и как формировал /// в своей компании? Метод конкретной ситуации в обучении управлениюXXXXВ конце концов от всех приобретенных знаний в памяти у нас останется только то, что мы применили на практике.
И.
Эккерман 1.
/// Обучение управлению, в силу специфики последнего как преимущественно практической деятельности, в значительной мере отличается от существующих процессов передачи знаний в традиционных областях естественных и гуманитарных наук.