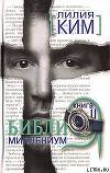Текст книги "Мир, в котором я теперь живу (СИ)"
Автор книги: Оксана Огнева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Вот кто бы мне сказал, что со мной случилось? Вместо того, чтобы залиться краской смущения, как положено приличной девушке – я почувствовала лишь прилив тепла в душе и желания в теле. И тут же ощутила, как на это отреагировало тело Альдара. Впрочем, ответил он хану аруков совершенно спокойно:
– Тебе не кажется, Маруз. Если ты не знал – мы с Амором близкие.
– А – тогда понятно. У нас ведь, в силу наших обстоятельств, в основном такие союзы и заключаются – тройственные. И они особенно угодны Арайше, поскольку соединяют мужчин и женщину крепче, чем кровные узы… А девочка-то у вас – горячая, как сердце мира. Честное слово, если бы не прикипел так к своей младшенькой – третьим бы мужем к вам попросился. Я на младшенькую свою, бывает, смотрю и думаю: ну, зачем мне три жены? Ее одной вполне бы хватило. Уже двух дочерей мне родила, умничка. Сейчас снова в тягости, и что-то мне подсказывает – опять девчонка будет… Ну, так что скажешь, Владыка?
Альдар склонился к моему уху:
– Сердце мое, у аруков довольно интересные обычаи и обряды, в том числе, и свадебные. Хочешь посмотреть и даже принять участие? Заодно… и семью создадим в человеческом понимании этого слова, а то у нас это не принято и соответствующих обрядов нет.
Ну, что я могу сказать? Предложение руки и сердца – просто супер. Но с какой стати мне придираться, если замуж в этой жизни в принципе не собиралась? У меня вообще было весьма своеобразное отношение к браку. Всю жизнь считала – если люди не хотят быть вместе, никакие цепи и клятвы их не удержат, а если хотят – никакие цепи и клятвы им не нужны. Да и народное чувство юмора утверждает, что хорошее дело браком бы не назвали. И, тем не менее – на вопрос Альдара ответила принципиальным согласием:
– Да я, в общем-то, не против, если вы с Амором – за.
– А ты во мне сомневаешься, что ли, ослепительная? В таком случае заявляю официально: я – твой. Я – ваш, – грациозно поклонился нам Амор.
– Вот и отлично, – сказал Альдар и повернулся к хану аруков, – Маруз, мы согласны.
– Так это же просто замечательно! Мы угодим Арайше как никогда раньше, впервые соединив ее узами альфаров и человека, – расплылся в широкой улыбке Маруз и оглянулся на свою свиту, – Возвращаемся, парни, и в быстром темпе – до ночи мы должны быть в Анкапе.
Синие горы располагались, кстати, гораздо ближе к государству аруков, чем людей – до Дармиры отсюда надо было добираться дней десять. От этого же места до границы Арукарии оказалось – три часа быстрой езды на хайгаках, и примерно столько же – от границы до ее столицы Анкапы. Расположение столицы говорило само за себя – сразу чувствовалось, что этот мир не знал настоящих войн.
Добрались мы до резиденции Маруза в сумерках, когда спутник Альфаира Мия, ощутимо превышающий по размерам нашу Луну, уже появился в небе, причудливо освещая окрестности призрачным голубоватым светом. Вдоль аллеи, ведущей к дворцу Маруза с романтическим названием Купол Мира, были установлены то ли газовые, то ли масляные фонари, и они тоже давали достаточно света. Но даже при неярком освещении дворец впечатлял. Представьте себе здание, чем-то похожее на древнеегипетский храм, увенчанное грандиозным куполом, от которого, казалось, в самое небо возносился длинный острый шпиль. Построен он был из какого-то светлого материала, напоминающего тот, который использовали для облицовки Рассветных Чертогов в Дармире. Дворец окружал необычайно ухоженный парк – англичане бы обзавидовались при виде этих аккуратно подстриженных кустов и газонов.
По прибытии Маруз заявил, лукаво блестя своими желтыми глазищами, что ночь перед свадьбой молодожены должны провести раздельно – мальчики с мальчиками, а девочки с девочками. На женскую половину дворца меня вызвался проводить Варнак, тот самый симпатичный парнишка, как оказалось, все же не родственник Маруза, а далмиз – официальный фаворит.
К тому моменту я уже знала, что в силу традиций Арукарии, все мужчины аруки бисексуальны и даже до достижения определенного возраста не имеют права прикасаться к женщине, утоляя сексуальный голод исключительно с мужчинами. Эти порядки мне чем-то напомнили спартанские у нас на Земле. Желая сделать приятно Варнаку, я сказала, что ему повезло с партнером в том смысле, что Маруз производит впечатление не только очень страстного, но и очень достойного мужчины. Варнак на это лишь рассмеялся и ответил, что для того, чтобы доставить друг другу удовольствие, вовсе не обязательно совокупляться, а в этом смысле хан вообще предпочитает мужской заднице женское лоно, за что он его очень уважает. Единственное, что я из этого поняла – что у них с Марузом какие-то, не совсем обычные отношения.
Но если Купол Мира поражал воображение снаружи, не передать словами – как он поразил меня внутри. Стены дворца, в том числе, и в коридорах, украшали бесспорно талантливые фрески с одним и тем же сюжетом: аруки на них самозабвенно предавались страсти во всех ее проявлениях. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, мужчины и женщины – по парам, по трое, и зачастую, в таких позах, что наша Кама-сутра на фоне этих фресок показалась бы книгой для детей младшего школьного возраста.
– Эти фрески дань почитания Арме – Первородной Страсти, породившей самих богов. Им больше тысячи лет. Каждые двадцать лет специально нанятые художники приводят их в порядок, поэтому они выглядят как новые, – сказал Варнак, увидев мою реакцию.
Полы в этом удивительном дворце сплошь устилали красивые пушистые ковры, и мне оставалось только представлять – как, должно быть, приятно пройтись по ним босиком.
На женской половине дворца нас встретили жены Маруза. Две старшие – не слишком приветливо. На меня они поглядывали искоса, как будто задаваясь вопросом, каких неприятностей от моей особы ждать, и, ответив на обязательные приветствия, удалились, предоставив общаться со мной младшей – Зарайне.
А вот Зарайна мне понравилась – что-то очень мягкое, светлое было в этой молодой красивой женщине. Я даже прозвище ей мысленно дала – Светлячок. И ее ничуть не портили – ни беременность, ни слегка выступающие из-под верхней губы белоснежные острые клычки.
Варнак коротко объяснил, кто я такая, почему здесь оказалась, и откланялся.
Осмотрев меня с головы до ног, любимая жена Маруза вынесла вердикт:
– Какая же ты удивительная, ни на кого не похожая. А ты точно человек?
Я улыбнулась:
– Точно, точно. Человек разумный в натуральном виде.
– Что разумный, я вижу – глаза у тебя умные. Не просто же так Владыка альфаров и его первый советник решили стать твоими мужьями притом, что альфары семей вообще не создают? А они действительно так красивы, что глаз отвести невозможно?
– Ну… есть такое. Хотя, альфары вообще очень красивый народ. Самый красивый из всех, что я видела. Некрасивых среди них не бывает.
Зарайна указала глазами на мягкий диванчик:
– Присядем? Я распоряжусь, чтобы принесли марисового отвара и сладостей. Или может, пусть чего-то посущественнее принесут? Ты, наверно, проголодалась с дороги? Хоть и нужно поститься сутки перед свадьбой, думаю, Арайша тебя простит.
Я уселась на диванчик:
– Спасибо, хозяюшка, но чая и сладостей достаточно.
Жена хана отдала соответствующие распоряжения слугам, которыми здесь были исключительно мужчины, в данном случае, на женской половине прислуживали те, у кого после выпуска из незана ничего не получалось с женщинами – стопроцентные геи, одним словом. Было их не много, так что такие слуги в богатых домах очень ценились.
Зарайна опустилась рядом, задумчиво глядя на меня:
– Хотелось бы, конечно, чтобы Арайша благословила вашу семью детьми. У аруков с людьми совместных детей не получается, хоть нашим мужчинам и нравится предаваться страсти с человеческими женщинами. Старейшины говорят, это оттого, что Азраил сотворил нас из разного. Насчет альфаров ничего такого неизвестно, может, у тебя и получится понести от них. Одно плохо для тебя – живут альфары намного дольше нас. Для них наша жизнь – все равно, что для нас один год. Но с другой стороны – если эти двое не захотят тебя потерять, найдут способ, как не допустить этого.
Я улыбнулась:
– Знаешь, так далеко я не заглядываю.
В этот момент вошел слуга с подносом, на котором были кувшин, две пиалы и блюдо со сладостями.
Марисовый отвар оказался вкусным – непередаваемый букет, отдающий одновременно вишневыми веточками, черной смородиной, мятой и мелиссой. Хотя, на самом деле его готовили из листьев одного растения. Печенье тоже было на высоте – просто таяло во рту, можно было корзинку съесть и не заметить.
Сделав маленький глоток, Зарайна поставила пиалу на низенький столик, который стоял возле нашего дивана:
– Скоро придут Старшая Мать и Вестницы – служительницы Арайши, чтобы подготовить тебя к свадьбе. Ты уж, пожалуйста, слушайся их во всем – они лучше знают, как надо.
Спустя какое-то время, в течение которого мы с Зарайной болтали обо всем на свете, как две закадычные подружки, которые знают друг друга всю жизнь, служительницы Арайши действительно появились – три высокие статные женщины в длинных белых балахонах с капюшонами, перехваченных в талии веревкой, сплетенной из волос хайгаков. Единственным украшением, по всей видимости, несущим в себе какой-то сакральный смысл, были подвески из армиза у них на груди в форме круга, заключенного в равносторонний треугольник, внутри которого переливался маленький магринил.
Практически синхронно женщины откинули капюшоны, оказавшись довольно молодыми и привлекательными. Их темные длинные волосы на лбу стягивали тонкие обручи из того же армиза, украшенные посередине стилизованным глазом, наподобие того, что я видела на груди у Маруза, с магринилом на месте зрачка. Жрицы едва заметно поклонились нам с Зарайной.
– Старшая Мать и Вестницы Арайши приветствуют вас, хозяйка и гостья этого дома, – с достоинством произнесла самая старшая и, судя по всему, главная у них.
– Наши двери всегда открыты для Старшей Матери и Вестниц Арайши, – поклонилась в ответ Зарайна.
Старшая Мать с улыбкой посмотрела на меня:
– Я так понимаю, подготовить к таинству Слияния нам следует тебя, дитя человеческое? Тебе повезло – твои мужчины сильны и красивы. От них родятся замечательные дети.
А после этого я оказалась в руках мастериц… элитного салона красоты. Ни с чем другим и сравнить нельзя было то, что со мной делали: маникюр, педикюр, массаж, депиляция, маски, обертывания. И все это быстро, споро, одним словом – профессионально. В отличие от всех этих процедур в обычном салоне красоты, свои действия жрицы Арайши сопровождали обязательными ритуальными жестами и фразами. Приводили меня в порядок двое – Старшая Мать только дирижировала этим оркестром. В результате, посмотрев в зеркало, я себя, можно сказать, не узнала.
И напоследок, таким же торжественным образом меня сопроводили в выделенную мне спальню, предварительно окурив ее какими-то душистыми травами. После чего, смутив до невозможности, на руках отнесли в кровать, в изголовье и ногах украшенную цветами сламии (теми самыми, похожими на кувшинки). Цветы сламии, кстати, у аруков считались одним из главных символов богини жизни Арайши. А потом жрицы оставили меня одну, сказав, что вернутся на рассвете.
Глава 24 Самая тяжелая работа
…Отшумела жестокая битва. В который раз мир склонился перед грозным царем победителей и признал за ним право идти к своей цели, пусть даже и такой ценой. Запах крови и нечистот, которым был пропитан воздух на поле боя, пока еще не сменился запахом тлена. Но не все было сделано. Оставалось сделать ее – самую тяжелую работу на войне.
Повелитель даже не сменил одежду на чистую – приводить себя в порядок было некогда. Просто снял доспехи, наскоро смыл с лица и рук вражескую кровь и одел поверх грязной туники чистый фартук. Тут же ему вложили в руку тонкий длинный стилет – клинок милосердия, как называлось это оружие в воинской среде, который он привычным движением заткнул за пояс. А потом быстрым шагом направился к месту, куда его орлы сносили раненых товарищей.
– Много безнадежных? – спросил на ходу у первого, попавшегося навстречу хирурга.
– Пока двенадцать, государь, – поклонившись, ответил тот.
Демоны! Много. Больше, чем в прошлый раз. Может, кого-то из них еще можно спасти? Собственно, для того, чтобы выяснить это, повелитель туда и спешил. Чтобы выяснить и сделать в случае необходимости свою самую тяжелую работу… Среди прочего, по этой причине – каждую свободную минуту он посвящал изучению медицины. И было уже такое не раз, когда лекари признавали безнадежным раненого, но неистовый варвар сомневался и приказывал лечить, как правило, первую помощь, оказывая самолично. В результате – раненый выживал, что тем же лекарям казалось едва ли не чудом.
…Это была его война, его цель, дело всей его жизни. И пусть ее достижение означало в конечном итоге благо для всех, но те, кто погибал, об этом не знали. Они умирали – за него. Знать их в лицо, помнить их имена и имена их близких, наравне с простыми лекарями, собственноручно промывать и зашивать им раны – это все, что он мог сделать для них. Щедрость и справедливость при дележе военной добычи – не в счет. А еще – он мог взять на себя эту самую тяжелую работу. И брал.
Из двенадцати только один вызвал у него сомнения. Остальные одиннадцать действительно были безнадежными. И, несмотря на это, при виде своего царя, сквозь пелену невыносимой муки у них в глазах проступили узнавание и радость. Неистовый варвар едва заметно покачнулся, когда его взгляд зацепился за улыбку на губах раненого, возникшую, как чудо, из пузырящейся на них крови. Я тебя тоже люблю, парень, люблю и никогда не забуду…
Оказав первую помощь тому единственному, в чьей безнадежности усомнился, повелитель препоручил своего пациента заботам других лекарей и какое-то время стоял неподвижно, собираясь с силами. Он полностью сосредоточился на этом и даже не заметил, что подошли его ближайшие соратники, друзья детства.
А потом опустился на колени возле того, кто улыбался ему, захлебываясь кровью. Провел рукой по лбу, по слипшимся волосам и положил голову умирающего себе на колени.
– Мой повелитель… люблю… люблю тебя… – шептали губы раненого, вопреки пузырящейся на них крови.
– Я тоже тебя люблю, мой дорогой. Бесконечно люблю… – в полный голос ответил ему неистовый варвар, наклонился и припал к окровавленным губам в поцелуе.
В такие моменты все внутренние барьеры, связанные с мужеложством, с его непониманием и неприятием этой «мужской любви», словно сносило сокрушительной волной. Повелитель целовал смертельно раненых так, как они хотели, чтобы он их целовал – самозабвенно, глубоко, страстно. И безграничное счастье, вызванное этим поцелуем, заглушало в них даже невыносимую боль агонии. Удар же милосердия, нанесенный повелителем, был точен и быстр – они не успевали понять, что умирают. Так и умирали – счастливыми…
… Что же он делает с нами, что же он с нами со всеми вытворяет – в полной прострации думали те, кто за этим наблюдал. А друг и брат царя, единственные, кто вожделения к нему не испытывал, глядя на это, приходили в священный ужас – им казалось, что живые и здоровые в эти мгновения завидуют умирающим…
И всякий раз, когда рука повелителя вынужденно обрывала жизнь товарища, у него возникало ощущение, что клинок милосердия вонзается в его собственное сердце. Но по лицу неистового варвара этого было не заметно. По нему вообще мало что можно было понять в критических ситуациях – спартанская выучка давала о себе знать. И на ком-то из умирающих он переступил порог своего собственного предела прочности – может быть, на седьмом, а может, на девятом.
Друг царя первым заметил, что с ним что-то не так: остро заточенный стилет выпал из ослабевших пальцев, повелитель медленно, как сомнамбула, распрямился и уставился бессмысленным взглядом в никуда…
… Никогда эти, много повидавшие на своем веку мужчины, не испытывали такого леденящего ужаса, такой безысходности, такой непереносимой душевной боли, как в течение суток, когда думали, что потеряли своего вождя…
…Повелитель пришел в себя оттого, что его не жалея сил хлестали по щекам. Железные пальцы сомкнулись на занесенной для очередной пощечины руке, а из горла вырвался грозный рык еще до того, как он понял, кто его лупит по лицу:
– Как ты посмел?!
Друг царя моргнул и, наверно, упал бы, не устояв на мгновенно ослабевших ногах, если бы царь его не удержал.
– Боги… ты пришел в себя, ты вернулся!
Это был первый раз, когда неистовый варвар увидел своего друга в слезах: беззвучные и страшные в своей беззвучности, они катились по его лицу неиссякаемым потоком.
На мгновение повелитель растерялся, а потом просто прижал друга к груди:
– Ну, все, все, хватит! Я и женских-то слез выносить не могу, а ты меня тут поливаешь мужскими. Слушай, ну, чего ты рыдаешь, я не только живой – на мне ни царапины…
Друг шмыгнул носом, постепенно успокаиваясь:
– Можешь меня сразу казнить, как государственного преступника…
– За что это?
– Потому что ты больше не возьмешь в руки демонов клинок, и меня не волнует твое мнение на этот счет! Если понадобится – все войско на свою сторону перетяну… да я такое устрою…
Перетягивать на свою сторону войско другу повелителя не пришлось – войско, в лице ближайших соратников, взбунтовалось само. Делай с нами, что хочешь, хоть на кресты отправляй, но дальше мы не пойдем – повернем обратно, если отныне и навсегда ты не передашь этот клинок нам. Так будет справедливо. Самую тяжелую работу на войне не должен делать кто-то один – ее должны делать все по очереди. И вообще – прояви милосердие к живым. Видел бы ты, что творится с парнями, когда у них на глазах ты целуешь умирающих перед тем, как нанести удар – это был последний аргумент, озвученный братом, который тоже принял участие во всеобщем «заговоре». Он-то и заставил безбашенного царя смириться…
…Гнев, вызванный долгим и упорным сопротивлением жителей этого города, давным-давно утих. Он охватывал неистового варвара всегда в таких случаях. Но не потому, что кто-то посмел ему противиться, как это бывало у других. А из-за того, что всякий раз повелитель понимал: снова придется применить карательные, бесчеловечные меры по отношению к выжившим. Придется это сделать для того, чтобы как следует устрашить весь оставшийся мир и свести к минимуму потери с обеих сторон в будущем. Неистовый варвар зверел от одной мысли, что люди, вызывающие в нем только восхищение и уважение, и с которыми он, при других обстоятельствах, с удовольствием распил бы застольную чашу, скоро подвергнутся мучительной казни в назидание другим, подвергнутся – по его собственному приказу. Мысли же о том, что в этой его последней войне, похоже, гибнут самые сильные, бесстрашные, самые достойные, а свой лучший мир он создаст в итоге для самых слабых, трусливых и малодушных – повелитель гнал от себя сознательно и старательно. Они не просто вызывали гнев – они сводили с ума. Чудовищная же эта тактика, тем не менее, приносила свои плоды – после таких вот показательных казней в назидание, не один, и не два, и даже не три города, как правило, сдавались ему вообще без боя.
Тяжелая многомесячная осада осталась позади. И этот город тоже пал, как другие, хоть и сопротивлялся дольше других. Дело было за малым – за применением карательных мер, которые неистовый варвар ненавидел так, что ненавидел себя самого, когда их применял.
Повелитель мазнул рассеянным взглядом по толпе пленных мужчин. Сколько же их было, отчаянных храбрецов, которые защищали свой город, свой дом до конца? Наметанный на толпу глаз полководца определил: гораздо больше тысячи, но меньше двух. Значит, такой будет его сегодняшняя кровавая жертва, упреждающая несравнимо большие жертвы в грядущем?
…Все дело было в его цели. В цели, которую он поставил не только превыше других – превыше себя самого. Настолько особенной, что когда ближайшие соратники пытались осторожно и тактично выспросить о ней, все его усилия были направлены не на то, чтобы вдохновить их этой целью, а на то – чтобы случайно не сболтнуть лишнего раньше времени. Просто этот, ни на кого не похожий царь, совершенно точно знал: даже самым близким, самым родным едва ли она придется по душе и будет понятной. Слишком они привыкли к порядкам и обычаям этого мира, а иного – попросту не знали. Мира – в котором один человек мог безнаказанно убить другого, поддавшись всего лишь минутной прихоти. Мира – в котором взрослый похотливый ублюдок мог до смерти затрахать незрелого ребенка и не подвергнуться даже осуждению, лишь потому, что ребенок этот – раб, его собственность. Мира – в котором женщина, дарующая жизнь, жила, не смея лишний раз поднять глаза на мужчину, и отсутствие побоев с его стороны уже воспринимала, как величайшую ласку. Мира – в котором милосердие считалось признаком слабости, будь оно все проклято…
Об этом никто не знал, но с тех пор, как неистовый варвар пришел в этот мир, он, мир, оказался перед выбором: либо измениться, стать другим – либо умереть. Никто не знал – кроме самого мира, который потому и отдавался, раз за разом, безбашенному царю, не считаясь ни с какими потерями.
Почему мир оказался перед таким выбором? По очень простой причине. Потому что перед выбором, в свое время, оказался безбашенный царь: либо взять на себя слишком много и попытаться хоть что-то изменить в этом уродливом, ненормальном человеческом мире – либо жить, под него прогибаясь. Нет, от недостатка здравомыслия он не страдал и прекрасно понимал, что не в его силах сделать так, чтобы похотливый ублюдок перестал вожделеть ребенка. Но понимал неистовый варвар и другое: после обретения власти над миром никто и ничто не помешает ему отрезать похотливому ублюдку яйца, отрезать так, что другие, подобные ублюдки, двадцать раз подумают, прежде чем тянуть грязные лапы к незрелому малышу…
… Женщинам и детям из числа жителей захваченного города была уготована одна дорога – в рабство. Как ни чудовищно это звучало, но для них, оставшихся без своих защитников мужчин, рабская доля означала наилучший выход: если и придется терпеть издевательства, то разве что – от хозяина. Да и голодная смерть рабам не грозила. А если еще с хозяином повезет… Иногда случалось и такое – что рабам с хозяином везло.
Что же касается пленников мужчин…Глядя на них, повелитель какое-то время мысленно повторял, как заклинание, как мантру: цель. Важна лишь конечная цель. Все остальное – второстепенно. В реальность его вернул голос одного из командиров, который спросил, кивнув на плененных храбрецов – побежденных, но все еще не сломленных:
– С этими что делать, государь?
Неистовый варвар сделал глубокий вдох и недрогнувшим голосом отдал приказ:
– Этих – на кресты, – а чуть помолчав, добавил, – Поить и кормить – чтобы прожили подольше.
На всякий случай командир решил уточнить:
– Всех, государь?
– Всех. Из таких рабы – все равно не получаются.
И будь он проклят – если унизит этих храбрецов рабством… Но вслух, конечно, ничего такого царь не сказал…
…Неистовый варвар не смог себя заставить смотреть на то, как распинают людей по его приказу, хоть и понимал – что должен. Пока стучали молотки и раздавались крики боли, повелитель стоял лицом к своим орлам. Но, казалось, его потемневший взгляд – был обращен в никуда. И ничего нельзя было понять по этому, словно окаменевшему лицу – что он чувствует, о чем он думает. Спартанская выучка и сейчас пришла ему на помощь.
Наконец, наступила тишина. Царь победителей медленно повернулся к частоколу крестов с распятыми на них побежденными. Какое-то время стоял неподвижно, а потом подошел к первому из них.
… Ты мне не враг, парень. Ты – жертва. А я – твой палач. И смерть твоя мне нужна для того, чтобы сохранить жизни многих и многих людей в будущем. В этом нет ничего личного, поверь. Если бы я имел право на личное, ты бы сейчас не на кресте висел, а пил со мной хмельное вино. Но все, что я могу сделать для тебя – это запомнить. Запомнить – до последней черточки лица, до малейшего движения души. Запомнить – навсегда, навечно…
Нет, вид царя, который всматривался в человека на кресте так, как будто пытался влезть в его шкуру, вовсе не был страшен – само совершенство не может быть страшным. Он был – сверхъестественным. Слишком пронзительным казался его потемневший взгляд, слишком пристальным, слишком внимательным, слишком разумным. Человек не мог так смотреть. И человек не мог постичь сущность другого человека до самого дна. А неистовый варвар тогда – постигал. Постигал, несмотря на то, что распятый поначалу отворачивал лицо. Но, в конце концов, не выдержал, и их глаза на мгновение встретились. И в это мгновение повелитель узнал о нем все – даже имя. После чего прикрыл глаза, проверяя, насколько хорошо запомнил, и перешел ко второму кресту. Совершенно не думая, сколько времени у него уйдет на то, чтобы запомнить такое количество людей. И даже не представляя себе, как это выглядит со стороны. Он бы воздержался от подобных действий – если бы представлял…
…Его же люди, его орлы, наблюдая за ним, находились в состоянии, близком к помешательству. …Боги, что он делает, что опять вытворяет? Зачем он это делает? Он, наш возлюбленный повелитель, наш божественный царь – он не такой. Он не из тех, кто наслаждается чужими муками и смертью. Он – не такой, не такой, не такой…Наверно, от помешательства их только и спасало отсутствие каких-либо признаков садистского удовольствия на лице любимого вождя.
Но вот и второй распятый не выдержал, подарив царю мгновенный взгляд, рассказав о себе все. И точно также – повелитель прикрыл глаза, убедился, что хорошо запомнил, а потом перешел к третьему.
С третьим же что-то пошло не так. В какой-то момент неистовому варвару показалось, что распят не только тот, кто висит перед ним на кресте – что распят он сам. Ощущение пробитых запястий было настолько явственным, что царь не удержался, посмотрел на свои руки и естественно – никаких гвоздей там не увидел. Ну, надо же, как его глючит в очередной раз – пора бы уже привыкнуть. Странно – он вовсе не пытался узнать, что чувствует распятый. И так знал, что быть распятым – это больно. И что тому, кто на кресте, намного больнее, чем ему – его-то распяли по-настоящему. Больше не обращая внимания на иллюзорную боль, повелитель продолжал всматриваться в приговоренного – узнавал о нем все. Этот парень был сыном торговца из Иудеи, он был молод, не женат, успешно помогал отцу в делах. И вот наступило мгновение, когда их глаза встретились. Голова распятого дернулась, словно он так же, как двое других, хотел отвести взгляд. Но все же иудей удержался – взгляда почему-то не отвел. Неожиданно в нем появилось выражение, какое появляется у людей в минуту озарения, которое тут же сменилось благоговением и мольбой. Просто сверхъестественный и одновременно совершенный вид чужеземного царя подействовал на иудея таким образом, что он решил: перед ним земное воплощение единого бога его народа – Иеговы. Люди очень сильно провинились в чем-то, и бог сейчас их за это наказывает. Уста распятого вдруг разомкнулись и изрекли на ломанном греческом:
– Прости меня, господи, пожалуйста, прости!
Только одно это слово – «господи» прозвучало на каком-то неизвестном языке, очень странно прозвучало – как будто померещилось… Повелитель почему-то подумал, что оно, должно быть, означает уважительное обращение к мужчине на языке распятого. Ему было не до того, чтобы ломать голову над значением незнакомого слова – так он был потрясен.
…За что этот человек просит у него прощения? У него – своего палача, своего убийцы? Как это вообще возможно – в такой ситуации просить прощения? И вдруг в голове у царя возникла мысль, что этот распятый – намного лучше и выше его, а значит – лучше и выше его цели, сколь прекрасной и важной она бы ему ни казалась. И эта мысль чуть не убила в нем сущность, душу – только сильные руки друга и брата тогда не дали неистовому варвару свалиться в пыль перед тем крестом…
…Все дело было именно в непонятном слове, что прозвучало даже не на языке иудеев – оно прозвучало на языке, которого еще не было…Если бы повелитель знал его значение – эта убийственная мысль, никогда бы не пришла ему в голову. Он бы просто понял, что на самом деле у него просят не прощения – а пощады. И что этот распятый ничуть не лучше и не выше ни его, ни тех, кто висел на крестах рядом. Потому что они, даже будучи распятыми, остались достойными уважения мужчинами – пощады не запросили. Это был единственный раз, когда ошибся тот, кто не может и не должен ошибаться…
Едва обретя способность говорить, неистовый варвар дал отмашку своим орлам:
– Этого – снять!
И понимал, что не прав, не прав настолько – насколько человек вообще может быть неправым. Что он может либо казнить их всех – либо пощадить. И ничего третьего не дано. Да, наверно – не дано и второго. Если бы мог пощадить – пощадил бы. Понимал – и все равно это сделал. Несмотря ни на что, и вопреки всему.
И это был единственный раз, когда безбашенный царь пошел дальше, даже не оглянувшись на человека, который зацепил его за живое: не помог ему, не потащил за собой – просто дальше пошел. Мимолетно подумал: этот – не пропадет, и все.
В голове же у того, кого пощадили, не сразу, какое-то время спустя, но все же мелькнула недостойная мыслишка: что он круче и выше самого бога, раз сумел одержать над ним верх, будучи беспомощным, пригвожденным к кресту…
… Очередная битва, как всегда, закончилась победой, но в тот момент неистовый варвар еще не осознал, что уже дошел до него – до своего края мира. Он осознал это тогда, когда перед ним опять встал проклятый вопрос – о применении карательных мер к поверженному противнику. Для того чтобы успешно двигаться дальше, ему нужно было отдать приказ о показательной мучительной казни гордого индийского царя и его верных сторонников – напугать до потери сознания, до колик тех, кто ждет впереди.
И вдруг повелитель понял – это конец. Он больше не просто не хочет так. Так – он больше не может. Гори все огнем – его мечты, его цель, уродливый, ненормальный мир человеческий, но на этот раз сильному и храброму воздастся по заслугам – действительно по заслугам.
– Я хочу поговорить с этим гордым царем. Без свидетелей, – озвучил он свое желание ближайшим соратникам.
Если они и удивились, то виду не подали – хочешь, так хочешь, твое дело.
Вообще-то жители Индии в большинстве своем были малорослым народом, что особенно бросалось в глаза на фоне высоких чужеземных захватчиков. И первое, чем удивил неистового варвара гордый индийский царь – это своим ростом. Он оказался не просто высоким – а одного роста с ним. Могучая стать, смуглая кожа, жгучие глаза с настолько темной радужкой, что она сливалась со зрачком – даже темнее, чем у его друга. И в глазах этих светились сила и непримиримость дикого зверя, но лишь до тех пор, пока они не встретились с глазами царя победителей. А потом что-то дрогнуло в них, и непримиримость сменилась неверием, безграничным удивлением.