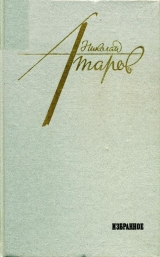
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 37 страниц)
– С Олей? Нет, правда?
– Я ненадолго, Митя, в этот раз. Завтра утром обратно.
Прямо из школы Митя отправился на поиски Оли. Дома ее не застал – комната заперта. Гринькина мать, черноволосая толстуха, затянутая клетчатым бумазейным халатом, увлекла Митю к себе.
– Повлияйте на Оленьку, – загудела она, усаживаясь в глубокое кресло. – Это кошмар, что ребенок делает с собой. Сегодня не ночевала дома.
– Я знаю.
– И белья с собой не взяла! – вскричала толстая женщина как бы в ответ на его возражения. – Может быть, даже лучше, что не взяла: по крайней мере, цело будет. Я спрашиваю ее утром: «Что ты там делаешь?» Она огрызнулась: «Нянькины песни слушаю». Вы знаете нянькины песни? Иногда – нормально, а иногда я кричу Гриньке, чтобы он не выходил на кухню.
– И не выходит? – со злым интересом осведомился Митя.
Гринька Шелия славился в классе как неподражаемый исполнитель блатных песенок, но скромно уверял, что его отец поет еще интереснее.
– Мальчик краснеет за двумя дверями! – отрезала Гринькина мать. – Но дело не в этом! Я ей говорю: «Съешь яичницу». – «Не хочу». – «А что хочешь?» – «Ничего»… А главное – мне перед людьми будет стыдно. Стройуправление платит за комнату, а в комнате не живут. Я понимаю, ей неприятно теперь оставаться ночью одной в этой комнате, так пусть у меня ночует. Пимен Багратович в командировке. Гриня может спать в столовой. Нет, она не хочет. Я ходила в роно, просила, чтобы назначили патронташ, патронаж, как у них там называется. Инспектор говорил, что нельзя, у нее паспорт. Обещал позвонить директору школы… Я прошу, Митенька! Оля так уважает вас, вашу тетю, вы подействуйте на нее. Что ей в конце концов надо?
Мите было противно слушать. Тут не было ни капли участия в судьбе Оли, а только хитрые маневры вокруг комнаты. Толстуха боится, что перестанут платить или вселят многодетную семью. Он досадовал на себя, что потерял время, может быть, уже не найдет Олю и в школе.
В школьном палисаднике было безлюдно, как всегда в большом промежутке между концом второй смены и началом занятий в школе рабочей молодежи. По старой привычке Митя осмотрелся, прежде чем войти. Он был уверен, что Оля здесь – она запустила лабораторные работы по физике. А может быть, в каком-нибудь классе уткнулась в книгу? Где ей готовить теперь уроки? Он не пропустил ни одной двери.
В физическом кабинете Абдул Гамид занимался с двумя девочками. Митя только чуть приоткрыл дверь – Оля тут. В душном кабинете старый учитель почувствовал, наверно, в криво составленных партах близость школьного лета. Он уселся поудобнее, с ногами на парте, как мальчик, и задавал вопросы так, что ответы сами напрашивались. Он был похож в этой позиции на засидевшегося рыбака – в сандалиях, с указкой вместо удочки в пухлых руках.
– О! Если стекло двояковыпуклое, то фокус… Ну? Это мы знаем уже три года… – подсказывал он Ольге.
– Стекло двояковыпуклое, – повторяла Оля, пальцем водя по краю пюпитра.
Оттого, что она знала, что ей все равно помогут, язык немел от унижения, и даже то, что она понимала хорошо, не могла выговорить. За окнами начинался дождь. Глотая слезы, Ольга видела, как темнеет земля, как девушка в доме напротив выставляет фикусы на балкон.
Сегодня Оля страдала уже от признаков участия, от выражения соболезнований, жалости. Директор школы Антонида Ивановна вызвала на перемене в учительскую, расспрашивала о няньке, показала записку начальника стройуправления с обещанием предоставить Оле в строящемся доме жилплощадь, сказала, что председатель постройкома подтвердил, что Олю пошлют на две смены вожатой в пионерский лагерь, «а это оклад и питание». Подошел Абдул Гамид, милый человек, и ничего не сказал, просто постоял рядом. А Антонида Ивановна попросила его после уроков заняться с Кежун по физике.
И девочки в классе зазывали к себе в гости. Маша Зябликова неотступно следовала за Олей. Нюра, всегда безмолвная и застенчивая, металась с какими-то поручениями Антониды Ивановны. Оля знала, что она ездила в отдел социального обеспечения насчет Олиной пенсии. А в буфете Оля слышала нечаянно, как Нюра консультировалась насчет бесплатных завтраков с буфетчицей Зиной, и та, вздохнув, сказала:
– Помочь надо. Человек – не хлеб: он изнутри черствеет.
Но Оля не собиралась черстветь. Ей только было тоскливо, что пришло такое время, когда ее стали жалеть. Не нужно, не нужно ей жалости! И когда Ирина Ситникова, захваченная волной общего сочувствия, предложила Оле что могла – в конце недели заниматься вместе по алгебре, – она отрезала:
– Пожалуйста, упражняй свои добродетели на ком-нибудь другом.
Ирина обиделась, сказала:
– Какая ты грубая!
А Ольга с горьким злорадством подумала о том, что ей ничего не прощают, – значит, не любят.
Такой и стояла сейчас перед приборами, угрюмая, насупленная. Абдул Гамид терпеливо ждал…
– Что Митя Бородин? Поможет он тебе летом?
Этот вопрос, как все другие, Абдул Гамид задал по-дружески, но Митя услышал и обомлел от неожиданности. Он едва не выдал себя, рука его дрогнула на ручке двери. Абдул Гамид задал этот вопрос так тихо, что ответ был подсказан сам собой, – и дождиком, сквозь который проглядывало солнце, и доброй улыбкой учителя.
Она захлопала ресницами, закивала головой: «Да! Да! Да! Поможет…»
Митя дожидался у статуи Сталина, там, где в пустынном вестибюле одну лишь гардеробщицу мог заинтересовать притаившийся юноша.
Оля прошла быстро, гулко стучали шаги по лестнице. Он возник перед нею – она не удивилась. Как будто знала, что дожидается. Надо отойти подальше, следом идет Абдул Гамид. Дождь кончился.
– Пойдем ко мне, – сказал Митя, протягивая ей руку.
– Нет, Митя, лучше проводи меня. Я – к няньке.
– У меня папа сегодня.
– Ты не задержишься. Проводи меня.
Она увлекла его; они уходили быстро. Что же тут спорить, если ей так нужно. Он искал ее, полный решимости действовать, а теперь вся решимость обратилась в быструю ходьбу.
– Ты задохнешься, Оля, нам далеко еще.
Пока они шли по берегу, заваленному штабелями дров, пока миновали шлюзы и вышли к верхнему бьефу, к широкому водному простору, солнце зашло, осталась лишь яркая желтая полоска над водой. Паровозы, сновавшие вдоль берега по дровяной ветке, мазали эту полоску черным дымом, и медленно проступал из-за дыма чистый желтый цвет заката. Теперь Оля шла медленно, все видела ясно. Вон грозовая туча. Апрель, а небо похоже на летнее. Хотелось думать о лете.
– Дождь совсем близко. Километра два отсюда, – сказала Оля.
– Нет, километра четыре. Река одна и та километр.
– Отец будет ждать? – спросила Оля, угадав, что Митя думает о нем. – Какой он?
Как она догадалась? Как ей по-особенному рассказать про отца, чтобы она захотела с ним встретиться?
Митина вера в отцовское всемогущество была беспредельна. Как-то удивительно вовремя умел Егор Петрович подтолкнуть Митину мысль, подсказать самостоятельное решение, не отпугивая крутизной взрослого опыта. И укорять никогда не позволял себе – только поскучнеет, если что не нравится. А это хуже плохой погоды. Встречались раз в месяц, а то и реже. Но каждый раз при встречах Митя вдруг понимал, что жил все время, как будто выполняя необъявленное задание отца.
Сегодня нехорошо рассказывать это Оле. И Митя выразился более уклончиво:
– Я очень хочу, чтобы ты сегодня пришла к нам. Поговоришь с ним – и тебе непременно станет легче. Он всегда налегке. У него дорожный мешок, он в него напихает белья, бумаг, табаку и отправляется в командировку. Все в мешке, даже Уголовный кодекс. Пойдем?
Она покачала головой.
– Тебе только кажется, что все очень просто. Отец меня пожалеет, Марья Сергеевна приласкает. Не хочу я, чтобы меня жалели. В школе тоже все очень жалеют. Просто не налюбуются на себя, как жалеют…
Ее голос срывался. Так вот что мучает Ольгу! Он сжал изо всей силы ее руку.
– Как не совестно, Оля! Зачем ты обижаешь людей, которые хотят тебе помочь? Ведь в том, что случилось, никто не виноват. А если в жизни с тобой произойдет что-нибудь страшное по вине людей, так уж белый свет сажей вымазать и в прорубь головой? Так жить нельзя, Оля!
Вдруг он почувствовал, что она дрожит. Дрожали плечи, локти; портфель, приподнятый, как для защиты, под подбородок, колыхался в ее руках; лицо с побелевшими скулами умоляюще смотрело вверх. Она не глядела на Митю. И он понял: так натянуты ее нервы, что каждое резкое, пусть даже необидное слово повергает ее в дрожь.
– Мне холодно… – сказала она.
– Надень вот это! – Он в секунду снял с себя куртку с застежкой «молния».
Но Оля помотала головой.
– Я больше не буду. Ты знаешь, я возьму себя в руки… Только не говори так.
Он торопился укутать ее. Оля подчинилась, надела куртку.
Пароход прошел близко, играла музыка. Теперь дорога уходила от реки, взбегала на те холмы, на которых лепились мазанки Дикого поселка. Возле палисадника, огороженного листами старого железа, Оля, задохнувшись, остановилась. Грозовая туча заволакивала синевой небо. Пароход поворачивал в сторону шлюзов. Мальчишка на неоседланной лошади прогнал табун с водопоя. Один жеребенок отстал, шел понуро по песку на взлобке холма. Тоненько заржал. Там, где садилось солнце, поднималась над табунком пыль.
И вдруг Оля, глядя на весь этот простор, улыбнулась. Митя с нежностью всмотрелся в нее. Нет, больше он не скажет ни одного резкого слова, ни в чем не будет ее убеждать.
Они подошли к дому.
Так же, по-вчерашнему, был открыт нянькин сарай. Только кровать стояла теперь в глубине, в полумраке, знакомая домотканая дорожка висела на стене над кроватью. Так же сквозь щели задней стены виднелись бочаги, над ними поднимался парок; там белая утка купалась, ныряла, показывая над водой кургузый зад.
Митя пробрался к высокой кровати и сел. Он ждал, что Оля зажжет лампу, но Оля забыла об этом; она постояла возле щели в стене, потом тоже присела на кровать. Все можно забыть, когда она так прикоснулась плечом к его плечу. Он осторожно обнял ее, поцеловал в плечо и засмеялся.
– Что тебе смешно? – прошептала Оля.
– Собственную куртку поцеловал.
– Не надо. Пожалуйста, не надо.
Во дворе мальчишки играли в биту. Муж Глаши, когда они проходили в сарай, проводил их взглядом; он возился с ящиками из-под оконного стекла, выгребал из них стружку, кидал ее в огонь костра, а подросток в фуражке с лаковым козырьком рубил ящики топором и складывал горкой щепу. Зачем они занимались этим уничтожением? Митя и Оля давно знали Глашиного мужа, но никогда не могли разгадать его профессию. Нянька говорила о нем загадочно, – видно, побаивалась его.
Глашин муж ничего им не сказал во дворе. Но Митя почувствовал, как он проводил их взглядом, как бы отметил зарубкой, куда они пошли.
– Нянька вчера несла какую-то несусветную чушь. Будто бы Глаша может тебя на лето в ларек устроить. Это правда? – спросил Митя. – Нет, это неправда?
– Я не знаю, что будет дальше.
– А я знаю. Ты будешь жить у нас. Ты будешь учиться, ты кончишь школу, все будет так, как надо! Мы сейчас же пойдем домой. Там отец. У тебя не может быть другого дома. И мама так же решила бы.
– Я не пойду. И ты не уходи. Погоди.
В темноте нельзя было ничего разобрать, только белело полотенце на спинке кровати. Митя прилег поперек кровати, и его голова коснулась домотканой дорожки. Он провел по ней рукой. В комнате Веры Николаевны она висела в углу за этажеркой с книгами. Хороша ее разноцветная пестрота: красные, черные, желтые, голубые, серые полоски.
– Это мамина дорожка? Не разберешь.
Оля поняла, о чем говорит Митя:
– Да, в темноте слилось. Не видно.
– Я не буду сейчас тебя уговаривать, только ты обижаешь меня, Оля.
Она молчала.
– И тетю обижаешь. Ни за что ни про что.
Когда он говорил так о тете, он не сомневался, что говорит правду. В его сознании утреннее приглашение тети заниматься у них само собой переработалось в приглашение Ольги жить в их семье.
– Не надо выдумывать, Митя. Тетя знает: со мной жить – не подарок, – сказала Оля. – Это с мамой можно мне было. Я сегодня ночью долго думала.
– Я тоже! Прости, что я вчера говорил глупости.
– Какие?
– О Леваневском.
– Но разве это глупо, что ты сказал?
Теперь пришел ее черед возражать ему. Из всех слов ободрения, услышанных ею, нужнее всего оказалось напоминание о Леваневском. Ну как, каким непонятным способом дало оно росток в ее душе! Когда она сегодня ночью лежала рядом с нянькой, боясь шелохнуться, вдруг вспомнились ей обледеневшая веранда, и Митин рассказ о Веточке Рословой, и обещание лета; все это детское, наивное смешалось с грозным представлением о летчиках, бредущих в полярной пустыне к жизни, к людям. И вдруг в полной тьме сарая, в полной тишине спящего двора Оля впервые подумала: «Ну и пусть трудно – все-таки жить!»
– Митя, помни о лете, – сказала Оля.
– Вот за это спасибо. Значит, ты не забыла?
– Что ты!.. Будем летом вместе. Я-то помню.
Было тихо. И только звук топора. Он тоже напоминал веранду на зимней даче. Так вот какие бывают перемены в жизни!
В дверях послышалось нянькино кряхтящее дыхание. Она шла на покой, не догадываясь, что здесь, в сарае, в темноте, идет важный, самый важный для Оли, какой только может быть в жизни, разговор.
– Ну, теперь иди, – шепнула Оля.
ВЗРОСЛЫМ ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ
Поскучнел районный прокурор. То, что Митька переутомился, ночью плохо спал, очень понятно. Да, все кончилось печально, и одной сиротой стало больше на свете. Выпроводив Митю в школу, Егор Петрович присел к столу завтракать. Только и сказал, что «мы в свое время раньше становились взрослыми», на что Марья Сергеевна, помолчав, спросила: «И теперь позже стареем?» И, как эти два неторопливых вывода, все, что они в течение дня думали об Олином горе, о Митином будущем, соединялось с мыслями о собственной юности. Егор Петрович пошел в областной суд, Марья Сергеевна, как обычно, – в школу. А сошлись вечером – Мити нет дома, – и снова шел разговор о том, не взять ли девочку в семью. Каждый про себя вспоминал покойницу Катю – Митину маму. И чаще обычного Марья Сергеевна совала окурки в блюдечко с водой, с давних пор заведенное на письменном столе.
Марья Сергеевна смолоду была нехороша собой. Не настолько, чтобы личная жизнь была заказана, но как раз настолько, чтобы не нравиться себе и со всей непримиримостью юношеских требований к жизни отказаться от попыток искать свое женское счастье. Много читавшая, любившая книги, всем жаром души ненавидела она в юности княжну Марью Болконскую. «Эта нищенка, – писала она в дневнике, – готова принять любое подаяние. О, не меньше, чем Николая Ростова, она обожала бы и наглого Анатоля Курагина, если бы тот согласился взять ее в жены! Впрочем, один от другого не так далеко ушел, как казалось Толстому». Самой же ей при этом казалось, что она похожа лицом и неуклюжестью на княжну Марью, и ее ужасало предположение, что когда-нибудь по-нищенски примет подаяние – станет чьей-то женой.
Рядом с Машей в семье земского врача росла младшая сестра, Катя. Она была из тех женщин, которых называют очаровательными. Миловидная, не замечавшая своей миловидности, одаренная жадным интересом к людям, уверенная, что рано или поздно все в жизни устроится без ненужных усилий, она нравилась одинаково и мужчинам, и женщинам, и детям. Гибкость Кати, ее умение увлечься чужими интересами люди принимали за глубину, такт – за доброту, самоуверенность – за бесстрашие. Маша все хорошо понимала. Зато, когда Катя вышла за Егора Петровича, Егорушку, скромного, мужиковатого по внешности, только что окончившего юридический факультет и работавшего судьей в соседнем селе, все посчитали это легкомыслием, и только одна Маша оценила безошибочный выбор сестры. Много ночей проплакала втихомолку: ведь это был ее собственный, Машин выбор. Катя весело отняла у нее неуклюжего знакомого, понравившегося Маше с первого же дня – и, пожалуй, недостатками больше, чем достоинствами.
Прошло много лет, все утряслось. А недостатки и достоинства, смешавшиеся в характере Бородина, остались в глазах Марьи Сергеевны те же, только с годами, пожалуй, ей стало труднее различать, где недостатки, где достоинства.
Егор Петрович работал в сельских местностях, в маленьких городах и, как говорится, не сделал карьеры. И Катя-то умерла в глуши, в распутицу, из-за отсутствия нужных медикаментов. А был он хотя и беспечный в быту, а принципиальный в главном; был он способный человек, даже талантливый, как думалось Марье Сергеевне. Больше всего она презирала позерство. А Егор Бородин начисто лишен хотя бы признаков напускного. Это передалось Мите, который, по мнению тети Маши, тоже не скрывал о себе ничего дурного и не показывал себя лучше, чем есть.
Честным работягой советской юстиции знали Егора Петровича и в годы разгула нэповских растрат и спекуляций, и во времена раскулачивания, когда в него дважды стреляли, и в Отечественную войну. Вечный обитатель маленьких домиков районной прокуратуры, был он в то же время и непременным участником читательских конференций в сельских клубах; копался в книгах в красноармейских библиотечках, любил старинные песни и даже подыгрывал себе на гитаре. Любил урвать часок среди работы и вместо обеда и сна забежать в кино. И не то чтобы увлекался любимыми актрисами или предпочитал ковбойские фильмы, – нет, просто нравилось ему ввалиться с толпой в узкие двери кинозала, найти второпях свое место в тесных рядах и ожидать вместе с мальчишками, когда погаснет свет. В предвоенные годы нравились ему летние сборы комсостава – нравились, как ни странно, «равнение направо» и «повзводно шагом марш», нравилось петь в ротной колонне пасмурным утречком по дороге в офицерскую столовую. А в послевоенные годы, когда приходилось часто выезжать в командировки, любил он потолкаться по базарам, вокзалам, зайти в первый попавшийся ресторанчик третьего разряда, послушать баян. И ненавидел одиночные гостиничные номера со следами пребывания неизвестных людей, с которыми никогда уже не придется поговорить. Не очень-то огорчало, когда свободного номера не оказывалось и доставалась койка в многолюдной комнате: лишь бы не храпели, черти.
В своем рабочем кабинете Егор Петрович был строг с людьми, как и соответствовало его должности. Но Марье Сергеевне он казался человеком робким и неуверенным в себе. В то же время она помнила, как однажды, несколько лет назад, когда областной прокурор спросил Егора Петровича на совещании, как он понимает свое дело, в чем заключается его главная забота в жизни, прокурорский интерес – областной прокурор был кавказец и сказал «интэрэс», – Егор Петрович подумал-подумал и ответил: «Чтобы люди крепче били молотом и чтобы плуг глубже входил в землю». Сказать-то сказал, а потом долго конфузился, было неловко перед товарищами: уж очень декларативно, на фразу похоже. Но, в самом деле, ведь ради этого в своем сельском районе, да и повсюду, где ни работал, Егор Бородин следил за тем, чтобы семена не растащили воры, чтобы в совхозных садах проредили кроны, чтобы пароходы шли по графику.
Не зная многих подробностей прокурорской работы, Марья Сергеевна прекрасно понимала, что поэзия этой профессии заключается для Бородина в том, чтобы закон был не только барьером, предохраняющим от преступлений, а был рычагом, поворачивающим, двигающим жизнь вперед.
Как давно это было, когда Маша ревниво и тайно приглядывалась к привычкам и склонностям зятя! Не сразу понял Егор Петрович в те молодые годы, что Марья Сергеевна влюблена в него, не сразу понял, что она скрывает все от самой себя лишь потому, что ни разу не посмотрел он на нее как на женщину. Он очень любил Катю и никогда не раскаивался в своем выборе. Маша это понимала и тогда, когда в арзамасском ресторане на масленой Катя сидела нарядная, веселая, а Егорушка в вельветовой толстовке глядел на нее, как добрая большая собака; и когда много лет спустя Маша навестила их в кубанской станице и, несмотря на тревожное время, нашла, что у них уютно в хате; по вечерам при плотно запертых ставнях гасили лампу и сидели у печки.
Все долгие годы, пока Бородины ездили из края в край, Марья Сергеевна оставалась в Арзамасе одна. Она много работала в школе. Стародевичьи причуды не миновали ее. Впрочем, она понимала, что характер меняется от одиночества, и не без юмора шла навстречу своим причудам. Началось с невинного коллекционирования кактусов. Однажды ни с того ни с сего она отказалась ассистировать на экзаменах по немецкому языку в пехотном училище, где преподавала французский. Потом завела кота, стала умиляться на его мохнатые лапки, «широкомордие», даже на тембр мурлыканья, рассказывала в учительской, что кот Никита ждет ее к определенному часу на форточке. Потом появилось отвращение к хоровой музыке, и она убегала гулять под дождем, если соседи включали радио.
Тем временем у Бородиных родился сын. Они переехали с Урала в Белоруссию, сменили областной центр снова на район. Катя с увлечением принималась за разные дела и без сожаления их бросала. Насадила мичуринский вишневый сад при доме – уехали. Взялась заведовать сельской библиотекой. Неожиданно в компании мужниных товарищей увлеклась охотой с подсадкой и поздней осенью простудилась на болоте. Воспаление легких распознали поздно, дороги были размыты дождями, и оказалось – спасти невозможно.
Марья Сергеевна, вызванная Егором, приехала спустя две недели, по первопутку. Когда она увидела толстого серьезного Митьку, которому едва исполнилось четыре года, он ей понравился; но полюбила она его не сразу и поначалу никак не могла бы предположить, что пройдет полгода – и она не только возьмет мальчишку в большой южный город, где жила последнее время, но и привяжется к нему всем сердцем.
В отчаянно тяжелое для Бородина время Марья Сергеевна оказалась настоящей спасительницей. Егор Петрович и теперь, на пятом десятке, когда глубже и вернее судишь о прожитом, не желал бы себе ничего в жизни, кроме Катиной любви; но как он был благодарен Марье Сергеевне за то, что Митя полюбил тетку, как родную мать! Он был благодарен ей за сына, а она не нуждалась в благодарности: тут не было никакой ее жертвы, она душевно расцветала и хорошела с каждым годом, чувствуя себя опорой для людей, которые ей дороги. Наконец-то у нее появилась семья! Она ничего не требовала от Егора Петровича, – даже мысли не было, чтобы как-то заново сложить несложившуюся женскую судьбу. У нее семья! Она не выклянчила ее, не приняла как подаяние – к ней пришли и попросили помощи. И она сумела воспитать Митю.
В тот день, когда сиротство чужой девочки заставило задуматься Марью Сергеевну, она была взволнована, как в годы юности. В первый раз ее разговор с Егором касался не повседневных забот о Митиных штанишках, учебниках или служебных мелочах, а – хоть и без слов – первой любви, того, что окрыляет юность или грозит непоправимыми, ломающими жизнь последствиями, – а, значит, касался и далекого прошлого, взаимных ошибок, настоящих или мнимых. Оля Кежун, с ее кокетством и непоследовательностью, теперь, когда речь зашла о том, не взять ли девочку в семью, напомнила ей покойную сестру.
А Егор Петрович, честно решавший трудную задачу, понимал состояние Марьи Сергеевны, старался поберечь ее в разговоре и только нет-нет да по-мужски посмеивался про себя странностям беседы, у которой такая простая с виду поверхность и такая сложная – «не разбери-поймешь» – глубина.
– Однако Митя загулял. Вымокнет, черт! – говорил Егор Петрович в ту самую минуту, когда Митя расставался с Олей во тьме сарая.
Вот уже полчаса дожидаясь сына, он наблюдал в окно при свете молний, как ливень заливает асфальтированный двор, вернее сказать – «внутриквартальное пространство», как никнут кроны низеньких яблонь за палисадником в центре двора. А только что запад был красным; вполнеба – не то закат, не то зарево доменных плавок; там, вдалеке, сеялся косой дождь лиловыми полосами, а над городом шли белые облака или облачные просветы в вечерних косматых тучах. Потом совсем стемнело, а Мити все не было. Начался ливень с громом и молнией. Ранняя южная гроза.
Позади Егора Петровича, во второй освещенной комнате, бродила Марья Сергеевна. Она вошла в Митину комнату с одеялом и подушкой для Егора Петровича.
– Ты как будешь спать, головой к окну? – спросила она, расправляя матрас, брошенный поверх тахты.
Он знал, что этот вопрос всегда доставляет ей удовольствие, и в каждый приезд по-новому назначал место подушкам.
– Пожалуй, головой к окну… Да, Оля, Оля. Ольга Кежун… Недавно у нас в слободе умер народный судья Иванов. Ты его знала. И вот дочка его пришла в школу, а там драматический кружок что-то готовил к празднику. Минута в минуту пришла и сообщила: «Я не могу репетировать». – «Почему?» – спрашивает учительница. «У меня умер батя». Пришла аккуратно, предупредила и ушла. Дисциплинированная!
– О, это не Оля! – возразила Марья Сергеевна.
Егор Петрович не стал говорить дальше. В этом восклицании вся Маша: обо всем резкое мнение, судит обо всем как старая холостячка – отчетливо, кратко, – и в этом сближается с юнцами, которые тоже быстры на расправу; только у нее – от нажитого, от опыта, а у Мити – от полного его отсутствия.
– Я почти не представляю эту Олю. А ведь ты ее и по школе знаешь. Какая все-таки она? – спросил Егор Петрович, вглядываясь в сверкающую молниями черноту вечерней грозы.
– Дичок! Избалованная. Беспорядочная. Искренняя. Независимая. Знаешь, сама по себе в том смысле, что под чужую дудку плясать не будет. Троечница… Рассчитывает отыграться в жизни на обаянии, на кокетстве. – Тетя Маша старалась точными словами дать характеристику Оли. Улыбнулась своему воспоминанию: – Недавно я Митю учила: «Скажи ей, пусть хоть меня, старуху, пощадит, хоть мне глазки не строит».
Егор Петрович улыбнулся.
– А кошек не любит?
– И кошек не любит, – подтвердила Марья Сергеевна, понимая, что шуткой Егор намекает на недостаток беспристрастности в ее суждениях.
Раздался раскат грома, будто дерево в лесу повалили.
– Митя опасается, конечно, что ты скажешь ему: «Девочек много, а тетка у тебя одна» – или еще какую-нибудь заповедь вроде этой, – сказал Егор Петрович.
Если бы он обернулся, он увидел бы пожилую женщину, сидевшую на еще не приготовленной постели, сложившую руки на коленях и забывшую о себе в эту минуту. Могла ли Марья Сергеевна признаться даже себе, что ею владела боязнь потерять Митю, страх, что Оля отнимет его, как когда-то Катя отняла его отца?
– Ты чего-то не договариваешь, Маша. И мы с тобой кружим вокруг да около, – сказал Егор Петрович. – И ты и я думаем об одном и том же и хорошо знаем, что оба об этом думаем. Нужно взять девочку в дом… И чуть страшновато…
– И даже не чуть, а очень! – возразила Марья Сергеевна. – Ты знаешь, Егор, у вас, у мужчин, несколько беспечное отношение: почему, дескать, не сделать хорошее, если можно.
– А что, разве нельзя? Проживем, прокормим. Что, в школе заволновались?
– Как ты думаешь? И комсомольский комитет, и вся наша учительская. Антонида Ивановна сегодня даже на лестнице ее догнала: «Оля! Приходи ко мне ночевать». И девочки тоже. Только Оля как будто не замечает, как все ей хотят помочь.
– Важно ведь не то, что они хотят, а то, что могут ли. Тут нужен человек, который один… может. Все помогают в чужом горе. А для кого-то это должно быть свое горе.
– Плохо, если Фома Фомич начнет оказывать покровительство.
– Кто это?
– Какой-то родственник. Начальник автобазы. Блатмейстер с широкими связями. Я его один раз видела, и он мне уже успел предложить Митьку устроить в Московский университет. А я пока что должна ему перевести с французского шесть номеров журнала мод. Зачем ему это? Каскад объегориваний! И вот процветает… Озлобится девочка у него.
– А нянька запойная?
– А нянька запойная.
– И ты согласна взять девочку?
– Следовало бы согласиться.
Они помолчали.
– У тебя нет воображения, Егор, – сказала Марья Сергеевна. – Ты не можешь себе представить, что летом я поеду в Симеиз. И они останутся вдвоем в пустой квартире.
Вслушавшись в смысл этих слов, Егор Петрович помедлил, потом повернулся от окна, подошел к Марье Сергеевне.
– Так ты, значит, думаешь, – сказал он, – что в школе неправильно это поймут? Если она будет жить у нас?
– Я не об этом думала. Конечно, могут быть кривотолки. Хотя мне-то доверяют.
– А им?
– Ах, это трудно понять! Нынче принято дружить целыми классами.
– По официальной форме?
– Даже по приглашению директора. По билетам. Класс на класс. С учителями во главе. Поди угадай, кто что по этому поводу подумает. Да не об этом речь!
Егор Петрович снова подошел к окну. Ливень оборвался. Стало слышно, как изливаются из водосточных труб потоки воды.
– Что, Оля хорошо рисует? – спросил Егор Петрович.
– У нее есть способности. И, как все, что дается без труда, она ни в грош не ценит свои успехи.
– И кошек не любит, – улыбнувшись снова, напомнил Егор Петрович.
Стоя у окна, он слушал, как гремит в водосточных трубах вода, когда за спиной у него произошло какое-то движение. Обернулся и увидел в дверях Митю.
РАЗГОВОР С ОТЦОМ
Сколько же верст надо пройти под дождем, чтобы так вымокнуть!
– Мне не холодно. Мне даже жарко, – предупредил Митя тетины возгласы, включая в комнате свет. – Что, ноги мыть?
– А ты сам реши, – глядя из-под очков на полуголого Митю, ответила Марья Сергеевна.
Митя швырнул в угол мокрые ботинки, которые нес, держа за шнурки, развесил на спинках стульев мокрую куртку и рубашку, отжал ладонями волосы, бросил на отца испытующий взгляд и шумно вздохнул. Земля, видно, бежала еще у него под ногами; наследив мокрыми ступнями по всей комнате, он прыгнул на приготовленное отцовское ложе. Егор Петрович движением плеча показал на сердитую тетку, и Митя тотчас сорвался с тахты и кинулся в кухню. Через мгновение он снова показался в комнате и, упершись руками в косяки двери, сказал отцу:
– Мне нужно поговорить с тобой.
Еще минута – и Митя посреди тетиной комнаты, на виду у отца, мыл ноги в тазу. Марья Сергеевна ходила с тряпкой по его следам.
– Ты не грызи его, пожалуйста, – попросил Егор Петрович. – И вообще дай-ка нам, мужчинам, поговорить. А то начнешь ему сейчас про Олега Кошевого доказывать.
Он всегда подтрунивал над несоразмерностью ее примеров с поводами, которые их вызывали.
– А ты сам говори! – сказала Марья Сергеевна и неторопливо удалилась.
Но прежде чем совсем отстраниться от предстоящего разговора, она еще раз показалась за Митиной спиной, когда он босиком вошел в комнату. В руке Марьи Сергеевны была варежка, найденная ею утром под Митиной подушкой.
– Откуда у тебя под подушкой? – спросила она, хорошо зная, чья это варежка.








