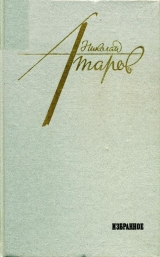
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
Вечером в открытые окна вагона потянуло прохладой от перелесков, и дальние деревни плыли по горизонту, и под песню спортсменов Митя хорошо понимал, что ничего не кончено. Вот скоро он уедет в Москву – зимние вечера в читалках, студенческие сборища в общежитиях, новые знакомства, северные снега. И образ маленькой милой школьницы, оставленной им в родном южном городе, вставал над всем этим, – какая же она будет?
В Калуге была минута, когда ему почудилось, что он увидел Олю. Даже ей никогда не расскажет об этом – стыдно, как если бы вдруг оказалось, что он… верующий. После парада, когда все колонны распались, все спешили обедать, а Митя шел в общежитие со свернутым знаменем на плече. Вдали, в толпе спортсменов, он увидел грузовик. На нем стояла Оля. А еще говорят, что не бывает видений! Она взглянула в его сторону. Митя увидел, как она забарабанила кулаками по крыше шоферской кабины, но грузовик не остановился и ушел в толпе за угол дома. Мите показалось, что Оля в последний раз взглянула в его сторону. И всю дорогу из Калуги домой Оля была с ним, он ее всюду чувствовал рядом с собой. Выходил на незнакомую платформу, бродил возле паровоза, где людей поменьше, и знал: вот она рядом.
Теперь она действительно была рядом, за холмом. Митя разглядывал пустырь, на котором вся почва, казалось, была скальпирована строительством. Ни травинки. Только ручей. Но это не из какого-нибудь родника бежала вода, растекаясь по окаменевшим колеям, – метрax в десяти от того места, где присел Митя, торчал из лужи обыкновенный водопроводный кран. И не водяная колонка, а тонкая, изогнутая крючком труба. Все время подходили рабочие, пили воду, умывались, скользили на мокрых камнях.
Тут на него набрел Чап. Он присел рядом. Он был очень сдержан, отрывисто спрашивал о Калуге, о соревнованиях, о домике Циолковского. Он даже не напомнил о телеграмме. А потом, помолчав, долго рассматривал, как у водопроводного крана все по-разному моются и пьют воду. Он даже нащелкал несколько кадров. Слесарь, сдвинув пилотку на затылок, мыл пыльные уши. Инженер приник к струе, красиво отставив руку с дымящейся папироской. Женщина, умывшись, прикладывала косыночку ко лбу, к подбородку, к вискам, каждый раз зачем-то оглядывая потемневшую косынку, а потом снова повязала ею голову.
Вдруг Митя увидел Олю. Она тоже пришла пить воду. Чап сразу исчез. Почти не дыша, Митя глядел на Олю, сцепив пальцы рук. Потом она стала мыть коленки, терла их ладонями. Не шевелясь, Митя смотрел на Олю, ничего не соображая оттого, что снова может смотреть на нее. Сколько угодно!
– Ольга, – позвал он.
Она обернулась и увидела его.
– Ты давно тут? – спросила она. – Как ты тут появился?
Не зная, что сказать, Митя молчал. Оля забыла вытереть руки, лицо, он сам взял ее платок: так они сблизились – четыре руки вместе.
– Как замечательно… – говорила Оля, не отнимая рук. – Ну, а у тебя-то как? Что у тебя было в Калуге?
– Ты знаешь, мне там спать очень нравилось, – смущенно сказал он.
– Спать?
– Ты снилась.
Ей было так радостно слушать его, и казалось – произойдет что-то невозможное. И, должно быть, от страха, что это невозможное вот-вот начнется, она посмотрела на мокрые камни под ногами и повторила почти неслышно:
– Я снилась?
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
…В жизни Мити Бородина многое переменилось. Он стал московским жителем, – правда, попал не в университет на Ленинских горах, а в Институт геодезии, на картографический факультет. Живет он в общежитии, в Лефортове, под самой крышей. И неюжные, московские снега удивительно мягко, как он совсем не думал, кружат, и кружат, и кружат за окном его комнаты.
Чап сейчас в Киеве.
Спросите его – он и сам не знает, попал ли он в Политехнический. Пока он зачислен на заочный, но домой не вернулся, обзавелся учебниками, полдня проводит в читальне и при этом ждет, что скоро его призовут в армию.
Вся сложность жизни у него в одном – надо получить общежитие. Есть первые успехи – он работает электриком на одной из строек. Но он потерял паспорт, получил временный, трехмесячный, и комендант общежития, от которого зависит прописка, против него «вот такой зуб имеет» (Чап показывает его всем на карандаше или на указательном пальце). Его можно встретить в воскресные дни возле магазина радиотоваров, где всегда толпятся любители. Чап скупает там какие-то детали и, кажется, к Октябрьским празднествам порадует рабочее общежитие открытием радиоузла. Пусть только пропишут наконец. «А впрочем, все это не важно! То, что я узнал насчет тунгусского метеорита и жизни на Марсе и о зеленых насаждениях на Марсе, заставляет меня задуматься, верно ли я нацелился. Вот штука – астроботаника! Это надо обдумать». Так фантазирует Чап в письмах. И на полях, среди химических формул, выведенных зелеными чернилами, не то приписка, не то запись для себя:
«Пришло время применять технику в космическом масштабе – вот о чем думать».
Оля Кежун учится в десятом классе. В школе – в коридорах, на лестнице – полно мальчишек. И Сибилля, пришедшая в первый класс, сидит за партой с одним курносым. Оля увидела ее, заглянув в полуоткрытую дверь.
На зимние каникулы Оля приедет в Москву, сговаривается об этом сразу с двумя вероятными попутчиками Марьей Сергеевной и Брылевым.
Оля часто получает письма – из Киева и из Москвы.
Из Киева приходят удивительные по бестолковости письма, написанные к тому же «убийственным» почерком.
Москва пишет с нежностью, с юмором и с таким изобилием подробностей (заказной бандеролью, на десяти, на двадцати, на двадцати пяти страницах), что ясно чувствуется желание человека не расставаться. Иногда попадаются даже стихи, чего раньше не наблюдалось.
1954
А я люблю лошадь
1Овражная улица такая захолустная, ни разу ее даже не переименовали. Он родился на Овражной. Там росла в щели забора старая липа. Он карабкался по ее дуплистому стволу и сорвался. С тех пор стал себя помнить. Когда же это было?
Во дворе была горка. Зимой он катался с нее на салазках. Тогда еще звали его Сверчком, потом стали звать Редькой. Переименовали. Когда он был Сверчком, он ревел, если было больно, чтобы все слышали. Но как-то упал на обе ладони, ушибся. Вскочил, огляделся, чтобы заплакать, а никого нет. И он не заплакал. Кто пожалеет, если никто не видел? Он старательно слизал с рук кровь и грязь.
Он так давно жил на Овражной, что, если спрашивали: «Сколько тебе лет?» – отвечал, как старик: «Я уж позабыл, когда родился». Этому его научил отец.
Не у всех детей есть отцы и матери, а у него были. Ему приходилось отстаивать самостоятельность. За обедом первый, раньше отца, отодвигал от себя тарелку со щами. Говорил: «Сыт!» – и кулаками изображал на собственном животе, как конь по мосту скачет. Мать догадывалась, что этому его научил летом в деревне дядя Боря.
Свою мать Редька любил и слушался, а чужих матерей презирал. Потому что глупые-бестолковые.
– Гога, ты зачем сел на мокрую землю?
– Нэ-э!
– Не нет, а да. Встань немедленно.
Он презирал таких матерей. Ложился брюхом в траву, расставив локти, как бы подбадривал непослушного Гогу. Показывал пример.
Ему не было полных пяти, а он уже без провожатых ходил в парикмахерскую. Матери некогда. Он садился в кресло, усмирял ноги, чтобы зря не болтались, говорил заученные слова:
– Спереди подровнять, сзади на нет, с боков… – задумывался, припоминая. – С боков…
Знакомый мастер гладил по голове, набрасывал салфетку и туго увязывал вокруг шеи. Он был хороший. Редька доверял ему, знал, что больно не будет. И приятно слушать, как ножницы стрекочут у него в руке.
Не у всех детей есть отцы и матери, и не каждый живет на кладбище, а он жил. Но не сразу оценил эту свою удачу, а когда пошел в школу. Жил-то он, впрочем, не на самом кладбище, а на просторном дворе, мощенном мелким, с голубиное яйцо, булыжником. Тут стояла двухъярусная церковь – «Родион над оврагом». Шумный это был двор, куда со всего города везли покойников. С переносной треногой появлялся фотограф и накрывался черным платком. В ларьке со спиртными напитками тетя Глаша в крахмальном белом халате; ее, смеясь, зовут «наш доктор». За углом конторы мраморных дел мастера – там всегда стучат молотки и много каменной крошки. На этом булыжном дворе, зараставшем летом травой, стоял пятиэтажный дом, где на втором этаже жили Костыри, то есть Редька с родителями. Его еще на свете не было, когда дом надстроили. В трех верхних этажах, правда без лифтов, жили в отдельных квартирах. А нижних два остались от давних времен, и там квартиры коммунальные, тесные. Когда-то весь кладбищенский причт обитал в двухэтажном домишке, от той поры старуха просвирня гнездится в одной квартире, все ее зовут бабой-ягой, ее внук гоняет на мотоцикле, а сама она утром и вечером прогуливает на поводке своего белого шнурового пуделя.
Под старой липой жильцы облюбовали местечко для отдыха. Там забивали «козла» азартные игроки, братья Архиповы – пенсионеры, сторож Ефим и рослый, наголо бритый курильщик – его звали Полковником. Он курил не сигареты, а трофейную трубку. Редька стоял у него за плечом и морщился от табачного дыма. Тут ему все было интересно. Отец не любил игроков и, когда шел мимо к Глашиному ларьку, обзывал их: «Гигиенисты». А они только отмахивались от него, как от дыма.
На зеленых скамейках вдоль боярышника и дощатого забора под вечер усаживались женщины. И судачили.
– Сенька опять загулял, – начинала одна.
– Петька, – поправляла другая.
– Петька? – переспрашивала третья.
Он недолюбливал этих, на скамейках. Мать ни с кем не судачила, ей некогда.
Был еще манеж с песком для маленьких, деревянные лошади на качких полозьях – там вечно эта мошкара, с нею нечего делать. Матери, глядя на них, вздыхали:
– Чьи бы бычки ни бегали, а телятки наши.
У Редьки такая способность: он запоминал все непонятное.
Неторопливый художник являлся по воскресеньям из города. Приходил на целый день, ставил табуретку с холстом на подрамнике и рисовал кладбищенскую церковь. Он был левша. Это Редька запомнил, потому что удивился. И «Родиона над оврагом» с его ржавым ребристым куполом, щелевидными оконцами и красно-кирпичным крыльцом, с глубокой нишей в фасаде, где стояла статуя тезки – святого Родиона, Редька оценил, одобрил всю эту красоту раньше на картинах художника. Небеса там выходили голубее, облака – пышнее, крыльцо – краснее, Родион – белее, трава – зеленее. И по-разному это гляделось, если сперва издали, а потом подойти ближе. Такой уж был художник. Он рисовал на продажу и, надо думать, хорошие деньги загребал на рынке. Об этом тоже болтали женщины:
– Нет таких граблей, чтобы от себя гребли.
Они поджимали рты, Редька и это запомнил. Он легко схватывал чужую походку, гримасы, жесты. Когда повели его в городской сад, всего пять минут постоял спокойно перед раковиной оркестра, а потом смешил отца, показывая, как скрипачи разом махали смычками, а дирижер лениво шевелил палочкой у себя под носом, будто ногти разглядывает.
Весело бывало на дворе в праздничные дни. Дворничиха Рауза вывешивала флаги в подъездах и у ворот. Редька всегда огорчался: почему так скоро снимают и уносят – на третий день? Нескучно бывало и в будни, потому что во второй половине дня из города начинали везти покойников. Сразу двух, а то и трех. Прежде, говорят, доставляли на лошадях, крытых черными попонами с серебром. А теперь – в коммунхозовском автобусе. И такая узкая эта Овражная, что похоронный автобус подавали в ворота осторожно, задним ходом. Начиналась суматоха, как бы развернуться поудобнее. И часто бывало, что кто-нибудь из пассажиров – родственник или сослуживец покойника – выскакивал в нетерпении, бежал без шапки рядом с дверкой, указывал шоферу и вообще суетился. Девочки протягивали георгины скорбящим родственникам. Стороной проходила кучка старших ребят, с ними он не водился, потому что обиделся. Один был скуластый, рябоватый, с бесшабашно-наглым лицом. О нем мать мудрено высказалась: «Этот в поминальный день на отцовской могиле камаринского пляшет». Его почему-то звали Соплей. Однажды Редька вмешался в компанию, а Сопля потянул его за нос и сказал товарищу:
– Ты знаешь, как он глуп? Не понимает, что ты ему говоришь.
Таких слов Редька никому не прощал и стал держаться подальше от «кодлы». Впрочем, он не знал, что они «кодла», пока не услышал разговор на скамейках.
– Эти кодлы по дворам и чердакам хорошо сбились.
Играл духовой оркестр. Уезжали автобусы. Снова на дворе тишина. Только скачет через веревку девочка с третьего этажа, из инженерской семьи. Как-то она приковала к себе его внимание безумной щедростью: всех угощала «Мишками на Севере». Потом он догадался, что она не дурочка – просто ей было нужно, чтобы скорее съели конфеты, потому что собирала серебряные бумажки, в которые они завернуты. Все что-нибудь придумывают для собственного интереса. Два щенка, рыча и тряся ушами, тащат драную кепку под крыльцо. Пробежит по карнизу кошка Машка, прыгнет в форточку. Там, в окне у дворничихи, белка вертится в клетке.
На задах церкви, со стороны алтаря, была прежде сторожка. Говорят, в войну разобрали на дрова, остались отвалы извести и камня. И на той извести из камней вымахнуло несколько осинок. Там собиралась «кодла», главным был Цитрон. Он ходил в желтой каскетке, нарядный – в бриджах и красных туфлях. И никогда не смеялся, а только кисло морщился. Ломаясь, объявлял во всеуслышание:
– Джаз Олстропа под управлением вдовы покойного! Исполняется «Как плакала старая обезьяна»!
И начиналось!
– Кошачий концерт, – говорили женщины на скамейках.
Цитрону ребята подчинялись. Он уже побывал в спецПТУ. Всегда говорил только о себе. Как хорошо было в спецПТУ, какие предпочитает сигареты, чем обольщает девчонок и почему обожает предметы из кожи: тужурку на «молнии», красные остроносые туфли, толстые перчатки с дырочками. Редька знал, откуда у него водятся деньги, хотя об этом Цитрон не рассказывал: просто он заставлял ребят, что помладше, собирать на ипподроме под скамьями пустые бутылки. Бутылок для Цитрона Редька не собирал. Но скоро перестал дичиться. Все началось с того, что Цитрон уголком платка вытолкнул из-под его века жгучую соринку. С Редькой всегда что-нибудь случалось. Он долго крепился, расставив ноги и оттопырив губу.
– Порядок, – сказал Цитрон и показал соринку.
Только-то и всего, а Редька возликовал: порядок! Всегда хочется подчиняться сильному и ловкому, если тот тебя не обижает.
Но был случай, когда он обиделся надолго. Заговорили про его отца, про то, как он перестал быть наездником и сделался сторожем в ипподромных конюшнях. И Сопля придумал, будто отец подговорил конюшенных мальчиков утащить ночью мешок овса, а потом даже не поделился выручкой. И что вообще жулик великий, только и хорош, когда возле тети Глаши постоит.
– Мой отец честный, – сказал Редька.
И тут Цитрон вставил что-то веселое, Редька не понял.
– Левая рука у него честная, он ее прячет за спину, – согласился Цитрон и, помолчав, добавил: – А правая не отказывается.
– А почему левая честная? – простодушно спросил Редька.
Вот когда он их рассмешил!
– Что я тебе говорил? – напомнил Сопля Цитрону.
И тут Редька круто повернулся и пошел из осиновой рощи. Он не так обиделся за отца, как на себя обозлился за то, что Сопля напомнил Цитрону свои слова. Как же сразу не сообразил! Дурак из него пошел… Левая честная, потому что порченая!
Редька любил отца, хотя не так, как мать: за него почти не обижался. Когда отец бывал под хмельком, он становился озорным и веселым.
– Хочешь, подушку проглочу? – разыгрывал он Редьку.
– Не надо, папка, не надо!
– Я возвращу, чего боишься? Сухая будет!
– Мать заругает.
– А я и мать проглочу! – пугал он сына.
Как-то подсадил его на бельевой шкаф, дал держать рюмку с вином, научил, что кричать.
– За милых женщин! – кричал Редька, как научил отец.
И оба от души смеялись. Отец хохотал, задрав кудрявую голову, пока на крик и смех не пришла с кухни мать.
А вообще он был в семье на равных с отцом, часто с его заступничеством выходил сухим из воды. И за это потешал всякими смешными словами, подслушанными во дворе. Отец любил вспоминать, какие призы брал на скачках, пока не сломал руку. Рассказывал и про свою молодую жизнь, каким был лихим табунщиком в алтайском совхозе и как в тайге прямо с коня землянику собирал.
– Врет! Врет твой папаша! И не краснеет! – кричала мать, сияя от радости: она любила, когда отец бывал дома. Редька понимал, что он врет, но ему нравилось.
– Это знаешь когда было? Давно было… – грустно досказывал отец.
– Когда Иисус Христос проигрался в штос?
Мать только руками разводила – откуда что берется у мальчика. Будто на хвосте приносит. Отец смеялся и небольно щелкал по лбу.
Есть много семей, где годами будильник лежит и звонит на животе, на циферблате. Не потому, что так нравится людям, а просто от небрежения, от незаботы. Такая была семья у Редьки. Отец стал работать возчиком при оранжерее, ухаживал за старым мерином. Иногда Редька приносил отцу из дому что-нибудь поесть. И подолгу стоял возле Маркиза, оглядывал с костреца до гривы, удивляясь, что мерин так терпелив, свыкся со всеми неудобствами жизни. К щеке у него прижата за ремнем уздечки истрепанная книга нарядов. Книга закрывает левый глаз. А мерину хоть бы что – терпит.
Поскучав без матери, Редька шел на макаронную фабрику, в столовую, где она работала котломойщицей. На его взгляд, она была лучше всех. Но он, конечно, не догадывался, какая мать была смолоду.
До замужества мать была заводная, форсистая. Тогда еще в городе жил дядя Боря. К нему в гости приходил товарищ, жокей с ипподрома. Красивый, кудрявый, куражный. Говорил: «Я Сергей Есенин, а ты Айседора Дункан!» А ее как раз звали Дуней. Она тоже что-то в ответ подбирала: «Так ты повесься!» У него брови на лоб: «Это зачем же?» – «Раз ты Есенин, а я Дуня…» За шутками они и поженились, – и все было хорошо. А потом – как она полюбила Роденьку! Сверчка своего!
– Мамка, иди скорей, Кудлай дерется больно… – Прибегал босой, и по всхлипываниям она понимала, что плачет давно, с тех пор, как бабка пошла на рынок. И что ему надоело плакать, это уже не плач, а противная икота, неукротимая икотка детской обиды. Она подхватывала его и душила в объятиях, целовала, утешала, как умела. Любила его, потому что маленький, нечего с него требовать. Потом поубавилось этого чувства. (Потом мы так же любим, только все чаще нам начинает казаться, что уже можно с них требовать, чтобы были такими, какими нам желательно их видеть. А они совсем не такие.)
Муж совсем перестал радовать. Но уже поздно что-нибудь менять. Сперва руку повредил, пришлось уйти из наездников. Потом, в сторожах, случилась эта нехорошая история с мешком овса. Выгнали из ипподромных конюшен. Без работы не остался. Даже поближе на работу ходить. А от семьи стал подальше. Он презирал работу возчика, и Дуня просто в отчаяние приходила: заработков не видно.
Был у Сергея Костыри старший брат. Тоже когда-то человек: штабной адъютант, красавец кавалер. Девушки по нем сохли, но он спился после войны. Остаток дней провел в парикмахерской, сидел в синем халате у гардероба. Однажды в женский день явился к Дуне с подснежниками – лицо отечное, хотя хранящее следы прежней красоты, какое-то дамское пестрое кашне вокруг шеи и штатский демисезон с железнодорожными пуговицами. Дуня сразу и не узнала – только по голосу, по манерам. Вот они какие – Костыри.
С больной рукой Сергей маялся: подвижности никакой, упряжь хоть коленкой вздевай, плечо тянет, томит по ночам. Не прощал докторам своей инвалидности.
– Я им этой самой рукой еще кукиш покажу! – грозился Костыря.
Он и прежде любовался собой: какой волевой и упорный! А пришла пора болезни, стал просто хвастать этим свойством характера. А никакой он не волевой и не упорный. Два года грозился показать кукиш хирургу из районной амбулатории. Этот хирург сильно невзлюбил его за то, что больной приходит на прием под хмельком, без почтения к медицине. В то время уверовал бывший наездник в одного знахаря на пасеке, что возле оранжереи, – тот сажал пчел на больную руку. От одной – постепенно до двадцати. Редька с ужасом глядел на голое отцово плечо и на стакан с пчелами. Изжаленный, отец мрачно натягивал рубаху и грозился:
– Этой самой рукой я еще покажу кукиш ихнему Федору Федоровичу.
(Кто знает, в какую минуту взрослеет маленький человек, – когда за нос потянут: «Ты знаешь, как он глуп?»; или когда тетя Глаша перегнется через прилавок, сунет тайком стакан в руку: «Беги, снеси дядькам, скажи – напрокат, они выпьют, а я тебе конфетку дам»; или когда мать, сгоряча, не подумав, проболтается, отчего расчудесного папашу выгнали из ипподромных конюшен. Когда человек взрослеет? Ведь бывает – в одну минуту. Хотя когда в школу пошел – верно, была крупная перемена в жизни.)
И еще – лето в деревне, проведенное у бабушек.
Две бабки у Редьки, обе в соседних деревнях живут: мамина бабка – в Канабеевке, отцова – в Малом Починке. Лучше жилось у маминой бабки, там дядя Боря. Хотя он колхозный счетовод, а очень ловко гнул и сплетал из тонкой проволоки человечков. Не было у него своих детей – тут Редьке определенно повезло. И по грибы до зари, и на реку искупаться, и на лошадь верхом усадить – дядя Боря великий мудрец и большой добряк; как он, смеясь, про себя говорил: «Человек человеку – друг, товарищ и брат». Бабка стала учить молиться. Но Редьке неохота. И запомнилось, как дядя Боря шепнул, чтобы бабка не услышала: «Она тебя научит махать рукой от пустого лба к пустому желудку». И хотя про пустой желудок сказано напрасно, потому что в деревне Редьку кормили до отвала, он запомнил дяди Борины слова. Он запоминал все смешные слова, потому что верил им больше.
В деревне иногда находило на него блаженное состояние покоя, немоты. Не хотелось ничего говорить, никого слушать. Хотелось быть одному со всем, что кругом. Со всем вместе. Смех жеребенка, и поматывание головой его матери Звездочки, запряженной в бочку на двух колесах, и скрип этих колес по мягкой дороге за частоколом сада, и колодезь с высокой водой в березовых листьях, и паровозный свисток, казавшийся прямым, точно луч, и снопики солнечного света сквозь доски нужника на краю огорода – все, все в деревне настраивало его на хорошее. На что хорошее, он и сам не мог бы сказать. С утра до вечера, когда дядя Боря сидел в колхозной конторе и пальцем грозил ему, подбегавшему под открытое окно, он чувствовал, что с дядей Борей не пропадешь.
В последний день на станции, в буфете, пока ждали поезд, Редька обедал, стреляя глазами. От вермишельного пудинга с клубничным сиропом привередливо отказался, потребовал, наоборот, бифштекс с жареным луком. Горчицу ему несли две подавальщицы с разных столов. Дядя Боря в вельветовой куртке сидел напротив, как добрая, умная собака, и смотрел. Любовался напоследок, как он ест.
А потом вот что случилось в городе: он потерял веру в себя.
Он перешел в четвертый класс. Сменилась учительница. В первой четверти нахватал двоек и за глупую выходку попал в стенную газету. Но ведь сам же подвел мать к стенгазете в школьном коридоре, когда ее вызвали к директору!
– Смотри, мама, как меня разрисовали.
Она обомлела. Но и жаль стало – жаль за детскую отвагу. Ведь сам же привел, ткнул пальцем. И какое горькое слово придумал – разрисовали! Другие не так.
Дома все по-прежнему. Только черная кошка Машка раздалась, ожидала котят. У нее почернели губы. Пушистый толстый живот порыжел, стал светлее обугленно-черных лапок.
В квартире, кроме Костырей, жили молчаливая татарка Рауза, подметавшая двор, и Лилька, работавшая штукатуром на заовражной стройке. Так же по вечерам Лилька висит на телефонном шнуре в прихожей. Балагурит, смеется, чуть что: «Я не хромая!..» Как будто надо уверять ухажеров, что у нее обе ноги одинаковые. И так они валом валят. По утрам, прежде чем влезть в замызганную штукатурскую робу, она пальцами взбивает локон; в открытую дверь Редька видит: похоже, будто мать взбивает в тазу мыльную пену.
– Ты чего заглядываешься! Я не хромая!
Эта Лилька с ее перемазанными в извести дружками-штукатурами – предмет особых наблюдений Редьки. Тут какая-то тайна, которой он не понимает. Однажды подслушал на лестнице, как один штукатур говорил другому:
– Иди смелей, я не мешаю. Я с ней не живу. Она меня обслуживает.
В тот день Редька впервые задумался о Лильке. Не нравилось, что висит она на телефонном шнуре весь вечер. И врет. Все врет, врет… Отец тоже врет, но хоть не обманывает. А Лилька врет, чтобы всех обмануть.
В сентябре отца посадили. Просто домой не вернулся с ипподрома. А что натворил, никто толком не знал. Говорили, что схлопотал две недели за мелкое хулиганство. Это было событие, о котором нельзя сказать одним словом: хорошее или плохое. Плохо, что мать изревелась, стала злая, приказала ходить до школы к мерину, кормить, поить, чтобы не издох без отца. А хорошо, что можно под этим предлогом опаздывать на первые уроки, а то и совсем пропускать занятия. Утром он поил из ведра Маркиза. А потом котятам давал молока. С котятами куда веселее; они тыкались в блюдце и отходили, шатаясь от сытости, с черными мордочками, забрызганными молоком, как штукатуры известкой.
И все-таки плохого теперь было больше. Или оно стало заметнее?
Время тянулось медленнее. Жить стало скучнее. Только и радости, что карбидный фонарик купил на сбереженные деньги. В прошлом году другая была жизнь – хорошая. В прошлом году он был записан в два кружка – в шахматы учиться и в кружок кукольного театра. Он сшил и раскрасил куклу. Нина Владимировна хвалила, даже сказала, что кукла получилась с лицом Петра Великого. Хотел еще учиться на балалайке. Потом стал вышивать крестиком – правда, скоро надоело. В прошлом году всем классом ходили в театр. Ему понравилось, бредил во сне после спектакля. Утром насочинил матери такое, что сам смеялся.
– Туман в театре стоял густой-густой. Даже на сцене люди не видели друг друга! Все попростуживались! Актеры отказались играть – такой поднялся кашель!
– Уж не жар ли у тебя самого? – сказала мать.
У него, верно, была сиплота в горле и нос заложен. У него вообще простуженный голос – так сказала Нина Владимировна на уроке пения.
Вот что было в прошлом году.
А тут эти двойки – откуда они набежали? И стенгазета. Новая учительница, Агния Александровна, стала звать не Сверчком, не Редькой, а Родионом. Говорит: как в метрике, так и надо звать. И уже три раза выставляла за дверь.
В сентябре и двор сделался какой-то чужой, горластый. Со всех своих деревень съехались жители дома. Недружно утрясались возле курятников и сараюшек. Стали пропадать по квартирам вещи: кто-то ворует. Вдруг явился милиционер с погонами – инспектор из детской комнаты. В осиннике за церковью подошел к ребятам. У всех сразу уши торчком. Для начала прицепился к Цитрону:
– Как насчет трудоустройства, молодой человек?
Цитрон вежливо ответил, что хочет работать экскурсоводом.
– Кем, спрашиваю?
– Экскурсоводом.
– А ежели в строймонтажное управление?
Цитрон медлил с ответом.
– Вынь руки из карманов, когда старшие с тобой говорят! – вспылил инспектор.
– Кем же там работать? – лениво осведомился Цитрон, руки и не подумал вынуть.
– Пойдешь в бригаду сантехников. Подучат.
– Я не могу физическим трудом заниматься.
– Это почему же?
– Почему?.. Брюки узкие.
Матери всего не скажешь. Первое дело, ей некогда, она еще и ограды на могилках нанимается красить, подрабатывает. А главное – злая стала без отца. Кусачая, как осенняя муха. Редька все вымещал на Женьке. Был во дворе при нем хвостик. Редька приводил его к себе в квартиру и пугал. Нарочно пугал, чтобы тот плакал. Поджег, к примеру, над столом несколько спичек, обугленные, они стали похожи на чертенят.
– Видишь, чертенята.
Он пошевелил их пальцем, нарочно, чтобы танцевали. Когда прибежала за Женькой его мать, тот ревел. А Редька ехидно улыбался. Потом смел угольки в ладонь и бросил в помойное ведро.








