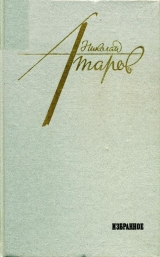
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
Погремушка
1
Начальник пароходства мне отказал: никаких корреспондентов в испытательный рейс на «Ракету» он не пустит. «Ракета» – судно быстроходное, на подводных крыльях, а река сплавная и засоренная.
Скорее всего, в рейс собиралось местное начальство, и ни к чему, значит, пускать посторонних, тем более из молодежной газеты. Но догадка осенила меня позже, за дверью. А ведь редактор верил мне, отпуская, положил руку на плечо:
– Передашь триста строк. Капитаном назначен комсомолец. И фамилия-то занятная: Гарный! Значит, сближай по мысли с эрой космических полетов: дескать, молодежь осваивает самую новейшую технику.
Вот и освоил. Надо было стоять насмерть, связаться по телефону с Москвой, а я развесил уши: уж очень убедительно этот перестраховщик советовал плыть на «Гончарове». Там капитан Воеводин, он шесть лет плавал с Гарным, кого же и послушать, как не старого речника? Там и удобно, покойно, можно занять бывшую каюту Гарного, об этом он лично распорядится. Все правильно: люди лучше расскажут о человеке, чем он сам о себе. Но я-то чувствовал, что сплоховал, и целый день носился по пристани – и все без толку.
Неприятности не приходят в одиночку: старенький «Гончаров», хоть и пускал дымок, не торопился отваливать. Выяснилось, что он вообще ходит вне расписания.
Поздно вечером я разыскал капитана Воеводина и потребовал начать посадку. Зачем держать людей на пристани до рассвета! Подошел еще один пассажир – археолог из Хакасии. Тот намучился ожиданием с малым ребенком, и мы оба, я и археолог, заговорили сразу.
Капитан Воеводин стоял у тележки с газированной водой. Он плеснул далеко от себя из стакана и захрипел измученным голосом:
– Не будет рейса! Пишите в косую линейку! – Он злобно рассмеялся. – Масла нет, механик болен, и недогруз! Мы не так богаты, чтобы гонять «Гончарова» с недогрузом.
Он не слушал возражений, но на сходнях обернулся, будто сейчас только узнал корреспондента, с которым его познакомил начальник пароходства:
– Вас прислали писать о «Ракете»? Туда и валяйте!
Похоже, что капитан говорил не то, что думал. Иначе зачем бы он тут же, минут десять спустя, поймал на набережной порожний грузовик и помчался, как объяснили матросы, на нефтебазу за маслом?
Я пошел предупредить Соню.
Соня сидела в глубине зала и читала книжку.
– Зачем он злобится? – спросила она своим грудным голосом.
– Обидели старика, зол как пес.
– Вы все знаете, – сказала Соня и натянула на плечи пальто.
– А вы не знаете? Не знаете, что капитаном на «Ракету» перевели его помощника с «Гончарова»? А тот помощник, Гарный, моложе Воеводина и по возрасту и по стажу.
– Я уже это слышала. А вас тоже нелегко понять. Приехали писать о Гарном, а добиваетесь каюты на «Гончарове». Логика?
– Так ведь Гарный шесть лет помощничал на «Гончарове»!
– Вы все знаете, – подтвердила Соня и погрузилась в чтение.
Бывают же толстокожие! Ведь потому я и сцепился с Воеводиным, что стыдно набиваться к нему на теплоход, когда задание – писать о Гарном, об этом передовом судоводителе, будь он неладен, об этом молодом и энергичном Гарном, который прямо просится на газетную полосу: даже фамилия у него – Гарный!
По молодости лет, сказать правду, я часто горячусь, бываю груб в командировках и нажимаю на басы – ради поддержания престижа газеты. Но только я один знаю, как на самом деле бываю малодушен и застенчив. И как самолюбив. Тут, может быть, внешность: я небольшого роста, курносый, в очках, да еще с этой дурацкой прядкой, вечно ниспадающей на лоб.
Теперь, в полночь, когда капитан уехал за маслом, на теплоходе начались неспешные приготовления. Я посоветовался с археологом и первым рискнул взойти с чемоданом на палубу. Пока я в полумраке разбирал в коридоре надписи на дверях кают, – где тут жил Гарный? – меня остановила приятная на вид женщина в пуховом платке.
– Вас приказал Василий Фаддеич в каюту к механику Абрикосову. Предупреждаю: он болен. Идите за мной и – потише.
Она без стука отворила дверь. Я различил в полутьме три застеленные байковыми одеялами койки. На четвертой, верхней, под кучей бушлатов кряхтел кто-то невидимый, излучающий жар.
– Вы дверью не обознались? – спросил хриплый голос.
– Не знаю. Сказали – к вам.
– А я тут потею.
– Потейте себе на здоровье.
Я потоптался немного и вышел на палубу. Соня, наверно, в пассажирском салоне, читает книжку, ну и ладно. Матросы выгружали бидоны с маслом. Ветер качал над ними круги света от высоких пристанских фонарей.
А вот и Воеводин. Чем-то странным был занят в эту минуту капитан: он затягивал потуже концы платка на груди девочки лет семи-восьми. Белобрысая, в металлических очках, совсем по виду старушка, она покидала теплоход. Почему в такой поздний час? Сердитая женщина, наверно мать, тащила ее за собой, а капитан задерживал без всякого повода, и девочка тоже не хотела уходить. Я видел, как она, сонная, злая, затопала ножкой.
– Мы скоро увидимся, Фимочка, – утешал ее капитан.
Женщина в пуховом платке стояла поодаль. Она не принимала участия в проводах девочки и как посторонняя наблюдала эту сцену.
Подождав, пока Воеводин останется один, я подошел и, сохраняя спокойствие, потребовал:
– Распорядитесь открыть каюту Гарного.
– Об этой каюте забудьте, – ответил Воеводин.
– Послушайте… – начал было я, но Воеводин не дал закончить.
– Гарный запер каюту! И ключ взял с собой. Ясно? Вопросов нет?
Он просто отбрил меня. Я сдержался. Когда я уже отошел ни с чем, мне послышался укоризненный голос:
– Ну что ты, Вася? Зачем так.
Я обернулся. Это была женщина в пуховом платке.
Странно, мне вдруг стало совершенно понятно душевное состояние раздраженного человека. Воеводин говорил тонким голосом:
– Ты помолчи, не вмешивайся! Ему на «Ракету» – пусть там и сочиняет свои трали-вали!
Когда в припадке злости Воеводин пропел это «трали-вали», его желтые щеки, лохматые брови, складки на лбу – все потянулось в одну точку, к бугорку переносицы, и выражение лица сделалось страдающим. И ясно стало, что человек он неплохой, если ему так трудно злобиться.
Всю ночь доносился в каюту скрип лебедки – видать, капитан боролся с недогрузом. Потом сверху спрыгнул Абрикосов. Обдал меня топочным жаром, вышел, вернулся. Кажется, закурил.
Я не слышал, как отвалил теплоход.
2
Нет ничего лучше после ночной суматохи на берегу сонно жмуриться под монотонное урчание дизелей. Вот так бы плыть и плыть. Я вспомнил, как водил Соню смотреть «Ракету», наш напряженный разговор и как она была неконтактна. Мы познакомились, потому что осенью теплоходы не каждый день уходят в верховья и пассажиры дожидаются на пристани. Когда я повел ее на ближний пирс, к «Ракете», куда валили любопытные из города, она выделялась в толпе. И голосом, грудным, певучим, и ростом, особенно ростом, – она почти на голову выше меня, даже как-то неловко. Очень смуглая, в фестивальном платке и белом свитере с голубыми драконами, в узких черных брюках. Никому до нее не было дела. Все несли разную несусветицу об удивительной посудине, которая плавает на крыльях. А называли ее запросто: «быстроходной». Все судили да рядили, а толком никто ничего не знал.
– Винт делает полторы тысячи оборотов, – пояснял я Соне и всем, кто хотел послушать. Мне захотелось щегольнуть осведомленностью. – Маршрутное плечо шестьсот километров.
– Что это значит – маршрутное плечо? – спросила Соня.
– Ну, это в один конец. А стемнеет, станут на якорь. Это по соображениям безопасности.
– Вот мы и познакомились, – заключила Соня.
Я заметил, что самые обычные слова она произносит вдумчиво – голос такой. На обратном пути не без ехидства подчеркнула:
– Наш «Гончаров».
У пустынного причала дремал старенький, хотя и аккуратный с виду, «Гончаров». Едва дымил двумя струйками.
– До революции «Святой Пантелеймон», – сказал я.
– Вы все знаете, – согласилась Соня и некстати засмеялась.
Сейчас, в каюте, припомнив, как некстати смеялась Соня, я повернулся на другой бок. Досадна была мысль о бесполезности поездки. Зря время пропадает! Со скукой я различил на слух, как старый теплоход, приближаясь к невесть какой захолустной пристани, выключает машины, скрипуче притирается к брандвахте.
Абрикосов не спал. Он ждал, когда корреспондент откроет глаза.
– Что ж на «Ракету» не сели? Или не присоветовали?
– Я с ней пойду в обратный, – закуривая, ответил я. – Там сейчас начальства – выше головы.
Не хотелось вводить посторонних в подробности, и я с ходу придумал благовидный предлог.
Механик лениво хмыкнул. Я взглянул на верхнюю койку – больной блаженствовал под простыней, натянув ее по самый подбородок. Видна была только крупная носатая голова в форменной фуражке с эмблемой на околыше. От нечего делать он охорашивался после ночного лечения. Оттого и фуражка на голове. И обломок зеркальца зажат в ладони.
Захотелось его подразнить.
– Техническая революция на реке, а вы болеете.
– О Гарном будете писать? – осведомился механик.
Я промолчал. В каюте потемнело от придвинувшихся мокрых бревен причала, в открытые иллюминаторы донеслись знакомые пристанские шумы и голоса.
– Все-таки интересно знать, что вы напишете о Борьке, – с игривой интонацией заговорил механик.
– Напишу то, что расскажете. Любит он технику?
– Технику любит, – всерьез подтвердил механик.
– Товарищ неплохой?
– Завинтился наш Гарный со своим назначением, – уклончиво ответил Абрикосов. – Вещички растерял. Вон у меня его книжица заночевала.
– Книжку забыл?
Меня забавляло, что механик лежит под простыней, как какой-нибудь уцененный римлянин времен упадка: фигура нелепая, голова в фуражке с «крабами», поза уморительная, а туда же, еще осуждает Гарного.
– Кабы одну книжку, – пробормотал Абрикосов.
– А что еще? Вчерашний день?
– Еще спиннинг у Воеводина, ключ от каюты забыл в кармане, – дополнил счет Абрикосов.
Он поправил фуражку, плотнее натянув козырек на глаза. Видно было, что для механика главным событием было не появление крылатых конструкций на реке, а уход Борьки Гарного из экипажа.
– С чего это обидели капитана? – Я спросил об этом просто, чтобы подразнить.
– Кто сказал – обидели? Никто никого не обижал.
– Гарный у вас помощничал?
– Шесть лет.
– И он моложе Воеводина? Почему обошли?
В молчании механика сказалась мужская солидарность. Наконец он выдавил хрипловато:
– Есть причина.
Он, видно, не хотел уточнять, а может, мой иронический тон не располагал к откровенности.
Теплоход бурливо отваливал: иллюминаторы впустили в каюту солнце. Все заиграло: граненый стакан, зеркальные дверцы узких шкафов, увешанных бушлатами. Не то от дознания и следствия, которые я учинил, не то от солнечных зайцев ко мне вернулось доброе настроение. Вообще-то я люблю жизнь, очень жаден до людей, и только чтобы никто этого не заметил, дразню их, грублю им. Я все хочу знать, всюду побывать, все увидеть. Это, конечно, от молодости.
– Пойду погляжу на реку.
– А я сосну чуток, – отозвался механик.
Я вышел на пустынную палубу и глянул по сторонам. Небо, горы и вода. Воды было особенно много – густая и плотная, глинисто-зеленая, она была некрасива. Я подумал: как в день сотворения мира. Впрочем, после ночного дождя не хватало утреннего затишья, покоя, будто в природе не кончились подготовительные работы: тени от дыма на воде, и солнце сквозь бегущие облака, и ветряная зыбь.
В прошлом году я побывал в этих краях с выездной редакцией, и первые три-четыре часа вверх по течению реки были мне знакомы. Но теплоход уже оставил позади мельничный комбинат, старинный скит (в советские времена тубсанаторий) и село Буреломное, где я исписал не один блокнот на взрывных участках строительства автодороги. Теперь пошли новые для меня места. Здесь были горы, только горы. Зеленый, в желтых прядях лес. И лиловатый камень. Что-то и впрямь сродни космосу: необитаемость, целина неба, гор и воды.
На палубе – тоже ни души. Я простоял не меньше часа, дождался, когда миновали избенку бакенщика с огородом и волнистой полоской раскорчеванного берега. Не было видно даже тропки, которая вела бы в лес. Бедное хозяйство лепилось к реке. Предзимняя одинокость.
3
– Ну, как почивали?
– Спасибо… Вашими заботами.
Из служебного отсека поднималась знакомая женщина, круглолицая, светловолосая, почти безбровая и не подозревающая о своей миловидности, иначе зачем бы куталась днем и ночью в пуховый платок? Что-то было привлекательно беспорядочное в ее внешности, и я подумал: вот так и бывает – заберешься в заводскую гостиницу или осенней ночью на захолустный пароходишко и не подозреваешь, что тут давным-давно обитает, дожидается, чтобы ты залюбовался ею, очень милая круглолицая дева. Она, конечно, своя, из экипажа. Может быть, буфетчица?
– Скажите, это правда, будто Гарный унес ключ от каюты? – строго спросил я.
– Мой Вася всегда правду говорит.
Ну влип: она капитанша!
– А все-таки ваш Вася того… бальным танцам не обучался.
– Вы про вчерашнее? В нервах он, оттого и грубит. Нехорошо, конечно.
Она повернулась ко мне, защищаясь от ветра, и вблизи не показалась такой уж молодой. Но была какая-то прелесть в ее румяных круглых щеках и безбровости, и веяло ленцой от всех ее округлых движений.
– А я подумал, что вы капитанская дочка.
– Я и есть капитанская дочка, – она засмеялась, – только не Васина. Вася в помощниках ходил, когда мы поженились. Отец меня выдал за него, как раньше поповну за дьякона выдавали.
Она говорила о себе простодушно и открыто. Мне легко с такими, захотелось болтать, расспрашивать.
– И всегда вы с мужем плаваете?
– Что ж дома-то сидеть.
– И не скучно?
– Любопытный вы народ – корреспонденты! За Васей присматривать надо. Мой Вася…
И она стала рассказывать, какой он отличный судоводитель, может и за механика оставаться по совмещению, а другие не могут.
– Другие не могут, – поддразнил я, – а на «Ракету» все-таки Гарного назначили.
– А я и довольна, что Вася не ушел на крылатого. Тут завидовать нечему. – Она спохватилась: – Только не думайте, что я вмешиваюсь в Васины дела.
Она отошла поправить скамью, отъехавшую от стены. Ветер оголил ее круглые колени – что-то было в ее фигуре по-домашнему располагающее к себе. А когда вернулась и стала рядом со мной, выпутывая приставшие к пуховому платку пряди соломенных волос, ее румяное лицо опять удивило меня нежностью, милой открытостью.
– Ветер, – сказал я. – Озябнете.
– А я не зябну, – возразила она и рассмеялась. – Мой Вася говорит: ты, Наталья Ивановна, как гагара.
Она так лениво куталась в платок, облегавший плечи и белые локотки, что мне хотелось дождаться, когда она разомкнет полные руки и сладко потянется, как бы со сна.
– Ваш муж в бутылку полез. Это бывает.
– Вы так считаете? – Голос ее сломался от обиды.
– Так бывает. С этими перемещениями.
– Ничего вы не понимаете! Ему жаль, что Фимочку увели.
– Фимочку?
– Да, девочку.
Я знал, что теперь, когда сорвалось с языка, ей придется досказывать. Но она молчала. И я заметил болезненную бледность, вдруг разлившуюся по ее лицу.
– Тошно мне, муторно. А то бы я вам все рассказала.
– Нездоровится?
– Да, что-то нехорошо. Простите меня.
– На волне укачались?
Она с трудом улыбнулась глупому предположению.
– Фимочка… Вам уж бог знает что представилось, – сказала она, со вздохом превозмогая дурноту. – Это дочка Гарного, вы ее видели ночью.
Она держалась за поручни, бледная, вдруг ослабевшая и жалкая. Слабо улыбнулась, тронула на груди нитку голубых бус. А я подумал угрюмо: ну чего стоишь на ветру, лясы точишь с незнакомым мужчиной? Делать, что ли, нечего? Подтянуться бы тебе, капитанская дочка. Я и сам не знал, с чего я озлился, не оттого же, что все тут болтают не то, что нужно. Только что я усвоил тот ценный факт, что Гарный вещички растерял второпях. Отлично. Теперь выясняется, что Воеводин привязался к его дочке, а ее увели с теплохода.
– Хотите – поищу врача? – предложил я.
– Пожалуйста. Только не говорите Василию Фаддеичу.
А ведь врач был на теплоходе – Соня! Ну, положим, без пяти минут врач: медичка с пятого курса. Она из военной семьи. Отца перевели по службе в эти края. Соня летом тоже перекантовалась в местный медицинский. Как я забыл о ней…
В пассажирском салоне под тихое бормотанье репродуктора женщины причесывались лениво, как моются кошки. Шум разговоров, щелканье орешков, треск яичной скорлупы, разбиваемой о железные уголки чемоданов. Пили чай на всех скамьях. От густого пара запотевали стекла окон. И пока я пробирался к Соне, я видел первозданные лиловатые скалы – они равномерно плыли с обеих сторон в запотевших стеклах.
Соня читала книжку.
– Выйдем на палубу.
– Здравствуйте, – ответила Соня и самим звуком голоса усадила меня рядом с собой.
По-моему, она только делала вид, что читает, а сама прислушивалась к разговорам. Кивнула в сторону сержантов-пограничников. Те, видно, знатно выспались: чубы торчали из-под козырьков, и чайник шел по рукам над эмалированными кружками. Белобрысая девчонка кокетничала с сержантами. Они смеялись над ее выговором, будто бы не местным, а она скалила белые зубы и доказывала, что родилась в здешних местах, а это родители ее белорусы.
Соня показала пальцем налево – там другой разговор. Старик в клетчатой кепке, в дождевике, в сапогах-бахилах, глухо кашляя, рассказывал о какой-то неудобной для жизни таежной местности:
– Туда, на озера, заезд больно тяжкий. Тайга там, скажу, палкой не проткнуть! Очень сырое место. – Он закашлялся. – Людей там мокрец задавляет… – Кашляя, он как будто собирался с мыслями. – Я там двадцать лет выжил.
– Ну ладно, идемте, – потянул я Соню за руку. И вытащил ее на палубу, на ветер. – Я вам предсказывал – будет у вас работа. Вы единственный врач на борту.
– Шутите. Врач…
– Умеете первую помощь оказать?
– Что, например?
– Ну, вздумает тонуть какая-нибудь несчастная.
– Смогу.
– И врачебную тайну умеете хранить?
– Когда тонут, нет никакой врачебной тайны. Я с интересом поглядел на нее.
– Так вот что, вас ищет одна пациентка.
– Вы все знаете. Мы уже с ней поговорили.
Сказать по правде, я удивился.
– Жена капитана?
– Да. И я прописала ей салол с белладонной.
– Когда это было?
– Рано утром. Вы еще спали.
– Салол с белладонной? Какого же ей еще врача надо?
– А ведь я без диплома. Как думаете, догонит нас нынче «Ракета»?
Чувствовалось, что ей чем-то неприятен этот разговор.
Старик в клетчатой кепке протопал сапогами-бахилами у нас за спиной.
– Вот и таежный дядька тем же хворает, – заметила Соня. – Все время бегает. А хорошо, когда торопиться не надо. Красота какая!
Большая лесистая гора поворачивала могучее течение реки влево. По лысому гребню горы деревья, гнутые ветрами, росли вдалеке друг от друга, поодиночке.
– Будто бабы на богомолье пошли, – сказала Соня. – А что, не похоже?
– Не знаю. Я люблю современный пейзаж, без богомолья.
– Вы очень современный, – сказала Соня. – А жена ваша небось знает про вас совсем другое, не похожее.
Как она догадалась? Шурка всегда смеется, что я не люблю ходить в магазин с авоськой, стесняюсь, запихиваю покупки по карманам, в портфель.
– А какие игрушки вы больше всего любили в детстве? – вдруг спросила Соня.
– Грузовики. Заводные.
– А я – погремушку.
Соня глянула на меня, и я почувствовал ее глупое торжество просто оттого, что она невольно смотрела на меня сверху вниз.
– Так и играла с ней, пока в школу не пошла. Нравилось, что гремит.
Она несла какую-то несусветицу, чувствуя, что я ее не слушаю. А я в самом деле не слушал ее с той минуты, как она сказала про салол с белладонной. Вдруг ясно вспомнилась дурнота и бледность Натальи Ивановны и мой дурацкий вопрос – не укачало ли женщину, с детства живущую на воде.
– Слушайте, я ведь все знаю. Ну, что с женой капитана? – спросил я. – Выкладывайте.
И странно, Соня послушно ответила:
– Трехмесячная беременность.
– Правильно, – быстро подтвердил я и добавил: – А врачебной тайны я бы вам не доверил.
4
В теплоходной команде о Гарном отзывались скупо. Товарищем он, кажется, был неважным. В красный уголок на беседу с корреспондентом в назначенный час заглянула только уборщица. И то по ошибке. Матросы, будто сговорившись, спрашивали, почему я не дождался «Ракеты». По поводу Гарного пересмеивались, и я, не настаивая, сам больше рассказывал – о «Ракете», о ее ходовых данных. Все же до обеда блокнот заполнился кое-какими сведениями.
Из всего экипажа я выделил нового помощника капитана – веселого очкастого горожанина, с ходу заговорившего со мной по-английски, – Федю Федюнина. Он ничего не мог сказать о Гарном, зато сам хотел пойти к нему дублером. О себе он был невысокого мнения: очень рассеянный, и при этом убедительно доказывал, какая быстрая реакция нужна при вождении «Ракеты» – иной раз имеют значение доли секунды. На полуслове оборвав разговор, Федюнин убежал в рубку. Я вернулся в каюту и попробовал писать. Что, если репортаж о капитане с «Ракеты» начать с борта бывшего «Святого Пантелеймона»? Я грыз карандаш, писал и снова грыз карандаш и был рассеян, потому что чем-то приковала к себе, не отпускала эта «гагара», Васина жена.
– Заскрипел перышком! – уже без церемоний сказал, входя в каюту, Абрикосов. Он отлежался за ночь и был вполне здоров.
Обедали вдвоем в каюте. Конопатый поваренок принес по котелку гречневой каши с утонувшими в ней котлетами.
Я сунулся было расплатиться – Абрикосов перехватил мою руку. Он сидел в желто-розовой ковбойке и синей блузе и разливал по граненым стаканчикам.
– Зачем ее пьют? – спросил, поморщась. – Выпьем, писатель! Ты, вижу, парень свойский. Писатели все хороши, пока их не читаешь.
– Зачем ее пьют? – сказал я, издали подбираясь к полезному разговору. – А может, из-за несчастной любви?
Абрикосов, уже поднеся к губам стаканчик, метнул взглядом в собеседника:
– Вполне возможно. Бывайте!
Я тоже немножко выпил. С терпеливой улыбкой я слушал болтовню механика, тот почему-то рассказывал не о Гарном, а все больше о Воеводине. Василий Фаддеич, оказывается, лет десять назад овдовел и женился во второй раз. И все ждет детей. Шесть лет таскает Наталью Ивановну за собой, а так и остались бездетной парой. Вот ведь судьба: создан для семейного счастья, а быть отцом ему не положено. И, как на грех, восьмиквартирный щитовой дом речников в затоне полон детворы. У штурмана Соловцева, того, что ходит на трофейной барже, семья из восьми душ. У боцмана Ангелова – пятеро. Зимой, пока ремонт на теплоходе, Воеводин не расстается с ребятами. Сам как маленький! По воскресеньям люди банятся или едут в город по магазинам, в кино. А Воеводин с мальчишками выходит на снеговую кручу, за ними целый поезд салазок. И посмотришь – такие глаза у него молодые. Не узнать угрюмого человека. Очень любит детей. А в особенности он прилепился к младшей дочке Гарного – Фимочке, даже летом с ней не хочет расставаться.
Абрикосов стал рассказывать о том, как третий год по весне Наталья Ивановна запирает квартиру и спускается с горы к причалу, ведя за руку чужую дочку. А перед тем, в последнюю ночь перед началом навигации, Василий Фаддеич выдерживал баталию в семье Гарного. Чувствовалось, что помощник не очень-то жаждал брать обузу в плавание, а его жена деликатничала – к чему Наташе такая докука. Потом нехотя уступали. И счастливый Воеводин обзаводился семейными радостями и заботами. Девочка только спала в отцовской каюте, а весь день держалась поближе к дяде Васе. Как говорили матросы, паслась в рубке.
Без стука вошла Наталья Ивановна. В руках у нее был заношенный белый китель. Она смутилась, увидев меня, как будто забыла, что сама привела сюда ночью.
– Увидишь Гарного, отдай ему китель, забыл впопыхах, – пролепетала она механику и бросила китель, как грязное белье, на дно шкафа.
Я вскочил, чтобы усадить женщину, но она отмахнулась от приглашения. Она была чем-то смущена. И на редкость нелюбезным показался мне хозяин каюты. Он внимательно наливал по третьей, откликнулся неторопливо, с каким-то недобрым, даже злорадным вывертом:
– Что, простирнуть не успела? Поди догони. Теперь он – крылатый!
– Глупости болтаешь, Артемий Иванович, какой он крылатый? Не при людях слушать.
Наталью Ивановну враз точно смыло от этого разговора.
– Это, знаете ли, конспект, а если рассказывать все в подробностях… – проговорил Абрикосов, глядя на закрытую дверь и шмыгая своим крупным носом.
Я понимал, что тому охота рассказывать в подробностях, а слушать мне почему-то не хотелось. Затянутый шелком ящик репродуктора гремел хоровыми песнями. Он висел над ухом Абрикосова и мешал говорить. Механик стукнул по нему кулаком – бесполезно. А между тем, выпив, он оживился и, видимо, хотел высказать свой взгляд и на Гарного.
– Вешать таких не жалко! Китель нестираный, а зачем он ему сейчас? Не нужен. Сами говорите, там начальства на «Ракете» – дай боже. Там нужен свежеоткрахмаленный китель.
Еще не кончили обедать, а я уже много узнал о Гарном, по крайней мере, больше, чем мне рассказали все остальные. Самолюбив, тщеславен, удачлив. Год назад вляпался в нехорошую историю с буфетчицей, с Нюркой…
Я хмуро «накапливал информацию» – меня прописали на жительство к Абрикосову, и я обречен узнавать понемногу всякие душевные смуты старого теплохода на пустынной реке.
– Мы-то старались уладить, перевели Нюрку на самоходку, – рассказывал Абрикосов, – а ее муж, кавказец, азиат, как пришел, как стал палить! Прямо в рубке! Зайдете, увидите: след остался в притолоке. Хотя и забелили, а все вроде шрама. Позор! Гарного, конечно, исключать из партии, комиссии нагрянули. Воеводин заступился. Прямо горой встал, вызволил из беды.
– Не слишком принципиально, – вставил я.
– Он же детей жалеючи! – заорал механик. – Выбирай: петуха за шкоду наказывать либо детей спасать? Он же сам в детдоме воспитывался! Сравняли – Василия Фаддеича с Гарным. То ж крылатый, как есть крылатый: петух зеленоглазый! У него своих четверо, ему не жалко. Он на этот счет простой.
Женский хор в репродукторе гремел и рвался. Абрикосов еще раз свирепо стукнул по ящику. И пение оборвалось. Но не от удара, а так, минутой позже, само по себе.
– Знаете, я вам доложу. – Абрикосов понизил голос – Жену с собой возить в экипаже – это тоже надо придумать! Он в рубке, она в юбке…
– Интересно, интересно.
– Что тут интересного? – огрызнулся Абрикосов.
– Избыточная информация. Короче, сплетня.
– А ведь китель-то нестираный! – засмеялся механик.
– Ну и что из того?
– А уж бывало такое с Гарным! Бывало! Нюрка-буфетчица тоже как-то перестала стирать ему кителя. Знакомо!
– Ну вас к черту с вашими намеками! – крикнул я и, хлопнув дверью, вышел.
Быстро проходя по коридору, я невольно заглянул в капитанскую каюту. Там было прибрано и уютно. Гитара на стене. Гора подушек и думка на них – луковкой. Воеводин писал, в очках, в майке, отодвинув крахмальную скатерть с уголка стола, – вид совсем не капитанский. Напротив, под гитарой, пригорюнившись, сидела Наталья Ивановна.
Весь остаток дня я провел в салоне. Три пограничника, пересмеиваясь, молодцевато оправляли складки гимнастерок под ремнями и снимали с околышей фуражек каждую пылинку. Я уже знал, что они родом сибиряки и возвращаются по домам после демобилизации. Худая старуха в отороченной мехом кацавейке прижимала ногами спортивный рюкзак, и про нее было известно, что она едет погостить к дочке, без малого за шесть тысяч километров. Рабочие из леспромхоза стояли в очереди за пивом, про их леспромхоз кто-то выразился, что его территория размером с целую Францию. Старик в клетчатой кепке часто толкался в дверь, бежал в туалет, и пограничники каждый раз отмечали: «Дед выходит на орбиту!»
Соня читала книжку.
Раза два-три сквозь стекла окна ее вызывала выйти на палубу Наталья Ивановна. Они толковали о чем-то, гуляя по палубным дорожкам. Соня возвращалась, возбужденная переговорами, но напускала таинственность, по-детски хитрила, чтобы отвести мое внимание, расспрашивала про «Ракету», про быстроходку.
В прошлую поездку я навидался контрастов – начать с того, что на порожистой реке местные охотники усадили меня в древнюю долбленую лодку с моторчиком на корме, и она летела над водой, как глиссер. Потом я увидел электронные машины, их перевозили через реку на допотопном пароме. А в староверской избе я задымил папиросой, и меня выгнали во двор; ночью я потянул носом: чем-то пахнет в горнице, даже не табаком, а как будто ацетоном, и не ошибся – тут, оказывается, недавно побывали кинооператоры. Вот и теперь: этот наш «Святой Пантелеймон» и быстроходна.
– А детство будет у этих машин? – вдруг спросила Соня.
– У каких?
– У электронных. Я где-то читала, что скоро изобретут думающие машины. А будет у них детство?
– Не знаю.
– Вы все знаете.
И опять я не мог понять, всерьез ли она или дразнит. И странно было, что эта свободная, скучающая девушка мне ни на что не нужна, а чужая жена волнует. Я злился ужасно, а отчего – и сам не знал. Нет, все-таки догадывался.
За окнами смеркалось. Красная глина береговых обрывов становилась зеленовато-сизой. Холодной дымкой занавешивало дальние ярусы скалистых гор. А иногда и ближний, береговой ярус заслонял пограничник, гулявший по палубной дорожке за окном.
Когда долго сидишь в переполненном пассажирском салоне, в людском скопище, с тобой происходят непонятные вещи, нелюдимые берега подкрадываются вплотную к окнам салона и обступают тебя. И уже больше не отстают. И музыка – никому она не мешает… Я подумал о Соне: удивительно, как она иногда прозорлива в своей болтовне, – может быть, это и называется интуицией? Я вспомнил, как она сказала про погремушку. Вчера вечером я связался по телефону с Москвой: предупредить Шурку об отплытии. Было хорошо слышно за тысячи километров, даже лучше, чем бывает, когда звонишь домой из редакции. Вдруг что-то затарахтело, зашуршало в трубке, я не понял. А Шурка засмеялась в Москве и сказала: «Твой Алеха спит. А это я тебе погремушкой, чтобы ты нас не забывал…»
Я вздрогнул, очнулся. Я, кажется, сплю? В сумерках не я один – все уснули в салоне. Скрипнула пружинная дверь. Старик в кепке вошел и темной ладонью потер лицо.
5
В седьмом часу теплоход подошел к пристани, и пассажиры, соскучась по твердой земле, потянулись к сходням. Под вечер заметно посвежело, но мне не хотелось лишний раз заходить в каюту за плащом.
Ларьки на берегу были закрыты за поздним часом. Толпу пассажиров несло вдоль загородок на дальнюю полянку, там торговали шанежками, орехами и мальчишки водили на цепочке крупного медвежонка.
Облокотясь на поручни, Наталья Ивановна глядела на берег. Рядом с ней стояла Соня, рослая, в брюках и свитере с драконами. Увидев меня, она отошла и через минуту появилась с другой стороны, от кормы.








