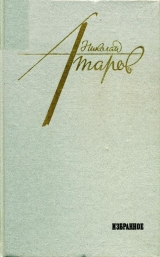
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 37 страниц)
«Не беспокойся – воду на даче я спустил».
Предельное выражение одиночества – акт самоубийства. Можно быть очень нужным кому-то и чувствовать себя одиноким. Когда не греет чужое чувство. Как страшны эти испорченные лампочки! На свет не может ответить светом. На тепло – отозваться теплом. И знает, что надо бы, и хочет даже, – а не может. Самое страшное одиночество.
Но есть вынужденное одиночество, одиночество сложившейся так жизни. Одиночество матери, потерявшей ребенка, вдовы… Что-то, чаще всего война, порвало все связующие нити. И вот нет энергии душевной снова плести паутину, нет даже отчаяния. Доживаем…
И это очень страшно. Человек пропадает попусту. Нельзя, чтобы человек истрачивался попусту.
Старушечье одиночество… Курьерша у нас в газете с папироской в зубах, актриса в прошлом, – безответные, жалкие глаза, седые лохмы над когда-то миловидным лицом, спущенные петли на чулках, зябнущие даже летом руки, засунутые в длинные рукава, один в другой.
Есть одиночество самца-хищника и одиночество кошки, у которой отняли новорожденных котят.
Большие города и электрический свет созданы для классического одиночества, великолепно описанного в западной литературе, в живописи немцев. Немцы – мастера одиночества. Сентиментальность и одиночество. Тут есть какая-то взаимосвязь, ведь немцы так хорошо умеют живописать одиночество. ‹…›
Пушкинская проза – целые числа. Дробей нет. Только изредка деталь, с которой можно не соглашаться, но которая покоряет тебя, как превосходство впечатления художника над твоим собственным – «мгла мутная и желтоватая» в «Метели», или то, что гробовщик не испытывал радости, перебираясь на новоселье в лучший дом.
Пушкинский план дальний, далеко обозримый. Это не позднейшая литература с ее подлезанием под человека: там все будет близко, почти вплотную. А у Пушкина – ясно видно, но издали, широко и просторно. Забота о целом преобладает над подробностями. Ничто не заслоняет целого.
Никто в русской литературе не ставил перед собой так много задач, как Пушкин. Он не ставил только одной – не искал себя, как будто еще в семнадцать лет знал, что напишет и «Медного всадника», и «Каменного гостя», и «Египетские ночи»…
В Египте тень нечто материальное. Но это надо объяснить подробнее. В каждой стране, на каждой широте планеты бывают тени, подвижные, уходящие с места, как дождевая вода в канаве. В Египте тоже есть такие тени – от повозок, верблюдов, вагонов. Но есть там тени, знающие свое вековое место, оседлые тени, как водоем. Вот дом и его четыре стены – только одна из них в знойный час дня дает неизменную тень – к ней можно прижаться, полежать у нее, искупаться в ее блаженной, доброй прохладе. И если дом старинный, тень от него благословляли тысячи живых существ. В других странах это не имеет значения, не помнится, даже не замечается. Подумаешь, стена отбросила тень в полдень. Или на том повороте тень от скалы… Но в Египте есть такие блаженные уголки земли, и как же к ним привыкают люди, ослы, куры… И сколько поколений людей, ослов, кур купались в тени такого уголка. В других краях – укрытье от дождя, пещерка. Тут – тень.
Теперь я не люблю большие числа. В раннем детстве я с гордостью повторял, что в России 162 миллиона человек жителей. Эта первая большая цифра вошла в мою жизнь. А теперь я не знаю, что важнее – какое-нибудь большое число или вздох спящего ребенка. Его обида – я что-то передвинул в его «биби́ках» не так, как он хотел бы.
Хожу как депутат райсовета в комиссию по делам несовершеннолетних, еще чаще – в детские комнаты милиции. Содрогаюсь. Алкоголизм. Безотцовщина. Тупизна педагогов. Безответственность матерей… Воспитываю себя – ведь, скажем, врачам не кажется, что все человечество поражено болезнями? Готовлю статью «Не хочу быть маленьким». Это не панацея. Так, болеутоляющее, вроде анальгинчика.
Что значит «не хочет быть маленьким» – это значит, растет в нем потребность самостоятельности суждений, вкусов, поступков. Сперва это невинное нежелание, чтобы его «тянули за руку». Затем подражание старшим – старшему брату, соседу, самому здоровенному парню в классе. Физическая сила еще имеет предпочтение перед нравственной, и хочется подражать не самому честному, а самому сильному.
Как к этому относиться?
Многие просто не внимают, не замечают этой тяги к самостоятельности. Другие видят в этом только отрицательное: не суйся, ишь, куда заносит… А я вот сниму с тебя штаны… Унизить. Поставить на место. Утвердить свой собственный взрослый произвол там, где уже растет личность. Тут работает извечный инстинкт подавления чужой воли. Так удобнее, проще, легче, особенно усталому человеку.
И только немногие умеют поощрять и направлять в нужную сторону этот поиск самостоятельности. Те, кто это понимают, догоняют душевный возраст ребенка, идут с ним на равных.
Не могу забыть, как формировали лагерь для трудновоспитуемых ребят. Исполком помышлял только о том, чтобы очистить улицы и дворы от неудобных подростков. Благоустройство города.
И вот секретарь райкома комсомола признается, что затрудняется составить списки трудных ребят. А вдруг отправишь туда хороших?
Все это неверно в своей основе. Выгоняем из Москвы, как мусор. Гуманизм для миллионов нельзя противопоставлять гуманизму для ста.
Короленко, рассказывая о битве Гоголя с московской цензурой перед публикацией «Мертвых душ», говорил о том, что цензура в целом чаще бывает глупее своего среднего состава, «потому что ее действия определяют не аргументы самых умных из подчиненных, а страх перед самыми глупыми из власть имущих».
Страх – тормоз? Но он не уживается со здравым смыслом и не диктует целесообразные действия. Он порождает истерию или апатию. А иногда страх создает цепочку преступлений, чтобы убрать свидетелей.
Мечников: «Страх – психический рудимент человека».
Дети играли в гостей. Хозяйка испекла пирог и оладьи из песочка. Кипятила чай в игрушечном самоваре, рассаживала гостей, угощала их. На столике деревянные стаканчики и вода в водочной бутылке с наклейкой. Чокались, с гримасой выпивали и крякали. Крякали со знанием дела.
Пятьсот лет назад Себастьян Брант написал «Корабль дураков». Там есть такие стишки:
Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому.
Родители пример ему…
Пропись? Но многие не только забывают, не подозревают о ней. ‹…›
Обрывки разговоров в комиссии по делам несовершеннолетних:
– Даю слово в субботу и в воскресенье принадлежать сыну.
– Подберите статью, а я все равно работать не буду.
– Он делается как ненормальный. Дрожит. Мы все уходим из комнаты.
– А я пошла в «Детский мир» и купила куклу.
Жалуются – молодежь не доверяет. Это неудивительно, потому что одни отлиты в незыблемую форму, другие обрублены, обтесаны, отшлифованы обстоятельствами. Только куски руды человеческой, которые не лезут ни в какие формы, – вот они-то и содержат человеческое в глазах молодежи.
Эх, кабы догадались не столько запрещать плохое, сколько развивать хорошее!
Поучение раздражает, если за ним компромисс и ханжество. Между ханжеством взрослых и их цинизмом дети всегда выбирают последнее.
Что понимает главарь уголовной банды в психологии подростка? Он возвышает его до себя.
Прежде всего – уважение к личности человека, то есть к его способности думать и понимать по-своему, чувствовать не по шаблону. Все, что воспитывает сегодня самоуважение человека, восстанавливает ленинские нормы. Недостаток самосознания и отсюда неуважение к себе, к ближним – это, увы, наша русская исконная черта.
Валентин Овечкин доказал нам, что обо всем можно писать правду, самую горькую правду, лишь бы была единственно верная, партийная позиция.
Светлов говорил о «Гренаде» – «казалось бы, пустяковая вывеска на гостинице, но она заслонила все, что я сделал».
Прихотливы пути преемственности. Был Энгельгардт с «Письмами о деревне», и были деревенские очерки Дороша. Был гончаровский «Фрегат «Паллада», и была «Ледовая книга» Юхана Смуула.
Мы перестали удивляться нашему безмерному богатству, тому, как богата Россия очерковой литературой. Десятилетиями живут имена Ларисы Рейснер, Фурманова, Тихонова, с его очерками о Средней Азии. В юбилейном ряду возникает Соколов-Микитов… Совсем забыт Лев Пасынков, один из самых достоверных историков современности, с его «Тайпой», с его путешествиями по Дагестану, Азербайджану, по казахским степям, по рыбацким станицам Приазовья. Пищей лишь для историков литературы стало «Путешествие в страну Памир» Бориса Лапина, писателя, сблизившего новизну советской окраины с романтическим материалом и лаконичным стилем в духе Мериме.
Гениальный «Почемучка» Бориса Житкова – образец публицистики для детей – не издается уже много-много лет. И даже военная публицистика Твардовского как-то выключена из литературного потока. ‹…›
Глухо прошли очерки Гранина «Неожиданное утро», недостаточно оценена многолетняя работа Павла Подлящука над портретами Инессы Арманд, Штернберга, Стасовой. Что мы знаем об этих книгах? Входит ли публицистика А. Аграновского, Радова, Розова в сознание читателя как моральный эталон? Критика молчит, проходит мимо. Публицист не в равном положении с прозаиком, поэтом, драматургом.
В отношениях публициста с читателем главное не то, что говорит публицист. Дело в том, какон говорит. И веришь ли ты ему.
Но ведь это заповедь умного педагога. И это сближает меня с моей сегодняшней темой – воспитание молодежи, подростка, ребенка. Публицистам надо читать Макаренко и Корчака, чтобы лучше понимать свою связь с читателем.
Самое главное – уважение к читателю. Не пичкать его сообщениями о трехголовых телятах, как ребенка сладостями.
Уважать ребенка – это значит уважать его неуемную жажду задавать вопросы, жажду знания, его возрастную способность понимать больше, чем мы подозреваем. И читатель – хотя и не может думать, как министр, но может по-своему вникать в самые серьезные проблемы министра. Умный читатель, желающий активной жизни в обществе, ищущий добрых путей, – это наш удивительный факт, чудесный факт. Мы сами его взрастили, мы, то есть партия, пресса, мы – значит, и публицистика.
Уважать читателя – это значит апеллировать к его способности думать, размышлять, додумывать. Разжевать – значит ничего не дать для ума. Но и общие категории – без участия личного, души публициста, – тоже бесплодны. И то и другое бесплодно. Преподавание закона божьего никого не сделало религиозным!
Считаю, что идейность надо уметь соединить с уважением к читателю. Читатель помнит. Значит, идейность надо соединить с уважением к памяти читателя, к его историческому чувству и опыту. Не должно быть никакого лицемерия, никакого втирания очков, никакой конъюнктуры в разговоре с читателем.
Наше коммунистическое проникновение в духовную жизнь народа может быть сегодня успешным только при признании за народом, за его интеллигенцией, за каждым читателем газеты – неоспоримого, как хлеб, естественного, как хлеб, – права думать, права быть самим собой. Надо исключить все виды абстракций – и этого можно достичь только в форме диалога, спора, дискуссии, открытого проявления противоположных мнений. Противоположных – не значит крайних, взаимоисключающих, абсолютных. Крайности – что греха таить, – эта наша еще не искорененная черта!
Нам надо уметь сидеть за одним столом с читателем. И если читатель имеет свой жизненный опыт – грош цена нашей беседе с ним, если мы свой жизненный опыт не смогли передать ему…
Всякая публицистика несет в себе лирического героя – он проявляется в интонациях, в примерах из жизни, в негодовании и в любви, в нежности – в выходе из мундира. Хочешь заразить читателя своей убежденностью – сними мундир. ‹…›
Исторический факт, какое-нибудь стихийное событие, как огненный болид, летит через тысячу лет, меняя с веками в глазах поколений температуру и окраску. То возбуждает желание воспроизвести весь его ужас – как «Последний день Помпеи» Брюллова. А потом через столетие вызывает уже под рубрикой «юмор» улыбку читателя: «Последний день Помпеи считать нерабочим днем». Попробуйте совладать с такой игрой человеческой мысли или хотя бы предвидеть беспечную шутку будущего юмориста по поводу Хиросимы.
Сюжет для романа. Американская история краснорожего деревенского парня, с тяжелыми руками, каштановым чубом, спадающим на лоб, – хозяина штата Вилли Старка, составившая основу романа Уоррена «Вся королевская рать», невольно вспомнилась после дня, проведенного в роскошном кабинете одного большого начальника, некоего автомобильного Наполеона – человека одновременно очень умного и глупого: не умеющего скрывать самовлюбленность и тщеславие.
Все наше время встало в его рассказе о себе. Обычно мы видим крупные планы сегодняшних событий, – а тут самые дальние, вся панорама.
Кременчугское детство. Год 1919 – еврейская семья. Старший, Яшка, и три девочки – сестры. В одну неделю вымерли от тифа отец, мать и две сестры. (Как у меня в Ростове – дедушка, бабушка и тетка.) Младшую, двухлетнюю, взяли родственники. Мальчишку взял комиссар эвакогоспиталя и привязался к нему. Яшке 14 лет. Ему выдали рубашку бязевую, крапленную черными узелками, и кальсоны. Вдвоем с солдатом он выменял белье на молоко и буханку. Но потом сам признался комиссару. Тот приказал: «Снять ремень и на пять суток». Вечером, однако, пришел, отчитал солдата и взял мальчишку. А через год – еще раз – шинель выдали. Не по росту, рукава ниже колен. Он ругался с каптером, и снова выручил комиссар. Комиссара назначили во внутренние войска ВЧК. И Яшку – туда же. Потом поездка в Москву и новое назначение комиссара. Он сказал: «Пора проститься – я человек военный». Они пошли в райком комсомола. Шла мобилизация 2000 членов партии и 1000 комсомольцев в советские учреждения. Так создавался наш аппарат. Очередь армейской молодежи. Перед Яшкой стоял верзила. Комиссия. Спрашивают верзилу: «Что умеешь?» – «Я кавалерист». – «Пошлем на финансовую работу». Яшку туда же. Ему шестнадцать лет и два месяца. Годичные курсы, общежитие на Малой Бронной. Верзилу – в Клин. Яшку – в Коломну. Тогда сменяли разверстку на продналог, и Яков стал налоговым инспектором, обошел все деревни под Коломной.
Это был год, когда Осинский выступил со статьей об автомобилизации. О русской телеге и американских автомобилях. Яшка потянулся туда: это будущее страны и его тоже. Уездный Автодор раздобыл допотопные машины. Яшка был уже зампред уисполкома. Авторитетный секретарь укома не отпускал с работы. Но когда стали делить губернию на город и область, он все-таки попал в Москву, на Красную Пресню.
Судьба людей инициативы – вот корневая тема нашего героя. Это советский деятель с задатками американского бизнесмена. ‹…›
…В романе Яшка мог бы явиться добровольным энтузиастом пожарного дела. Там, в Коломне, есть колокольня Дмитрия Донского. Председатель уисполкома мерил по ее высоте длину струи пожарной кишки и никак не мог достать. А наш герой достал.
За всю свою карьеру автомобильного Наполеона он больше всего боялся проговориться, что все-то он позаимствовал в Париже, в Лондоне, в Риме. Он привозил готовые идеи: тягач отдельно от кузова, централизованные перевозки, борьба с порожняком, контейнеры для кирпича, бетонное кольцо, многоэтажный офис, – все это он предлагал и реализовывал в Москве.
И вдруг дочь собралась за перуанца…
Вся трудная карьера пойдет под откос. Дочь надо отговорить, застращать, заласкать, оттащить, менять квартиру… Как сделать, чтобы перуанец не вернулся в Москву? Он и не вернулся. Отец и мать радовались, когда дочь пошла по рукам. Один не женится, так другой… Растет внук. Для дочери он Мануэло. Для обожающих дедушки и бабушки – Миня…
Внук мой Егорушка с бабушкой рассматривает картинки на диване.
– А вот это король, – говорит бабушка, – видишь, какая на нем красивая бархатная мантия. На белом меху с черными хвостиками. Ты хотел бы быть королем?
– Нет.
– А кем же?
– Королевой.
– Почему?
– У нее цветок.
Егорушка играет на диване. Перекладывает подушки с места на место. Возит по ковру автомобильчики. Показывает на диван.
– А вот там живет волчица Люся. Маленькая еще. Щенок. Дед волк возит ее на машине в школу, и она там играет с другими зверями.
– Ты думаешь, в школе играют?
– А что? Они же звери. Им хорошо.
«Уважайте детское незнание» – эти слова Корчака запомнились мне на всю жизнь.
Детство… Потому ли мы его любим, порой возвращаемся к нему в памяти, что оно н а ш е, или потому, что оно – детство? Думаю, никто не миновал однажды задуматься над первым воспоминанием. Непонятно, как именно оно сохранилось, не стерлось на ленте всех впечатлений жизни. Почему именно оно неизгладимо?.. Я один стою на балконе. Железные перила балконной решетки выше меня, я держусь за них, оглядываюсь… И вдруг за стеклянной дверью – собачья морда. Откуда он взялся на втором этаже, этот страшный пес? Он встал на задние лапы, чтобы видеть меня, и смотрит. И мне деваться некуда. Хорошо, что дверь плотно закрыта.
И – больше ничего. Чем это кончилось, выручил ли меня кто, да и было ли это на самом деле? Может быть, только во сне?
В детстве я часто видел во сне одну и ту же сцену, и тоже страшную. Я сижу в углу темного помещения. Надо мной в зарешеченном отверстии – улица. Я даже могу безошибочно указать, в каком месте Александровского проспекта эта подземная яма за решеткой для стока дождевой воды. Я прижался к стене, в полутьме передо мной в углу напротив на корточках сидит чеченец в бешмете и точит о брусок кинжал. Я знаю: это Арбек Зелим-хан, наводящий ужас на весь город своими набегами на конях, с наибами, налетающий внезапно, под вечер на какой-нибудь ювелирный магазин, с выстрелами, с цокотом взмыленных коней, неизвестно как примчавших их с гор, с гортанными устрашающими криками на непонятном мне языке: «Волла-ги! Волла-ги!» Несколько минут, когда улицы разом пустеют, слышен только грохот опускаемых железных жалюзи в магазинах. И все кончено. Люди выходят на улицу, в пустой след скачет конная полиция…
Зелим-хан точит кинжал и поглядывает на меня, маленького. Но он добрый. Как он может быть добрым, знаменитый на всю округу неуловимый разбойник? В том-то и дело, что он добрый – я, маленький, это хорошо знаю, и все же страшно, что мы вдвоем, что лезвие кинжала отражает свет, проникающий сверху через сточную решетку, и ясно слышен звук стали о брусок.
Про пса в балконной двери – думаю, это была правда, это случилось со мной года в три-четыре. В какой извилине мозга застряла навсегда эта картина? Но Зелим-хан в сточной яме на проспекте – это сон. Тут никакого сомнения. Он повторялся много раз, особенно после того, как мне щупали лоб и ставили градусник.
Раздумывая над впечатлениями раннего детства, я пришел к выводу, что память во многих случаях в т о р и ч н а: расскажут тебе какую-то историю, не с тобой случившуюся, и ты присваиваешь ее, неосознанно делаешь собственным впечатлением. Может быть, и пес в стекле балконной двери рассказан был мне нянькой или сестрами? Но даже страшное это воспоминание стало любимым – оттого ли, что мое, или оттого, что оно первое. Я могу рассказать о нем, и теперь-то уж я один могу о нем рассказать. Это все равно, как целое человечество строит свою историю из самых смутных легенд, отчего они, однако, не становятся менее достоверными. Об этом еще Плутарх написал.
Конечно, я не такой уж систематический читатель, чтобы запросто, на ходу строки цитировать – Плутарха, Геродота, Ветхий завет… Целую жизнь, ведя записные книжки, делая заметки на клочках бумаги, я записывал и чью-то поразившую меня мысль, стараясь ее закавычить…
Плутарх писал так:
«Подобно тому как историки в описаниях земли все ускользающее от их знаний оттесняют к самым краям карты, помечая на полях: «Далее безводные пески и дикие звери», или «Болота Мрака», или «Скифские морозы», или «Ледовитое море», точно так же и я, Сосий Синецион, в работе над сравнительными жизнеописаниями, пройдя через времена, доступные основательному изучению и служащие предметом для истории, занятой подлинными событиями, могу о поре более древней сказать: «Далее чудеса и трагедии, раздолье для поэтов и мифографов, где нет места достоверности и точности».
Воспользуюсь же и я этим мудрым построением Плутарха и о своем детстве и поре еще более древней, чем детство, начну с рассказов, услышанных от моей няни, рязанской крестьянки Глафиры Севастьяновны.
В полку у отца, в его девятой роте, умирал в лазарете молодой солдатик. Не раз я слышал краем уха за обедом, как отец рассказывал о нем матери. Видно, славный был человек: и солдаты и командиры его жалели. По просьбе умирающего отец хотел выписать из далекой рязанской деревушки тетю Глашу, Глафиру Севастьяновну – дальнюю родственницу умирающего. Мир оказался тесен: тетя Глаша жила теперь совсем недалеко от нас – в Ростове, у моей бабушки. Бабушка отпустила ее во Владикавказ. Она попросилась к нам в квартиру.
– Я, барыня, простирну, окна вымою. Я руками этими отплачу. Мамаша ваша мною довольны были.
Все она поспевала сделать – ив лазарет – пот со лба ясыньки своего платочком смахнуть, – и у нас по хозяйству, и на кухне помочь кухарке. А вскоре она уже взялась поправить курятник и в дом с черного крыльца входила веселая, как будто только и дожидалась этой мужской работы. «Это не позор, когда за поясом топор».
На меня ее складная речь действовала гипнотически, я смотрел ей в глаза, слушал с открытым ртом. Она не понимала, отчего я к ней прилепился, но чувствовала мое любопытство и внимание. Наверное, это ей нравилось.
Она становилась моей няней еще не взятая, не принятая в эту должность. Понравилась она и родителям. Мать полюбила ее за расторопность. Отец, думаю, за нравственную прямоту и душевную открытость. Она отважно бралась судить о каждом, кто встречался ей на жизненном пути. Она возненавидела унтера, приставленного отцом наблюдать за умирающим солдатиком. Отец выдавал ему кое-какую мелочь из своего кошелька на табачок умирающему: «все равно один конец, пусть хоть порадуется». Унтер зажимал эти деньги, а Глафире Севастьяновне строго внушал:
– Не положено больному. Доктора осерчают.
Тетя Глаша жаловалась штабс-капитану:
– Дасть, жди, как же! У него скорее зубы кровью нальются.
Видно, там, в родной рязанской деревне – хоть шаром покати, совсем обнищало хозяйство в семье Глафиры Севастьяновны. Рассказывая о семейной беде разорения, она не мочила платок слезами, не утирала мясистого носа, а как бы шила, вышивала узоры цветистых слов, и я, шалея, вслушивался в ее сказочную речь. Кроме бабушки ростовской, ничьей речи в нашей семье я не различал, а дед – тот был как истукан за своим письменным столом. Глафира говорила: «А всего-то у нас было с десяток кур-несушек и три головы гуся. Бедно, бедно, ясынька ты мой».
Вечером, присев в детской комнате, она дожидалась, пока я не угомонюсь со своими солдатиками, не присяду перед ней на полу, упершись коленями в толстые ее ноги, и в спокойном, неторопливом кружении вязальных спиц начинала рассказывать. Это не были сказки, сказок я в детстве не слышал, это были воспоминания о жизни, она рассказывала были про свою семью, про пагубы пьянства, убившего мужа, про свою деревню и про ту деревню, что на другой стороне речки, где люди поминали черта, а у них-то черта никто не поминал.
– А я уже чертыхнулся, Глаша. Наш Казбек все норовит укусить меня, тащит перчатку с руки.
– Ну-ну, чертыхнись, он-то, собака, поймет. Вот человек во хмелю, кабацкий житель, он не поймет. Я не чертыхалась, ни-ни. Я своему Тихону говаривала ласково: «Ты, если бык, пей ведро. Если комар – пей наперсток. Только не будь, сукин сын, пьяницей». Нет, не послушался.
Была она неграмотна, но рассказчица, каких я больше не слышал, не встречал. «Может, неграмотно скажу…», оговаривалась она, начиная свою быль. И вот какая странность: крестьянка из-под Рязани первая познакомила меня с историей моего рода. Не папа, не мама, не даже бабушка, а Глафира Севастьяновна. Памятливая, с живым воображением, она, сама того не ведая, видно, наслушалась от бабушки за годы жизни у нее в доме об ужасных картинах повального истребления армян в Османской империи. Думаю, если бы жила она во время татарских набегов на Русь, московских пожаров и всех страстей господних, пережитых русскими людьми еще до Куликовской битвы, она и тогда не смогла бы живописнее и ярче восстановить в своей памяти невиданные ею зверства турецких башибузуков, их глумление над несчастными гяурами, над их церквами, женами и детьми.
– …А он встал, как бес над тучей, – говорила она о каком-то курдском шейхе и о несчастной бабушке моей бабушки. – Злой, как подагра, – находила она нужное слово.
От нее услышал я впервые о том, как Атабек, – «Твой прадед, ясынька» – не пожелал быть утоплен в реке, или задушен дымом в запертом саманнике, или сброшен со скалы, или заколот ножом мясника. Не пожелал и отуречиться, принять ислам… Я прервал ее:
– Няня, почему Тотырбек со двора Ахундовых назвал меня армяшкой?
Няня оставляла мой вопрос без ответа и, помолчав, продолжала свой рассказ о том, как, собрав два десятка молодцов, с их женами и старыми матерями, Атабек вывел ночью за околицу села всю свою семью и пошел через горы, в Россию.
– А перед тем долго он шептался ночами со своей Екатериной, народившей ему семь дочерей и одного сына, о том, как им уйти невредимыми – пойти ли через пустыню Месопотамскую на юг, но куда? – к тем же аспидам-янычарам за реки Тигр и Евфрат? Или через снеговые перевалы уйти к русским, в большую Россию, она-то ведь нашей, христианской веры…
Я снова перебивал невпопад:
– А почему было у них семь дочек? Трудно ведь было Атабеку уводить их из Турции?
– О том не знаю, ясынька ты мой. Скажу так: на семи сидела, девять вывела…
Я не понимал смысла этой поговорки, но успокаивался, глаза мои закрывались, няня уносила меня в кровать.
А когда, растревоженный ее страшными рассказами об исходе прадеда моего Атабека из Турции, я начинал щекотать ее, желая, конечно, отвлечься от страшного, она все понимала, догадывалась, обнимала за плечо и говорила успокоительно:
– Эх, ясынька ты мой, это еще что, были тужики, а будут пыжики…
Какие грядущие беды предвидела эта неграмотная крестьянка в начале века?
Можно ли воспитать интернационалиста, если он глух к близким связям? В чем суть национализма? Как во всяком социальном зле, в нем нет ничего позитивного, лишь отрицание, ограничение.
Гуляю по Парижу. Хиппи. Табунки праздношатающихся. Однообразно-разнообразно изукрашенные. Заросшие парни – это, видимо, обет естественности? Шкуры, балахоны, девчонки – в мужских сорочках. Сапоги и голые ляжки. А рядом – брюки, юбки до земли. Черные пальто в теплый день. ‹…›
Нет хулиганства, нет даже скабрезности. Нет драк.
Они не спортивны. Они вечерние и ночные. Они уличные. Они бродяги – не любят прописки на земле…
Я встретил его летним утром в Плесе на пристани. Конец сороковых годов… Странники перевелись на Руси, а этот был настоящий странник – какой-то мятый, притертый к своим башмакам, покривившимся от долгого хождения, с узелком за плечами и полевой сумкой на боку. Как будто он задержался на этой земле не то после демобилизации, не то после раскулачивания. Он легко поднимался по мощеному въезду на набережную и быстрым взглядом зыркнул на меня, явно желая зацепиться за разговор.
Через полчаса он уже угощал меня из своего узелка, сидя перед аккуратно расстеленной салфеточкой, и водочка булькала аккуратно из левой руки о трех пальцах. Смахивая тополиный пух, садившийся на горбушку хлеба, он утолял мое любопытство охотливым рассказом о себе.
– Я Россию всю обошел. Ищу, а чего мне надобно, не знаю. По правде, милок, сказать, я кулачок, с тридцатого года – раскулаченный. Россию обошел и в лаптях, и в сапогах, а бывало, и на велосипеде. На фронте, правда, не задерживался. Стянешь с чьих-то мерзлых ног сапоги, прикроешь карточку ему ледяными портянками, и – ходу. Не задерживался. У меня такое правило. Хотя еще и до войны было сказано: «Нет таких крепостей…» Он ухмыльнулся с прищуром, протянул мне жестяную кружку, тоненько вопросил:
– Даже спирта?
Я не понял.
– Ты о чем?
– Говорят, даже спирта нет таких кре́постей.
– В Плесе зачем высадился? – спросил я. – С «Памяти Покровского»?
– Это точно. Покровский, слыхать, ученый историк был. Всю Россию мозгами исходил, а я ногами.
– Бродяга, значит?
– Точно. Как нас расщепили в тридцатом, из нашего классу бродяги пошли двух категориев – лодыри, лоботрясы, другие – любопытствующие. Я Россию по второму кругу обхожу. Вот и в Плесе по второму разу пришлось. Тут на горке выдающая церковь стоит. С Волги видная. Вокруг ее дорожки – вроде тропочек для пешеходного хождения. В прошлом веке монахи выкладывали, по узору расписывали, камушек к камушку… Камушки с голубиное яйцо, до того мелкие. Крепко сбиты – ни выбоинки, ни ямочки, как ковровые каемочки. Пойду, загляну еще раз.
Дней через пять увидел я странника на набережной. Он выгружал с грузовика битый камень с той стороны Волги. Здесь шло большое строительство. Вдоль многих километров поднимали берег реки и на новом уровне выстраивали булыжную мостовую.
Странник узнал меня. Подошел, снял миткалевую рукавицу, пожал руку.
– Пристроился. Вот, гляди, какой камень везут с каменоломни. Огромаднейший. Грузовик привез с пристани – мы уложим. Следующий подойдет, все разворочает – начинай сначала! Торопимся – к годовщине поспеть. План делаем с тоннажу, баржи берут с тоннажу, норовят покрупнее булыжники закинуть, и транспорт – с тоннажу. А мы закладываем. Где оно, голубиное яичко?
Он глянул на меня, и я впервые заметил, что взгляд у него мечтательный и тоскливый.
…И вот замелькал Каир, – старый, кирпичный Каир – пальмы, плоские кровли, белье, сохнущее на балконах, нищие, мусорщики с метлами, великолепные кадиллаки, под акацией в узком переулке шарманщик со своим музыкальным ящиком, подводы на колесах с толстой резиной, на них густо насевшие крестьяне, едущие на базар, красные фески, коршуны, парящие в небе, серый глинистый Каир с арабской вязью вывесок на стенах, мальчишки, детвора босая, – множество гаменов Каира.
И вот уже прохладный венценосный Нил, со своими мостами, великолепная архитектура щегольских отелей, роскошь современных железобетонных, стеклянных особняков. Вполне романтичные фелюги сворачивают свои паруса и наклоняют тугие мачты под мостами.
На минарете запел муэдзин. Голос его могуче разносился над узкими улочками базара. Это был голос, записанный на пленку, механический голос – о боже, мечеть в глубине Африки уже радиофицирована! Но я не заметил какого-нибудь позыва к вечерней молитве среди продавцов и покупателей на базаре. Не приступал к намазу лудильщик в своей конуре, заставленной и увешанной тазами, чанами и кастрюлями, – где на полу произрастали пятеро его детишек; продавец сигарет, расставлявший свой товар в плоской нише стены дома; галантерейщик, молодые коробейники, торговавшие, всяк за свою цену, разнообразно-однообразными мужскими носками; продавцы апельсинов, бананов, арбузов. На этом базаре все было вперемешку. И никто не молился. Только одинокий старый сапожник в глубине своей мастерской занял позицию, как бывает у нас на физкультминутке, и стал сгибать и выпрямлять свой хилый стан. Только он откликнулся на вечернем базаре на голос веры, да еще один продавец за прилавком: он как будто собирал рассыпанные булавки…








