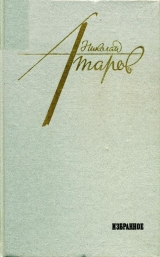
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц)
В другой раз Самсон сбежал по лестнице и припал ухом к железным перилам. Он что-то бормотал по-своему и тихо стонал, вслушиваясь в гул железа, пока тот же Афанасьев, затаивший свою обиду, со всего размаху не ударил по перилам большой щербатой дразнилкой. Удар был страшен, старик схватился за ухо.
– Что, кажись, вскипело? Дошло? – спросил горновой, отбросив дразнилку подальше, и, как в тот раз, ушел из цеха.
Никто на заводе не знал, что судьба Болоева решена – решена в Свердловске, когда утром в тресте снова были получены тревожные телефонограммы. Третий день там все были готовы к отъезду на аварийный завод: и главный инженер треста, и главный механик, и главный бухгалтер, и начтехснаб, и даже личная стенографистка управляющего. А за минуту до отхода вечернего поезда в трестовском салон-вагоне появился еще один человек, который за два часа до того и не думал, что ему придется ехать. Это был мастер электролитного завода Ярошевский.
– Пожарный выезд, а что прикажете? – сказал ему управляющий в своем купе.
Ярошевский промолчал. Он был высокий и стройный, хотя и немолодой человек с землисто-серым лицом горбуна, и в этом несоответствии моложавой фигуры и остроугольного, с высокими надбровными дугами, болезненного лица было что-то внушавшее к нему уважение управляющего – независимо от высокой квалификации мастера. Он предложил ему рюмку коньяка. Они выпили за этот «пожарный выезд».
– Кстати, вы недавно женились?
– Это совсем некстати. Я женился две недели назад, – ответил Ярошевский.
Он мог бы добавить, что недавно перевел розлив вайербасов с двух ручьев на четыре и сейчас пробовал вести ремонт печей на ходу без предварительного охлаждения. Но он ничего такого не стал говорить, только заметил, что Самсон Болоев работал мастером еще у концессионеров, таких, как он, пожалуй, нет на всем Урале.
– Остались еще.
И управляющий напомнил о Феруччо. Вдвоем они посмеялись над тем, как недавно, по слухам, на свадьбе Болоева старик итальянец напился до положения риз.
Ярошевскому досталось место в купе главного механика. Там не горел верхний плафон и не было настольной лампы, а с потолка по-походному, как в палатке, свисала на белом шнуре лампочка, подтянутая веревкой к багажной сетке. И когда механик полез на верхнюю полку, он, видно, отвязал веревку, чтобы лампочка спустилась ниже и не мешала ему спать. Теперь она качалась у колен Ярошевского, он прилег на нижнюю полку, не раздеваясь, и ему было приятно, что в ногах так светло, и не хотелось думать ни о взбалмошном старике Болоеве, ни о том, что он и сам когда-нибудь постареет, только бы обойтись на прощание без баламутства.
На рассвете поезд прибыл в Меднорудянск. Салон-вагон отцепили, поставили в тупик за обогатительной фабрикой. Вытираясь мохнатым полотенцем в тамбуре, управляющий показал Ярошевскому в окно. В рассветной синеве видны были заваленные снегом моторы, пружины шахтных клетей.
– Вот эпиграф к заводу, – сказал управляющий.
Когда в цеховом палисаднике, где снег был черен от угольной пыли, Болоев увидел кучку людей в одинаковых мерлушковых шапках и нагольных тулупах, с портфелями, он безошибочно решил: приехали из треста. Управляющий узнал его издали, окликнул и сделал руками приветственное движение, как будто взболтал перед носом зажатое в ладонях яйцо. Болоев подошел, большой и несуразный, с заиндевевшими сизыми бровями, в папахе и распахнутой на груди телогрейке, в фиолетовом кашне, обмотавшем кадыкастую шею.
– Как живете, Самсон Георгиевич?
Болоев поздоровался со всеми – с каждым за руку. Заставил ждать с ответом.
– Старый стал. Здесь местность сырая, тайга, не то что на Кавказе, а я тут сижу, себя не жалею.
Он лукавил, а не жаловался, заглядывая в глаза начальства, и управляющий сразу понял, таким он и в Свердловске представлял этот неприятный разговор.
– А может, пора отдохнуть? – сухо заметил управляющий.
И Болоев, возражая, двинулся за ним впереди всей группы, возвышаясь над всеми своей заломленной на затылок папахой.
– Мне такое внимание оказали. Цауштн, из Москвы мебель прислали: шведскую кровать, тахту, гардероб с зеркалом. Телефон поставили. Еще немножко – ордер дадут на квартиру. Разве я могу уйти? Все думают – Болоев старый стал. Цауштн, Болоев еще постоит на работе.
– Сейчас придем к вам, – отпустил его управляющий.
Болоев пошел в цех. Пока шел дальним путем, через задние ворота, он вспоминал детство и отчий дом, древний, столетний дом, похожий и на многовековое дерево, и на средневековую крепость; к нему вела непроезжая кривая улочка, и было непонятно, где кончалась улочка, где начинался этот дом с его подлестничными хлевами, лестницами с трудными ступенями, внизу каменными, выше деревянными, с его балконами, пропахшими овечьим сыром и козлятиной – там у плиты век вековала бабушка, – с его большой залой с очагом посередине, где бегает босоногая детвора, его братья и сестры, и есть столбы, за которыми прячется от гостей самая маленькая сестренка. И он вспомнил, как она бегала от столба к материнскому подолу и кивком курчавой головки отказывалась от предложенного кусочка сахара, как, осмелев, заводила со взрослым гостем из соседнего аула игру в прятки. Он не хотел думать, зачем приехал управляющий со всей толпой портфельщиков и что за неприятности подстерегают его сегодня.
Между тем в цехе происходило нечто необычайное, люди теснились у конверторов. Там Багашвили разлил медь с третьего и сейчас брал последнюю пробу на первом. Искра сыпалась с лопатки – мелкая, как дождик; и пламя было белое, что означало, что в конверторе осталась одна медь. Болоев издали увидел и Пушкарева-старшего, который принимал смену у Багашвили, он пришел с братом, потому что сегодня решалось что-то важное, с утра цех дал тридцать тонн, и еще впереди предстояли плавки.
Пушкарев-младший сидел на перевернутом вверх дном ковше и заговаривал с каждым, кто шел мимо него. И Болоеву крикнул:
– Готово, я бы пускал!
Самсон сел рядом. Если бы не приезжие из Свердловска, он мог бы вернуться домой, отдохнуть. Но после того как он растерялся в разговоре с управляющим, говорил лишнее, жаловался на свои годы, он чувствовал, что не уйдет из цеха, пока не даст выход мутному озорству, которое всегда овладевало им, когда кто-то не хотел считаться с его силой и могуществом.
– Значит, готова медь? – спросил он Пушкарева. – А почем ты знаешь?
– Я знаю по пламени.
– По пламени, – передразнил Болоев. – А если по шадринским очкам?
– Нет, это, может, вы умеете, Самсон Георгиевич.
Болоев искал кого-то взглядом в толпе.
– Эй, Тамбовцев! Иди сюда!
Фурмовщик подошел к мастеру.
– Что ты ползешь, как беременная вошь?
Пушкарев рассмеялся, он любил, когда старший мастер говорил прибаутками.
– Сымай с левой ноги валенок!
Что это значит? Все услышали, оглянулись. Парторг подходил от разливочной машины. Шадрин, сунув руки в карманы спецовки, выжидательно следил за Болоевым. Тот подскочил к Тамбовцеву, толкнул его двумя руками в грудь так, что тот сел на кучу ковшевого настыля. И в ту же минуту валенок с левой ноги фурмовщика оказался в высоко поднятой руке старика. Потом Самсон подошел к лестнице, внимательно, как бы прицениваясь на базаре, оглядел валенок, вытянул левую руку в сторону конвертора, а правой рукой с валенком замахнулся.
– Что делаешь, окаянная сила! – только и успел крикнуть Шадрин.
И валенок полетел в конвертор.
Болоев посмотрел сквозь растопыренные пальцы на пламя, бушевавшее в горловине, отряхнул руки – одну о другую. Спокойно сказал:
– Можно пускать. Я думаю – поспела.
Молоденькая секретарша, сидевшая у двери директорского кабинета, знала Власюгу и Тамбовцева и приветливо улыбнулась. Втроем, в сопровождении секретарши, они вошли в кабинет, директор сказал Валечке:
– Вас ищет коммерческий.
Он всегда шутил с ней. Она поняла, что он просит выйти и никого не впускать..
– Насчет болоевской землянки пришли, – сказал Власюга, когда секретарша затворила дверь. – Сносить пора.
Власюга чувствовал неудобство от своего вмешательства, он первый догадался сообщить директору по телефону о нехороших делах в цехе и попросил принять. Директор взглянул на него внимательно.
– Не рано ли сносить?
Он знал от самого Болоева, что нет на заводе человека, более неприятного старшему мастеру, чем этот горновой с чужого участка – коренастый парень с блестящими глазами на загорело-закопченном лице. С некоторых пор Власюга стал захаживать к фурмовщикам. Это началось еще до того, как он выдал двадцать ковшей штейна за смену и стал знаменит. Фурмовщики были деревенские, не больно-то грамотные ребята. Но был среди них способный паренек, недавно демобилизованный. С ним-то чаще всего и заговаривал горновой Власюга. Он неторопливо поднимался по лестнице на площадку, подходил к фурмовщикам с беззаботным видом, и, хотя он был всего только горновой, слушали его со вниманием – он дело объяснял ребятам.
Болоев прогонял Власюгу, горновой весело скалил зубы, не спеша удалялся и снова приходил, когда выпадало время. Однажды старший мастер взял его за шиворот и крепко прижал.
– Агитируешь?
Он потряс его и рассмеялся, как сильный над слабым. И вдруг Власюга ударил его по руке.
– Ну, ты… не забывай, где живешь, – сказал он, повернулся и пошел к себе, на отражательные.
Странные отношения установились между ними, они как бы условились не замечать друг друга, но так как горновой не прекратил дружбы с фурмовщиками и вскоре к тому же сделался знаменит, то всем стало ясно, что в споре Болоева с Власюгой победил горновой.
– Ярошевского привезли из Свердловска. Если на гастроли – на кой он нам? Багашвили потянет? – откровенно говорил директор, советуясь с рабочими, все больше поглядывая на Власюгу.
Они беседовали с полчаса. Фурмовщики повели разговор начистоту: Болоева пора убрать из цеха, Багашвили может его заменить. Болоеву нужно дать отдохнуть. И Шадрин того же мнения.
– Что же дочка его сплоховала? – спросил директор. – Разве так приходят и уходят? Хоть он и старый, нехорошо.
– Что ж хорошего, – согласился Власюга и быстро глянул на директора, не зная, осведомлен ли он во всех обстоятельствах. – Она ж от другого понесла, а тот подлец. Она стыд свой хотела схоронить, да неловко ей стало, застеснялась Самсона Георгиевича.
– Говорят, полюбил он ее.
– Да, как ни странно.
– Мазепа… – прохрипел Тамбовцев.
Ему выдали новые валенки, а он все никак не мог унять свою злобу на Болоева, зря его прихватил Власюга в директорский кабинет.
Точно пьяный, вернулся Болоев из цеха к себе в землянку. Даже к козе не заглянул – повалился на тахту, уснул. В окнах догорал желтый закат, когда проснулся от смутного беспокойства. Клавки не было, не вернется – он знал. Его другое занимало: уедет ли Ярошевский?
Он подошел к столу, почесал небритую шею, нерешительно снял трубку телефона. Ему не нужно было, чтоб его узнали.
– Дайте вагон управляющего, – сказал он.
И вышло так, что, когда из вагона ответили, он заговорил плаксивым, бабьим голосом.
В вагоне был тот час, деливший рабочий день пополам, когда все разбрелись отдыхать, и только управляющий не спал, составлял телеграммы в Москву, обдумывал план вечернего разговора с обкомом. Телефон стоял перед ним на столике, и он снял трубку. Сперва он подумал постучать в стенку, позвать Ярошевского, потом догадался, что говорит мужчина.
– Нет, Самсон Георгиевич, задержится у вас Ярошевский, – вежливо сказал управляющий, положил трубку, подумал и зевнул.
К чаю все собрались за большим чертежным столом. Выждав минуту, управляющий сказал:
– Ярошевский, я вам завидую. Утром приехали, а девушки уже справляются по телефону о вашем здоровье…
Все оживились, заметив, как вспыхнуло землисто-серое лицо высокого корректного горбуна. Довольный шуткой, управляющий наклонился к главному инженеру:
– Жабу узнаю по голосу. Это звонил Болоев.
– Вот беда – яйца полопались, – возвестила проводница Маша, внося тарелку с вареными яйцами.
– Значит, туго закупорены, – откликнулся главный бухгалтер.
И разговор вошел в проторенное русло дорожных шуток и суесловия.
Слух о том, что старый хрен бросил в конвертор валенок фурмовщика, распространился сразу, потому что вечером металлурги собрались в Доме культуры на совещание.
Оттого ли, что в смену Багашвили было дано шестьдесят тонн меди, или оттого, что в тупике за обогатительной фабрикой стоял салон-вагон из Свердловска, металлурги, свободные от работы, пришли в полном составе, многие привели жен. В высоком двухсветном зале уселись, топчась и уступая друг другу места, за тремя длинными рядами столов, накрытых скатертями. Перед каждым – бутылочка крем-соды, стакан крепкого чая и на тарелке пирожное и два яблока.
Разместились бригадами. Ближе к сцене – ребята с обжиговых печей, у входных дверей – окруженный «отражателями» Шадрин. Только конверторщики разбрелись и сели за разные столы. Главную группу конверторщиков образовала семья Пушкаревых. Старший внимательно слушал, младший сразу осушил свою бутылочку и теперь принялся за братнюю; он наклонялся к жене, шептался, хихикал.
– Ты не вертись, – заметил старший.
Багашвили не пришел – спал после смены. Вместо него явилась жена, худенькая голубоглазая лаборантка; присела в сторонке, в складках алого бархата, и все записывала в тетрадку – наверно, для мужа.
Тамбовцев засел в дальнем углу стола и оттуда исподлобья всех оглядывал. По-настоящему он ошалел от злобы только здесь, вдруг оценив, какое значение придали этому валенку, и сейчас он знал, что так дела не оставят. Он ни разу не взглянул на Мазепу, который тоже сидел насупившись.
Управляющего выслушали с настороженным вниманием, как чужого. Пока он говорил, из-за сцены, откуда-то из дальней комнаты, приглушенно доносились густые звуки: там репетировал духовой оркестр. С другой стороны, тоже издалека, слышался баян: шел урок танцев. Но здесь, в зале, было тихо и жарко. Ясно было: всем, кто пришел и сел за эти столы, хотелось, чтобы завод вышел наконец из прорыва.
– Ты кто такой? – кричал ремонтный мастер, адресуясь к начальнику технического снабжения; тот сидел перед ним и глупо себя чувствовал: улыбался и прихлебывал чай из стакана. – Кто ты такой? Не знаем мы тебя, не видали тебя в цехе!
Многие из выступавших обращались в ту сторону, где сидел Болоев. Говорили враждебно, и никто не знал, чем все кончится. Особенно резко высказалась автокарщица. Каждую фразу она начинала так: «Ну хорошо…» Но ничего хорошего не сообщала, наоборот, все никуда не годилось в цехе. И все по вине Самсона Георгиевича.
– Ты ждешь аварий, чтобы себя показать: вот, дескать, я какой цаца!.. – говорила женщина, которую Болоев не знал в лицо, потому что, подвозя огарок от обжиговых печей, автокарщицы работали в респираторных масках, иначе они отравлялись сернистым газом. – Ну хорошо! А ты бы подзадорил мастеров, сказал бы им: «Вон как работает Багашвили». Медь-то ведь знаешь как дразнить, а людей?
Директор, слушая справедливую и ему тоже незнакомую женщину, понимал, что главное не сказано, что кто-то из троих, побывавших в его кабинете, будет выступать, он был уверен, что кто-то выступит. Но не Власюга взял слово, и, слава богу, не Тамбовцев, а тот неизвестный ему паренек, что недавно пришел из армии. И почему-то директор обрадовался тому, что не Власюга встал, а этот молодой, неизвестный. А Пушкарев-младший – тот прямо заерзал на стуле.
– Да не вертись ты, – снова успокоил брата Пушкарев-старший.
Но фурмовщик ни разу не упомянул Болоева. Он говорил о том, как можно хорошо работать, и привел в пример сегодняшнюю смену Багашвили.
– Когда же мы дадим наконец сто тонн в сутки? – спросил он и замолчал, ожидая ответа.
– К Новому году дадим! – крикнул начальник цеха.
– Завтра дадим! – крикнул кто-то из другого конца.
– Завтра дадим! – поддержали со всех сторон.
– Нет, завтра не дадим.
Фурмовщик так нескладно это сказал, что все насторожились, увидели в нем маловера, ни больше ни меньше. Тем более – новенький.
– Дадим завтра, – поправили его на разные голоса.
– Завтра не дадим, – твердо возразил фурмовщик и с виноватой улыбкой пояснил: – Завтра-то ведь я выходной.
Последним выступал Иван Шадрин. Начал он словами привычными: «Мы, беспартейные большевики». Но вскоре разволновался, раскраснелся, пока не сорвал голос и не пустил петуха. Все засмеялись и стали аплодировать.
– Как тебе не стыдно: так кричишь! – с притворным ужасом подал голос Болоев.
Он тоже встал, нахлобучил папаху и криво осклабился. Его веселила вдруг наступившая тишина, он всем бросал вызов: нате, ешьте!
– Мне не стыдно, за мной вдогон не бегали, – рассудительно возразил Шадрин и вдруг, будто все, что он до того говорил, была шутка, закончил добрым и ласковым голосом: – Не хитри, Самсон Георгиевич, ведь знаю я: плохо тебе, плохо.
И погрозил пальцем.
Дома нечем поужинать, Болоев пошел в ресторан. Он сел за стол, заказал бифштекс, водку. Он старался никого не видеть. Некоторые столы были сдвинуты, там было шумно и весело. А на эстраде стояла радиола. То и дело кто-нибудь уходил на эстраду, присаживался к радиоле, настраивал ее.
Только одну пару видел Болоев: жена Багашвили вошла с обжиговым мастером, они бросили ботинки с коньками под стол и заказали кофе. Наверно, собрались на каток.
«Хитрить нельзя, кричать нельзя, что еще?» – сосредоточенно обдумывал Болоев и вдруг с внезапно проснувшимся любопытством стал разглядывать голубоглазую жену Багашвили, эту веселую блондинку. Ему хотелось убедиться в том, что Багашвили тоже несчастен или будет несчастен в свой срок, все равно. Ему так нужно было в этом увериться. Но, кажется, он ошибался. И вдруг он ясно услышал, как кто-то за близким столом рассказывал вполголоса:
– А Клава-то с начальником ОРСа, он ее на свиноферме спрятал.
Болоев расплатился и пошел домой.
Он был простужен, болели ноги, не мог заснуть. Он открывал глаза – в темноте комнаты сыпались искры с лопаты, потом желтое сияние кипящей меди померкло, он увидел нестерпимо синее небо своей родины, далекого края. А коза-то некормленая, надо бы заколоть! «Свой нрав выказывает…» – услышал он внятный голос Шадрина. И то, как бегали люди, не обращая на него внимания, как шевелили лопатой золотую, звездастую, тягучую массу, – все было в его дурном сне выражением неприязни этих людей к нему, – нет, – лютой ненависти новых, откуда-то набежавших людей.
Разбудил телефонный звонок.
– Вам хорошо слышно, Самсон Георгиевич? – взахлеб, будто их сейчас разъединят, кричал Пушкарев-младший. – Мне тоже слышно! Слышали вчера?
Болоев отдалил от себя трубку на вытянутую руку. «Слышно не слышно, какой дурак!»
– Меня хотят заменить. Тебе слышно? – сказал Болоев в трубку.
– Как же это у них получится?
– Вот так. Ты, дурак, не заменишь. А другой заменит. Цауштн, меня уже заменили.
Издалека донесся смех:
– По домашней линии? В этом смысле и безоговорочно?
– Молчи, дурак. Ты дурак-младший, понял? Они хотят, чтобы я, как козу, доил конвертор. А я не доярка.
– Иди в отпуск, Болоев, – сказал директор. – Устал, – значит, в отпуск.
– Зимой? Что придумал.
– В отпуск, в отпуск езжай.
– Цауштн, не поеду. Что придумал – зима, работа.
– Зима – вот именно: валенок не хватает. Ты отдай свои валенки фурмовщику, а сам поезжай на юг, отдохни.
Болоев снял папаху. Седая на висках, плешивая голова была мокра от пота. Он вытер пот ладонью.
– Старый стал? – спросил Болоев.
– Поиздержался, батенька. Нельзя так.
– Я, батенька, здоровый, не поиздержался, – передразнил Болоев. – Мне сам нарком говорил: «Какой ты здоровый, крепкий, Болоев!» Разве я хуже стал?
– Ты какой был, такой остался. Вот в чем беда.
Болоев долго молчал.
– Значит, не такой, раз баба уходит.
– Это не главное, – поспешил возразить директор, он сочувственно вздохнул. – Ушла баба? Что ж ты ее отпустил?
– Я в цехе был. Цауштн, девка… – поморщившись, сказал Болоев. – Ушла – вот и стало мне плохо.
– Скандальный ты человек, Самсон. Тебе этого валенка товарищи не простят. Уезжай с глаз долой. А там видно будет. Тогда возвращайся.
Болоев понял, что не о чем разговаривать. Он надвинул папаху на брови, как джигит. Пошел из кабинета, взявшись за ручку двери, остановился.
– Как думаешь, этот артист, Ярошевский, выдержит?
– Нет, думаю, не он, а Багашвили возьмется.
– Такой газ – крыша и та ржавеет. А слабый человек разве может выдержать?
Директор встал, улыбнулся.
– Нет, думаю, не выдержит.
Болоев понял: директор хочет его утешить. «Ага, проговорился, сукин сын», – подумал Болоев. Так велика была его тоска, что он не огорчился разговором, а, наоборот, обрадовался, что хорошо понял директора.
А на улице Шадрин пристал. Дожидался, что ли?
– Что ж, Клавка-то не вернется? – Так он спросил без всякой злости и пошел рядом.
– К начальнику ОРСа ушла, там сытнее. Зачем насмехаешься?
– А ты что делаешь? Валенками кидаешься. Мы народ простой, необидчивый, но таких невежливых вещей никому не позволим.
– Чего ты прицепился? Цауштн, отстань от меня.
– Черта лысого! Я и пошел над тобой посмеяться. Отстану, как же…
– Что ты как репей пристал?
– Иди, иди, нипочем пропадаешь!
– Цауштн, сам пропади!
– Вот мы с тобой свыкнулись, сжились, хоть и враги.
– Что ты зудишь? Что зудишь?
– А ты чего таишься? Что в цехе, что в доме. Какой вражеский характер придумал. Клава ушла – ты скажи, не утаивай. Ведь родственники стали. А то по ночам скачет, ищет. Знаешь, как говорят: не искал бы ты в селе, искал бы в себе.
– Придет девка. Козу прирежу. Она придет, будем шашлык есть.
– Не придет, не обманывайся. Раз ушла так скрытно, значит, не придет. Не воротится.
– У нас приходят.
– И у вас не приходят. Что врать-то, Самсон? Хоть ты будь японец, хоть мексиканец, а девки всюду уходят одинаково.
– Что ты меня дразнишь, Шадрин?
– Иди, иди.
– Цауштн, говори – чего дразнишь?
– Глупый человек, я с тобой по-хорошему иду, тебя дражню. Ты уважать должен. Так медь дражнят, как я тебя… Ты старый человек, чтобы ты себя сам не истомил, вот я тебя и дергаю и дражню.
Болоев вздохнул.
– Эх, ты-и-и-и-и, цауштн… – И молча пошел рядом с Шадриным.
Они закололи козу, освежевали ее и опять ссорились: каждый хотел по-своему. И вместе жарили ее. Из трубы болоевской сакли густой дым валил – там двое спорили, горячили кровь, вспоминали обиды и провинности. И поздно вечером Шадрин звонил на свиноферму и просил свинарок разыскать дочь, чтобы им вместе подумать, как сделать, чтобы зря не пропал Мазепа.
1935—1964








