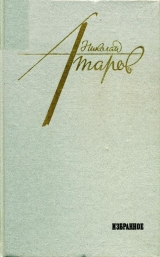
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
В тот день холодный ветер принес дыхание зимы. В сумерках началась поземка. Чуть прибелило снегом дорожки, могильные плиты. И пока Редька пробирался знакомыми тропами, он знал, что там, за кустами, на пустыре ждет его Маркиз. Это делало его счастливым. Чтобы протянуть время, он не спешил.
Прошло десять дней, как посадили отца, как началась у Редьки тайная жизнь. После школы он с портфелем шел к Маркизу – поить, кормить, впрягать в телегу, возить песок и гравий. Сначала он делал все без охоты, мать принуждала. Мерин так себе – по правде сказать, дохлый. Старик. Но однажды заржал. Громко-громко. И голову повернул – стороной проехал в город конный взвод милиции. Так смешно стало: мерин от волнения и хвост поднял, и яблоки накидал под ногами.
На кладбище Редька был как дома. Все равно как и в теплые дни, влюбленные гуляли по дорожкам, целовались в глухих местах на скамейках. Он подкрадывался – ах, опять эта Лилька с наведенными бровями и голубыми ресницами! А с нею кто? Васька Петунин? Ну, ма́ком – уж больше мотоцикла не оставит в воротах! Лилька закидывает голову, изгибается для поцелуя. Редька поглядывает и тоже губы вытягивает. Задев нечаянно ветку, приседает, чтобы не заметили.
– Давно хотела спросить, Вася, – томно спрашивает Лилька, – склеп – это скульптура или помещение?
– Помещение, – отзывается Вася.
И верно что помещение: склеп, о котором спрашивает Лилька, вроде кирпичного амбара на задах бабкиного двора.
Насладившись услышанным и подсмотренным, Редька шел по дорожке дальше. На другой скамейке сидела женщина, тоже знакомая, из их дома. Перед ней коляска с младенцем. Редька прятался за кустами и подслушивал ее умильную болтовню.
– А мы теперь ротик вытрем… «А мы, скажи, не хотим…» – развлекая себя, на два голоса вела она разговор. – А теперь носик… «А мы, скажи, обратно не хотим…» А мы цыпику дадим рожочек… «А мы назло сделаем пипи…» Ай-яй-яй, какая лужица!
«Глупостями занимается», – заключал он и шел дальше.
На краю открытой ямы сидели могильщики. Отец говорил, какие раньше бывали бородатые, несытые на водку могильщики, а эти ненастоящие: студенты из местного педучилища. Они тут к стипендии подрабатывают. Один, в берете и в очках, был знаком с Редькой.
– Редька, подь к нам в компанию! – кричал очкарик.
И он присаживался на веревках, измазанных глиной и снегом. У могильщиков перекур. Они беззлобно препирались, кидались комками земли. Еще молодые.
– Что ж ты глину-то на живые цветы бросаешь! – укорял один другого.
– Тесно!
– Поживем – еще тесней будет! Через тридцать лет семь миллиардов гавриков будет на Земле. Где ж их всех разместить – живых и мертвых?
– Выходит, Мальтус даром что поп, а все предвидел.
Хороши могильщики! Что говорят, ни черта не поймешь. Они смеялись, а он хмурил брови. Не любил непонятное, не любил, когда без него смеются. Какого-то еще Мальтуса выдумали!
– В школу ходи, там тебе все объяснят, – говорил очкарик в берете. – Учиться надо, а не вожжами трясти. Утром по радио дети выступали – слышал?
– По радио? Это артисты говорили, а не дети. – Он понимал, что какое-то коленце надо выкинуть, чтобы студенты без него не смеялись. – Это все нарочно. За это им деньги платят. Нет таких граблей, чтобы от себя гребли. А учатся, потому что заставляют. А если бы не заставляли, зачем это надо? Хорошо: принять на ночь таблетку, а утром все знаешь!
Теперь студенты смеялись вместе с ним. И не над ним, а над кем-то из своих. Тому, видно, как раз впору пришлось его мечтание.
– А ну, Редька, рассказывай, как тебя на комиссию таскали!
И он с готовностью плел всякую несусветицу:
– Мать меня заперла в комнате. Сказала: «Ты у меня насидишься!» – и ушла. А эти мильтоны на трех мотоциклах приехали. Через форточку меня потащили. Потейкин на меня наручники – р-раз! И – прямо в суд! Привели, усадили на скамью подсудимых всю нашу кодлу: и Цитрона, и Соплю, и Руслана, и Сенькина. Сенькин – маленький, кудрявенький, на него кричат: «Что это за амур-переросток?» Толпа собралась – все из нашего двора. Лилька всем по телефону растрепала. Баба-яга визжит в дверях: ее с пуделем не пропускают…
Студенты слушали: ох и врать же здоров малый! Чего никогда не было, еще прибавит с три короба.
– Тут выходит Потейкин. – Редька вскочил на бугорок, простер руку с портфелем. – Стал сроки запрашивать! Цитрону – два года. Руслану – год условно. Мне тоже спецПТУ запросил… Р-раз! Суд уходит на совещание. А мильтоны стоят с шашками наголо… Р-раз! Команда: «Встать, суд идет!» В зале тихо-тихо, у меня коленки дрожат. Думаю: «Поджигал – не дрожали? А теперь испугался?» Зубы так стиснул, аж губу закусил, кровь выступила! Вот глядите!
И он показал всем свою губу. Очкарик взял его за подбородок, в глаза поглядел.
– Да ведь врешь ты все, Редька! И не поджигал ничего.
Он не старался высвободиться из перепачканных в глине ладоней очкарика. Но потом стало грустным его лицо, он спросил очкарика:
– А как ты думаешь, пошлют меня в спецПТУ?
Тот ничего не ответил. Редька высвободился, медленно отвернулся. Забросив портфель за плечо, пошел своей дорогой.
Он не знал, какое решение приняла комиссия: обещали дать срок на исправление. Мать твердо сказала: пошлют в спецшколу. Рауза, когда он ее спросил, молча покачала головой: нет. «Кодлу» он теперь избегал, боялся. «Их-то возьмут», – сказала Рауза. Потейкин навещал квартиру. Когда он в первый раз пришел, мать была на работе. Редька видел, как Потейкин обошел комнату, оглядывая и ощупывая разные вещи и вещицы – и двух песиков на этажерке, и книжку, – и даже потрогал будильник, лежавший на животе. И только отцовские призы – самое интересное, что было в комнате, обошел без внимания, а может, из деликатности к личным вещам хозяина квартиры. Зачем он повадился в их квартиру, опекун? Такими мыслями была полна голова Редьки после веселого разговора с могильщиками.
А позади уже бросали землю лопатами.
– Ты знаешь, он не глуп, – сказал один студент другому.
– Вообще дураков среди детей не больше, чем среди взрослых, – серьезно ответил другой.
В этот вечерний час вдали у ворот духовой оркестр бухал разобранную по всем трубам траурную мелодию.
Знакомая часовня, куда заглянул Редька, была погружена во мрак. Темно, а совсем не страшно. Под иконой стоял подсвечник в курчавых отеках стеарина. Редька зажмурился, потом открыл глаза, и вдруг подсвечник превратился в белого пуделя. Даже, кажется, пошевелил ушами. Сделав это открытие, он повеселел и выбежал из часовни. Вспомнил, что во дворе, в нише на стене церкви, у ног статуи, всегда лежат богомольные подношения: краюхи хлеба, яблоки, свежие цветы в баночке. За босыми пятками святого зачем-то ламповое стекло. И он побежал назад, во двор – только бы мать не увидела.
Оглядевшись, вскочил на цокольный желобок, дотянулся до яблок и стал загружать ими полы курточки. Была минута соблазна – он взял большое яблоко на зубок. Но потом и его бросил к остальным.
Совсем уже стемнело. Маркиз издали заржал – услышал шаги.
Редька поднес ему на ладони самое большое яблоко, обтерев предварительно о рукав. Маркиз взял осторожно, подняв мохнатую губу и оскалив желтые зубы.
– Улыбочки оставь!
Рукой Редька нащупал стертое в кровь место на шее мерина. Ему самому оно не давало покоя ни в школе, ни даже в постели перед сном. Маркиз тихо ржал, улыбался. Стучал передней ногой, просил еще яблок. Есть же такие заморенные, плохие лошадки. Никудышные меринки с отвисшей нижней губой, обиженной мордой, с утолщениями и буграми в коленях. По городам, даже таким небольшим, как Рожково, они почти что вывелись. А можно их увидеть при домах отдыха, в коммунхозовских оранжереях или лесных питомниках.
– Жуешь? Ну, жуй, жуй.
Он вытащил из портфеля сырую морковку. Он и сам любил в тот год сырую морковку. И Маркиз хрупал, громко хрупал.
Потом Редька принес ему ведро с водой. Потом щеткой тер лысые ляжки мерина. Потом расчесывал хвост, гриву. – А теперь – левую ногу… «А мы, скажи, не хотим…» – вполголоса повторял он игру матери с ребенком. – А теперь – правую. «А мы, скажи, станем брыкаться…» А хвост – расческой. «А тебе, скажи, от мамки попадет, если узнает…» А челку – ножницами… «А мы кусанем! А нас, скажи, конюх Костыря, твой папаша расчудесный, не поил и не кормил». А мы с тобой и сена пожуем, а не то – болтушку с отрубями и с овсом. «Нам, скажи, еще лучше – морковку да яблоки подавай…»
Старый мерин хрупал и хрупал морковкой. Удивительный уют был в этом мерном звуке.
Голодный, счастливый Редька возвращался впотьмах, посвечивая перед собой карбидным фонариком. Ему не хотелось домой. Он медлил. Безлюдна была площадка возле ворот. Не сразу различишь – там стоял под аркой Потейкин. Покуривал, дожидался кого-то. Редька тоже подождал. Бросив окурок, Потейкин направился в их подъезд. Он пошел за ним следом. Крался, таясь. Возле подъезда Редька отпустил Потейкина и долго стоял, от нечего делать заглядывая в знакомое окно дворничихи. Там на подоконнике кружилась белка в колесе. И котенок нетерпеливо глядел на белкино верчение. И он глядел, стоя под окнами.
Когда Потейкин в первый раз пришел, Редька ничего не имел против – правда, в шахматы Потейкин играл, пожалуй, хуже его самого, зато умел быстро расставлять фигуры на доске. Они стали состязаться, кто быстрее. Почему Потейкин считал, что это важно, Редька не мог понять, но тоже достиг успехов – научился быстро расставлять фигуры. Он преисполнился уважения к Потейкину и загордился, что инспектор с ним играет. А ведь многие во дворе его побаиваются, даже Цитрон.
– Вы всех местных собак знаете? – из любезности спросил Редька.
Мать все не шла с работы, и Потейкин заскучал. Он уже взялся за фуражку, когда мать заглянула в дверь и смутилась, увидев постороннего человека.
Так было в первый раз. Потом Потейкин еще дважды являлся, и мать каждый раз заметно оживлялась. Редька насторожился, нюх у него просто собачий.
– Сегодня у нас было собрание, – рассказывала мать, – местком выбирали. А нашего повара все-таки забортовали.
Потейкин понял: она хотела сказать «забаллотировали» – и рассмеялся. И Редька тоже снисходительно улыбнулся, хотя не понял, над чем смеются. Ему просто пришлось по душе, что ненавистного повара «забортовали». Он любил свою мать, знал, что она лучше всех, но до этого вечера никогда не задумывался, какая она. Он не замечал ее достоинств и недостатков.
Она бывала злая: «Дьяволенок… холку намну… бремя тяжкое…» Но он знал, что она любит его, даже упрямство его, и взрослые слова, и простуженный голос. И этого было довольно. А в тот вечер он ревновал, еще не понимая, что есть такое чувство, причиняющее страдание, – глаза высыхают и горят уши.
Пока Авдотья Егоровна кипятила чайник, Потейкин вышел в прихожую, постучался к Раузе и возвратился вместе с нею. У него была старая дружба с молчаливой дворничихой. Чай пили втроем. Редька учил уроки.
Потейкин вел себя солидно, как подобает мужчине в годах. Заговорили о Костыре – каково ему сейчас. Потейкин высказался уважительно:
– Человек он талантливый. Как же, добытчик – первое дело.
– Ну, уж добытчик, – вздохнула Авдотья Егоровна. – Плохой добытчик.
Рауза молча попила чаю из блюдечка и ушла. И ничего: Потейкин водки не принес и не требовал. А то, что навестил и увидел, как живут, наполнило Авдотью Егоровну чувством признательности. Она ему благодарна и за то, что по-хорошему разъяснил про членов комиссии: тот, председатель, что стучал карандашом, оказывается, добрый человек, секретарь исполкома. Только некогда людям – все спешат. А то, что под конец смеялись, так почему не развлечься? Это без злобы. Это даже хорошо, ведь не оштрафовали.
Редька грыз ручку и исподтишка поглядывал. И когда, попив чайку, Потейкин с разрешения Авдотьи Егоровны снял китель, вывесил его на спинке стула и остался в трикотажной безрукавке, обтягивавшей круглые молочные плечи, он вспомнил про отца – какие у него могучие руки, даже в зимние месяцы смуглые от волосатости, жаль только, что левое плечо торчит углом… «Тебе бы пчелу на одно место», – безжалостно думал о непрошеном госте.
С матерью Потейкин становился разговорчивым. Он рассказывал о порче нравов. Он это наблюдает по роду службы.
– Пойдите на пляж – увидите: теперь многие дети носят крестики. И даже маленькие ребятишки, девчата. Вот так. Хоть стой, хоть падай.
Он охотно делился своим непониманием многих людских поступков.
– Вчера принял в детскую комнату девочку. Всю ночь у меня спала, скамейка жесткая, знаете, с резной спинкой. Показывает так: у нас в Рожкове она проездом из Хабаровска в Москву. Взяли ее с собой проводницы дальневосточного экспресса – Шура и Соня. Фамилий не называет. О себе говорит, что захотела посмотреть Россию… Вот сидит у меня дура дурой, и кукла у нее под мышкой – доктор Айболит. Ну зачем у ней Айболит под мышкой, Авдотья Егоровна? Одна несуразица. Под протокол… А эти мотоцикл сожгли.
Редька вытирал промокашкой перо. Слушал.
– …Безмотивное преступление! Старший – Восторгов, по кличке Цитрон. Третий год за ним наблюдаю – терпение иссякло. Вернулся после отбытия – паспорт не прописан, работа, говорит, глупых любит, разучился быть человеком, хочет быть королем. Ну зачем он хочет быть королем, Авдотья Егоровна?
Вот он какой молчаливый, этот Потейкин!
Предложил матери в кино сходить, она только посмеялась:
– С офицером? Вот придумали!
– Как же быть?
– Сшили бы штатский костюм.
– Да где ж его сошьешь? У нас в мастерской только кителя шьют да мундиры.
– Индпошивы везде есть, – сказала мать.
И все же в следующий раз явился в штатском, только стареньком. Руки положил перед собой на стол симметрично. Сразу стали заметны следы утюжки на плечах пиджака. Развернул газету: что нынче в кино? Итальянский фильм «Генерал Делла Ровера». Мать отказалась. Итальянские фильмы ей и раньше не нравились, возвращалась из кино, бывало, молчаливая, задумывалась о себе, о муже, как они поженились за шутками – Сергей Есенин и Дуня Дункан…
А в этот вечер Редька пристал: «Дай деньги, я пойду… Дай!» Она нехотя отпустила – пойди уж, ладно. Туча стояла, как лужа. И голые березы были освещены совсем по-зимнему косым солнцем. Рано зажглись фонари. Нет, разом зажглись все ледяные стеклышки на земле, все стекла в окнах домов! Наступил вечер.
На автобусной остановке он увидел женщину. Засмотрелся на нее. Нарядная, красивая. И улыбнулась ему. Он быстро отвернулся. В подошедший автобус и не подумал войти. Ушел автобус. А там, где только что стояла женщина, пахло ее духами. Он о чем-то думал. И вздыхал, нюхал прохладный воздух.
5Отец вернулся, когда его не ждали. Мать была на работе. В тот вечер девчонки, продававшие георгины, находились под особым наблюдением Редьки. Он и сам не понимал, зачем он к ним привязался. Крался с подветренной стороны, точно охотник за антилопами. На асфальте у входа в церковь, где обычно гроб выносят из автобуса, девчонки писали мелом и поглядывали на Редьку. Он прыгнул – они разбежались. Осталась надпись большими буквами: «Редька, не коси глаза! Мы над тобой смеемся!» Он погнался за ними. А одна, пока он гонялся по всему двору, успела нацарапать: «Твой отец вернулся. Опохмеляется!» И Лилька в форточку крикнула:
– Отец тебя ищет! У кого, говорит, ключ от квартиры?
Он все на свете забыл от радости. Понял, где искать – в толпе мужиков возле палатки! Всех растолкал. Отец уже отстоял очередь и сейчас любезничал с тетей Глашей. Она высилась в своем окошке. Толстая, в белом халате, скрестив на груди руки, слушала, ожидая, пока освободится стакан. Отец был в кураже, болтал без умолку. Слабо прижал сына больной рукой к себе. Прижать-то прижал, а вот понял ли?
И Редька вдруг как-то сник, коротко осведомился:
– Отсидел? Что ж не дождался дома выпить?
Отец стаканом показал на тетю Глашу.
– Ты ее слушайся! – подольщался к ларечнице, потому что она угощала в кредит. – Это наш доктор, сынок, наш доктор!
Кто-то чужой смеялся: а ведь похоже! Кто-то подталкивал отца в спину.
– Отсидел? – повторил Редька.
– А тебе что? – разозлился отец. – Вот запру в комнате, отсидишься! – Он выхватил ключ из его рук и отвернулся.
Редька выбежал из толпы.
Много пустых ящиков громоздилось у черного хода фабричной столовой. Там жгли ненужную тару. Дожидаясь матери, Редька постоял у костра. Сейчас он почему-то впервые понял, что от отца мало проку. Разве он спросит: как ты живешь, почему в школе неинтересно? Если бы отец спросил, что случилось раньше, двойки или тот карниз, по которому он прогулялся на втором этаже, из окна в окно, на глазах всего класса. Что раньше? Агния Александровна говорит: учится плохо и хулиганит. А на самом деле отыграться хотелось ему, отыграться после двоек – вот и пошел по карнизу.
Две женщины в грязных халатах вынесли тяжелый котел. Он узнал мать, а та его не сразу заметила за дымком костра.
– Твой явился, – сказала вторая.
Мать убрала прядку со лба, кивнула Редьке.
– Мой.
– Хороший он у тебя.
– Хороший, когда спит. Я его только спящего и люблю.
– Небось только и видишь, когда спит.
Вторая была старше матери. Седина у нее в волосах.
Когда он подошел к матери, на пороге вырос, вытирая руки полотенцем, знаменитый шеф-повар Ефремыч – тот, которого «забортовали». Лицо у Ефремыча создано для белого колпака: рыхлое, отвислые щеки, картофельный нос, надрубленный на конце. Никто не любит Ефремыча, а Редька всегда дразнит.
– Ну, чего уставился? – спросил Ефремыч.
– А тебе жалко?
– Нечего тут разглядывать, проваливай! Ишь какой отчаянный, никого не боится!
– А чего тебя бояться? Дай лоб пощупаю – может, рога растут?
Ефремыч рассмеялся. Мать покачала головой:
– Дети есть дети.
Они возвращались домой, тесно прижавшись друг к дружке. Серебром сверкала речка Луковка. Такие были тут хорошие места – луга примятые, еще травянистые после первого снега. И река, будто нарочно, чтобы удлинить свой путь, уходила вдаль широкими излуками. На берегу росли старые ракиты. В них шумели галки, они летали над головами матери и сына. А на другом берегу, в Заречье, куда вели деревянные кладки, зажглись огни районной ярмарки. Там, над деревьями, плыли лодочки аттракционов. Там слышалась музыка.
Редька склонил голову набок, следя за полетом галок, вращал тонкой шеей.
– Мамка, а верно, птицы людей называют – медленные?
Она сперва не поняла, потом усмехнулась:
– Выдумываешь. – И вслух повторила свою мысль: – Только спящего тебя и вижу.
Редька ни слова не сказал про отца. Он мстил ему за нехорошую встречу у палатки.
– Пойдем на ярмарку? – предложил он. – Чего мы дома не видали?
– Не купцы мы, сынок. Нам на ярмарке делать нечего.
Она присела на пенек, привлекла к себе, прижала ногами. Он потрогал мягкий платок на ее лбу, смахнул с него что-то – вправо и влево. Она покраснела, улыбнулась, как взрослому мужчине, от этой ласки. Тогда он застегнул верхнюю пуговицу на ее кофте, у шеи. И она позволила ему. И он еще взял ее палец своими двумя маленькими. И так они покачали свои две руки. Мать тихонько отталкивала его и гладила. Она была и нежна и груба с ним, все у нее смешалось в этот час.
– Красиво, правда, мамка? – говорил он, заставляя ее любоваться дальним горизонтом с деревьями, заречными огнями и аттракционами. – Мамка, ты когда-нибудь каталась на «чертовом колесе»?
– Я, милый, на таких колесах каталась…
– Голова не кружилась? Ну, пойдем, пойдем. Тут всего ничего.
Он тянул ее за руку. Она слабо сопротивлялась. Тогда он сказал:
– Зачем нам домой? Отец вернулся.
Он сказал об этом так, будто нашел главный довод, чтобы идти кататься на «чертовом колесе».
– Что ж ты сразу не сказал? – крикнула мать. – Как же он в квартиру войдет? Ключ-то, ключ у нас!
– Не беспокойся, я отдал. А ему и не понадобится: он у тети Глаши лечится. Ну пойдем!
– Лечится?
И опять она не сразу поняла, что он говорит. Вдруг глаза ее наполнились слезами. И странно: в ту же минуту улыбка осветила лицо. Авдотья Егоровна умела жить минутой: если есть радость в жизни, значит, еще повторится. Может, и бабушка скоро приедет. Ведь обещала.
И они быстро пошли над глубокой выемкой железнодорожного пути. Вечерело. Впереди горел зеленый семафор. Внизу блестели рельсы.
– Я тебе одну историю расскажу. – Она заглядывала в глаза сыну.
– Какую?
– Только это факт, а не сказка.
Поезд с его долгим грохотом и шумным ветром заполнил выемку полотна. Мать рассказывала про какого-то слона во Вьетнаме и смеялась. А он ничего не слышал. Наконец поезд промчался.
– …Представляешь, слон с медалями! В джунглях его все партизаны знают! На весь Вьетнам он знаменитый! Одну медаль ему дали за войну, другую – за трудовые подвиги. Это мне давеча Анисим Петрович рассказал.
Мать увлеклась, глаза ее помолодели.
– Ну и что… – хмуро протянул он. – Слон и слон. Подумаешь! – Он вдруг остановился. – Пусть не ходит к нам Потейкин. Мамка, пусть не ходит, пусть дорогу забудет!
Куда девалась радость минуты! Ей стало нехорошо, скучно. Что это сын так плохо о ней думает?
– Анисим Петрович хочет помочь тебя воспитывать. Ты-то вот никому не помогаешь. А он помогает.
– А я не люблю помогать. – Он сжался, поди разожми его.
– Когда тебе помогают, любишь?
– Это их дело, раз помогают – значит, это им нравится. Для себя делают, а не для меня.
– Ты так думаешь? – не зная, как возразить, спросила мать.
– Я так думаю.
– Сил моих нету… Бремя мое тяжкое.
Но когда тронулось под звуки шарманки огромное ажурное колесо под названием «Круговой обзор», когда поплыла, качаясь, и ушла выше деревьев их лодка и стал клониться и падать набок весь дальний, догоравший закатом горизонт с серебристой Луковкой, все позабыли мать и сын. Она прижалась к нему. Он схватил ее руку.
– Мамка, мамка! – крикнул он. – Ух, жизнь собачья!
И тоненько взвыл. Как обычно, когда ему нравилась эта житуха.
…Тетя Глаша запирала палатку на два тяжелых болта – крест-накрест. Расходились по домам ее последние клиенты. Дворничиха подметала снег, слушала, что ей говорит, какие инструкции выдает Потейкин.
– Этих троих еще до Нового года отправим, пусть сухари сушат на дорогу, только бы путевки достать, – негромко говорил Потейкин.
– Это правда, что они телефон-автомат очистили? – Рауза говорила как будто и не по-русски, гортанным голосом.
– У Цитрона на три рубля монеток нашли. Социализм построили, в космос ходим, а эти сморкачи… Одна несуразность.
Анисим Петрович был человек пожилой, добросовестный и честный и не мог бы сказать, что двор его полон воришек и хулиганья. Он знал многих хороших детей, дружил с их порядочными родителями, собрал из них актив в помощь детской комнате. И все же по роду службы хмурые мысли его одолевали, сказывалась близость кладбища: что ж, если даже хорошие девочки перед экзаменами срывают цветы с могил и несут в школу учителям в подарок… Он ловил их не раз и гудел: «Несуразица. Под протокол…» Рауза помогала ему ловить девчат, но не одобряла за мрачность взглядов.
– Костыря вернулся? – спросил Потейкин.
– …
– Где он?
– Пошел себе… позволять.
– А Авдотья Егоровна?
Рауза бросила быстрый взгляд на Потейкина, оперлась на метлу:
– Зачем Редьку пугаешь? Ходишь, пугаешь. Не ходи.
– Пусть боится, – сказал Потейкин и не скрыл за улыбкой смущения.
– Заяц пусть боится. А не человек… Человек не заяц! – твердо сказала дворничиха.
Потейкин понял, что ему не увернуться от разговора. Он не привык оправдываться за двадцать лет беспорочной службы в рядах милиции.
– Хулиган должен сызмала чувствовать запах закона, – сказал он памятные ему слова полковника из областного управления. – Для него закон должен быть соленый и горький на вкус… Чего ты на меня уставилась?
– Ты не к мальчику ходишь, а к матери. Нехорошо. Ты к ним не ходи. Что ты у них… вроде прописался?
– Я ей помогаю, – тихо сказал Потейкин. – Редька тоже в спецшколу глядит. Шариков у него не хватает. Сам себя на комиссии оговорил – зачем?
– Ты его тоже ушлешь?
– Что ты болтаешь, неразумная! И его мне жалко. И Авдотью Егоровну жалко. И отца тоже жалко… Так-то, Рауза.
Потейкин бросил окурок под метлу. А Рауза стала мести широкими взмахами.
…В тот вечер в комнате света не зажигали. Отец и мать стояли, облитые лунным светом. Мать стирала платки в мыльной воде. Отец в том же тазу мыл руки. Долго мыл – то обмылком, то пемзой. Его мокрые руки блестели при луне. А он их мыл, мыл.
– Разве ж там вымоешься? Только бы выспаться.
– Мучает тебя вино, – с грустью сказала мать.
– Не так я много пью, как обо мне говорят. А Редька молодец, Маркиза содержал в лучшем виде. Любит животных.
– Пока тебя не было, я в школу ходила. Агния Александровна советовала: «Отдайте его в продленный день». Это в другую школу, в городе. Значит, полчаса на трамвае. Я шла домой, думала: ох, у самой-то у меня день продленный!
– Зачем нам за школу держаться? – говорил отец. – Зачем ему школа? Твой Ефремыч повстречался, идет домой: и в руках, и в зубах, и наперекрест! – Он изобразил, как возвращается шеф-повар, нагрузившись продуктами из столовой.
Мать согласилась:
– Со злом бороться – против ветра плевать. Ну мы его прокатили на выборах. Нету его в месткоме.
Редька не спал. Его кровать стояла в углу за шкафом.
– Я ему вежливо говорю, – вспоминал отец свой разговор с Ефремычем. – «Ну, как – все носите, носите?» Он важно так отвечает: «Теперь каждый живет для себя. Ваши взгляды, папаша, далеко отстали. Я-то ношу из интереса. А ты, балда, за решеткой из-за чего побывал? Из-за стаканчика?» – Отец едко закашлялся сквозь смех. – А ты говоришь, школа! Что ты за школу держишься?
В окно светила луна. Плескалась вода в тазу. Редька лежал с открытыми глазами и не спал. Думал.
В комнате оставил записку: «Мама, я пошел в школу, там арифметика». Запер дверь. Ключ сунул в притолоку.
Лилька в халате, в туфлях на босу ногу висела на телефонном шнуре. Поприветствовала легким жестом, ощупала бигуди на затылке. Он остановился возле нее с портфелем.
– Хотя бы продали, а то сожгли! Ни себе, ни людям, – тараторила в трубку Лилька. – Вот и говорят: безмотивное преступление… Я по тебе соскучилась. Приезжай, все расскажу. – Она положила руку на плечо Редьки. – Редька, наш маленький, на стрёме стоял… Ну, что молчишь, Нюрка? А я с Васо уже по-грузински разговариваю: миминда рдзе, миминда пури… – И снова другим, заговорщицким голосом: – Жду, слышишь?
Редька знает, что Лилька всегда врет. Никакого нету грузина, а есть Петунин.
Она повесила трубку на крючок. Стояла, прислонясь к стене, блаженно глядя на Редьку.
– Ты чего такая веселая?
– Нейлоновую шубку Петунин подарил. Вечером будем обмывать – душа требует!
– Чего врешь! Васька в командировку уехал. А ты со мной погуляй.
Лилька тормошила гривку у него на затылке. На кухню прошла Рауза.
– Ты б хоть с ребенком, бесстыжая…
– Он еще новенький. На нем ограничитель стоит – не раскатишься!
Лилька дружила с Редькой, охотно прятала его портфель, когда он не хотел идти в школу. И сейчас он отдал ей портфель.
– И никакой не грузин. Чего ты врешь?
– Так интересней. От правды скучно. Вот ведь дед Мороз на елке всех веселит, а он ряженый.
– Зуб от Гитлера хочешь?
Он вытащил из кармана и показал ей продолговатый желтый предмет, похожий на обмылок. Это верно был зуб. Он вчера извлек его плоскогубцами из лошадиного черепа на свалке.
– Ты чего? – удивилась Лилька, разглядывая зуб, как если бы это было какое-нибудь колечко или брошь. – Зуб от Гитлера?
– Деньги нужны.
– Зачем тебе деньги?
– Значит, нужны.
– Сколько?
– Я знаю? Хомут нужно купить.
– А ты к бабе-яге, – прошептала Лилька. В глазах заиграли искорки. – Она мне продаст свою скатерть с голубыми павлинами. А зуб купит. Вот увидишь – купит! Ей как раз одного недостает!
Вот шкура! И над ним смеется! Грубо отобрав зуб, он пошел на кухню. Лилька смеялась беззлобно. Школьным портфелем била себя по голым коленкам и смеялась.
Баба-яга купила электрическую вафельницу и была недовольна ею. Носила по всем квартирам, показывала. Рауза недоверчиво оглядывала новинку: мало ли что придумают, все в дом тащить.
– Просто наказание! – жаловалась Васькина бабка. – Какие там вафли? Каждая вторая пригорает.
– Клади сразу третью, – посоветовал Редька и побежал.
На дворе играли в снежки. Он гонялся за кем-то и сыпал снег за шиворот. Вдруг сбились в кучу, а он посередине. Многие постарше, а он хоть и маленький, но всех огорошил.
– Не хочешь – не верь, – с безразличным видом говорил, не выпуская зуб из покрасневших пальцев. – Не знаешь, кто такой был Гитлер, чего ж ты лезешь, – говорил он, равнодушно отталкивая покупателя.
– Кто ж не знает. Дай посмотреть!
– А как звали, знаешь?
– Адольф. Ну-ка дай, говорю!
– А как его нашли, знаешь?
– В рейхстаге. Он в яме испекся. А ты дай поглядеть.
Но он крепко держал зуб.
– Из рук гляди. Я тебе говорю: зуб от Гитлера.
– Так тебе и поверили. Где доказательства?
– Эх ты! Скучно с тобой разговаривать. Деньги нужны, а то бы не продал.
Зуб пошел по рукам. Но он не выпускал его из виду.
– Врет он!
– А ведь верно: зуб. Да какой клыкастый!
– Сколько просишь?
– Сколько дашь?
– Говори цену.
– Хомут нужно купить. Достань хомут, я тебе даром отдам.
И вдруг вся стая прыснула кто куда: Полковник с пятого этажа схватил Редьку за плечо. Но зуб Редька зажал в кулаке. И Полковник, силой усадив его рядом с собой на скамейке, долго – палец за пальцем – разжимал кулачок. Наконец убедился – лошадиный зуб.
– Жулик ты! Чем торгуешь!
– Я не жулик.
– Жулик бессовестный. Слышал ты такое слово – совесть?
Редька сунул зуб в карман. Он уже отдохнул от страха.
– Слышал… Глупость! Боятся, вот страх и называют совестью. Это так, для красоты, говорят.
– Чего боятся?
– Ну, что попадет на орехи. Накажут. В спецшколу отправят.
– А ты в спецшколу не хочешь?
– Смотря в какую… – Он уже догадался, что лучше всего какое-нибудь коленце выкинуть.
– Ишь ты, разбираешься. Отвечай по порядку. Вот на войне солдаты бросались с гранатой под танк. Это что, по-твоему?
– От страха бросались. Деваться некуда, все одно погибать, так уж лучше быстрее. Вот и бросались. (Если взрослый дядя заводит ерундовский разговор, значит, не видел, как мотоцикл поджигали, можно не бояться. И Редька раздумывал, что бы еще отмочить.)
– Вот какая теория! – сказал Полковник.
– А почему вас Полковником зовут?
– Так, придумали. Меня зовут Петр Михайлович. Фамилия моя – Сапожников… Я как-то вечером стоял у окна, курил.
Редька слушал, задрав голову, глядя куда-то в небо. Так же, не повернувшись, спросил:
– Вы меня видели?
– Видел. Смотрю, горит мотоцикл. А я не люблю мотоциклы – это еще с войны, с лета сорок первого. Шумят они. Смерть возят в лукошке. Я, знаешь, лошадей больше люблю. Я ведь в нашем городе самый главный над лошадьми… Ты Маркиза любишь?








