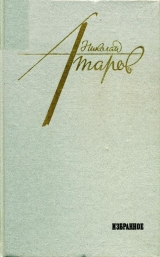
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 37 страниц)
– Досказывай.
– Да… Чтобы она была вся резная: карнизы, панель, балюстрада. Чтобы была и строгость и красота. Чтобы вся она как выточенная. А буду старик, приеду: «Чьих рук дело, ребята?» – «Всегда так было», – скажут. А я про себя: «Врете, не всегда так было».
Щенок на дне лодки заворочался, закарабкался спросонок по ноге Алехина и снова затих.
– Фантазируешь, – сказал караванный.
– На пустом месте, – ожесточась, отрезал Алехин.
Он взялся за весла, сделал несколько взмахов, – лодка скользнула по воде.
– Сегодня Туров мне: «Ваша, говорит, провинция деревья выращивает». Вот и все тут. И выходит, что он умный, а мы с тобой дураки.
– Ну, это ты через дугу лезешь!
– Не через дугу, Тарас Михайлович. И ты не в комиссии, мы с тобой так на так разговариваем.
– «Разговариваем». Очень ты горяч, Алехин. Приехал к тебе интеллигентный человек, из столицы, ну, верно, отдохнуть не прочь. А у тебя тут жара, купаться охота, рыбку поудить или с девушкой подискутировать. – Караванный смешно схватился за нос, ухмыльнулся.
Алехин поднял голову. Как все переменилось в минуту! Точно тихий снег в безветренный вечер роился над водой. Была та минута, когда с наступившими сумерками налетают на реку целые облака мотыльков, их так и зовут – «минутками». Они роятся, как тысячи снежинок, над темной водой, тонкой сеткой задергивают вечереющее, но еще светлое небо, и в полном безмолвии реки, в их судорожном роении точно слышится шорох мельчайших крыльев, и плещет рыба, прыгает из воды, и все это поселяет в душе чувство жизни, неистребимости жизни, желание жить дальше, дольше, чтобы еще не раз увидеть эту живую сетку над медленной рекой, огромное небо, просторный мир вокруг, всю землю, хорошо населенную людьми, с ее пашнями, городами, фабричными трубами.
– Ох, и рыбы вышло со дна! – сказал Тарас Михайлович.
– Скрытный ты человек, – сказал Алехин.
– Рыболов я, рыба голоса не любит.
– Чувство при себе держишь.
– Ишь потолстел с чувства! – усмехнувшись, согласился караванный. – Главное – дело сделать. Завтра посмотрит Туров твой черный дуб, даст заключение. Это сейчас главное звено, – хватайся, не бойся.
– Я боюсь?
Алехин вскочил, – лодка качнулась, щенок проснулся, поднял голову.
– Не мути воду, – сказал караванный.
Алехин вспомнил грозу и ссору с мастером, махнул рукой и сел.
– Ты всегда споришь, и нет в тебе никакой основательности, – говорил Тарас Михайлович. – Чуть что: «Баланда, баланда!» А сам не знаешь что к чему.
– А ты не споришь?
Они оба улыбнулись.
– Давай так решим, – сказал караванный. – Если завтра Туров будет и на выкатке безобразничать, мы его высадим на берег, вместе с чемоданом, прямо в лесу, пусть идет на станцию. Там восемь километров, доберется.
– Я уж подумал об этом. Высадим. Если не дуб – высадим.
Им стало веселее от принятого решения.
Мотыльков уже не было над водой. Смеркалось. Вдали загорелся огонек, – шел грузовой пароход с верховьев к устью. Звякнул поздний комар.
– Эй, Володя! – крикнул Алехин в сторону катера. – Опусти вымпел! Зажги топочный фонарь!
Туров стоял на корме.
– Нет здесь Володи! – крикнул он.
Мастер слышал, как погрузил в воду весла Алехин, лодка двинулась к катеру. Мастер докурил, бросил окурок в воду, он остался на месте. По песку, там, где лежали рыбацкие лодки, расхаживали вороны. Они шагали степенно и почему-то напоминали больших черных собак.
«Медленная река», – подумал Туров, и ему вдруг, несмотря ни на что, захотелось домой, в первый раз за время поездки.
10
Под утро река окуталась туманом. Выйдя на мокрую палубу, Алехин представил себе, как сегодня они высадят в лесу Турова и кончится история черного дуба. Останется предутренний туман над рекой, белый фонарь на мачте, зеленый кустистый берег, тускло отраженный в тихой воде. Останется карчеподъемный паром, выкатка с грудой черных стволов – бесполезных, негодных даже в огонь.
Алехин крутнул сирену в рубке, – с близкого дерева слетела потревоженная птица. Володя со шваброй и ведром показался на корме. На катере проснулись. Тарас Михайлович в кубрике окликнул Мишу. Володя пятился по палубе, протирая ее шваброй.
Мастер брился. Алехин искоса взглянул вниз, в окно. Туров сидел перед зеркалом и сильно бил себя по бритым щекам, смазанным вазелином, и стонал – не то от боли, не то от удовольствия.
«Этот чиновник собрался на выкатку, как к себе в контору». – Алехин чувствовал, как накипает в нем злость.
Он постучал в окно.
– Поторопитесь, профессор!
– Я не профессор, я мастер, – отозвался Туров.
Алехин не дал ему даже напиться чаю. Караванный внимательно оглядел Алехина, пожевал губами, подумал и сказал:
– Идите, я вас подожду, мне неохота…
Туман еще не разошелся, но солнце поднималось в его белой кипени, и он редел, колебался над рекой подвижной завесой. Тропинка вилась вдоль берега в высокой траве, меж кустов. Алехин шел, не оглядываясь, расталкивая траву ногами. Туров едва поспевал за ним.
– Как на дуэль пошли, – сказал им вслед Тарас Михайлович.
– Без секундантов, – сказал Миша.
Туров не считал себя тонким ценителем пейзажа. Увидев что-нибудь красивое – море в Байдарских воротах, Клязьму с купающимися дачницами, – он говорил с восточным акцентом: «Пах! Пах!» – И это глупое восклицание помогало ему освоить увиденную им красоту.
Так и сейчас, увидев деревья, и реку в тумане, и в густой траве белую повитель, и синие цветы цикория, и колючки, словно свежевыкрашенные под цвет цинкового ведра, он сказал:
– Пах! Пах!
Алехин угрожающе обернулся:
– Что вы сказали?
– Ничего, красиво, – ответил Туров. – Куда вы так спешите?
Но Алехин уже шагал дальше.
– Ах, милый сударь воробей, куда вы так спешите? – напевал мастер и улыбался, вглядываясь в озабоченную спину начальника малых рек, в его загорелый затылок.
Алехин слышал, как резвится за спиной Туров, и вытягивал голову и напрягал шею от негодования. Он ускорял шаг, чтобы хоть немного успокоить себя.
Туров сел на мокрую траву, торопясь, чтобы не упустить из виду Алехина, снял туфли, привязал их к поясу, пошел босиком. Теперь всю свежесть этого не московского утра он ощущал босыми ногами. Парусиновые штаны от росы промокли до колен.
Справа от тропинки показался шалаш. В нем сидел старик, а у костра, на котором стоял закопченный чайник, возилась старуха с морщинистым лицом и выдавшимся вперед подбородком.
Дым костра обдал Алехина.
– Здравствуйте, старые.
– Здравствуй, отец родимый, – надтреснутым голосом заговорила старуха.
Внизу, у реки, трое мальчишек вылавливали в воде куски коры, срезанные вдоль ствола, и сдирали с ее внутренней, набухшей стороны белую лубяную тесьму. Скрученное жгутом мочало было развешано на кольях – от реки до самого шалаша. Весь берег был завален корой, она плавала и на воде большими плотами.
На минуту Алехин заколебался: захотелось сойти к берегу посмотреть, хорошо ли ребята сгоняют мочало, и пусть москвич один идет на выкатку и пишет в блокнот все, что вздумается. Но подошел, уже обувшись, Туров, и Алехин двинулся дальше по тропинке в сторону уже видневшегося поля выкатки.
Если бы спросить его, спокоен ли он, он бы не знал, что ответить. В конце концов его дело – от мая до ноября держать в чистоте фарватер реки. Плоты идут. Рыбаки тащат бредень. Бакенщик зажигает фонари. Землечерпалки сходят на Волгу. Шмаков рвет динамитом камень. «Чайка» плывет вверх по реке в понедельник, возвращается в устье в пятницу; в трюмах – хлеб, яблоки, спирт, льняное семя, – и ночью на всех пятидесяти перекатах лоцман проводит судно меж огней – красных с горного берега, зеленых с лугового. Прав Шмаков, дело маленькое – служба: топорик и якорь.
Он взбежал на пригорок, с которого открывалось поле, заваленное карчой. Это и была выкатка на Быстром Яру. Здесь было вынуто в навигацию сто сорок дубов. Гладкие, словно облизанные огнем, обугленные стволы лежали в беспорядке у берега до самой опушки леса. На песке, у реки, стоял «панкрашка» – врытый в землю станок, которым карчу выкатывали на берег. А по краям поля множество следов от костров – закоптелые камни, зола и головешки. Немало ночей здесь провели рабочие с парома и с ними Алехин. Запыхавшись, Туров взошел на бугорок.
– Вот, посмотрите, – сказал Алехин так, точно перед ним его квартира, разграбленная и разоренная. – Вот, посмотрите.
Туров оглядел поле. Медленно подошел он к ближайшему стволу, обросшему крапивой; несколько трещин прошло по его тусклой, лишенной ветвей поверхности, – он, видимо, пролежал здесь дольше других. Туров перешагнул через него и приблизился к следующему стволу.
«Вот он шагает», – подумал Алехин, и сердце его сжалось.
По краю поля он обошел выкатку и спустился к берегу.
Переходя от одного ствола к другому, Туров присаживался на корточки, щупал ладонью обломанные концы.
– Это не то. Вот оно, вот оно, – шептал он, и чувство, которого давно не испытывал, поднималось в нем, и он шагал от ствола к стволу.
Он работал сейчас. Один из стволов перевернул, побагровев от натуги; потом присел на нем, подсунув под себя ладони. То, что в Москве, в конторе, среди казенных бумажек, докладов, отчетов, представлялось ему чужим и докучным делом, лежало перед ним в тишине туманного утра на этой заброшенной реке. Да, это был черный дуб отличной консервации, по крайней мере трехсотлетнего режима.
Туман сходил с реки, одна за другой спадали его завесы, за которыми скрывалось солнечное утро. Там, у реки, среди нагроможденных в беспорядке черных стволов, металась по берегу взад и вперед нескладная фигура Алехина, – точно плотник из сказки, что-то разыскивая и не находя, бегал по своей гигантской плотницкой мастерской.
Мастер встал.
– Алексей Петрович! – крикнул он и пошел к нему навстречу.
Алехин остановился, недоверчиво поглядел на Турова, потом решительно заложил руки за спину и тоже пошел к нему.
Так они сходились, пробираясь между стволов, обходя корявые стопудовые комли в человеческий рост, прыгая с карчи на карчу.
И пока шли друг другу навстречу, Алехин от душевного смятения ни о чем не думал, а Туров думал о том, что должен сейчас осчастливить этого человека, и что-то похожее даже на зависть шевелилось в нем.
– Могу вас поздравить, – сказал Туров, когда они подошли друг к другу, – это настоящий черный дуб.
Он засмеялся, – захотелось еще раз поддразнить чудака, не сразу наградить его счастьем.
– Ну, не совсем, конечно.
– Черный, но не совсем? – переспросил Алехин.
В эту минуту он понял, что все его сомнения – пустое, что не зря рисковал, но странно – не радость тотчас наполнила его, а гнев. Сейчас он смотрел на Турова, как на врага, повергнутого и обезоруженного.
– Да, не совсем полной консервации, – добродушно заметил Туров и вынул платок, чтобы скрыть улыбку.
– Одного года не хватает?
Туров засмеялся.
– Невыдержанный товарищ! Невыдержанный! Вот вроде этого, – и он пнул ногой в ствол черного дуба.
Алехин не слышал, что говорил Туров, – он, пожалуй, и не видел Турова. Он торопился досказать самое злое, что мог придумать:
– Одного года до тысячи лет? Так пока разные бюрократы… и дармоеды… обсудят…
– Это обо мне?
Алехин лез на него с кулаками.
Туров схватил его за локти, удерживая на расстоянии от себя, боясь, как бы тот не ударил его головой.
– Что вы, милый человек! Не понимаете шутки! Это замечательный дуб. Чудесное дерево! Бросьте, бросьте! Цены ему нет! Успокойтесь, чудак такой…
Они возвращались к катеру той же тропинкой. Опять Алехин шагал впереди, а Туров шел за ним следом, подталкивая его иногда в спину. Припадок кончился, теперь с Алехиным можно было делать все что угодно, он был счастлив.
– Вы все время меня допекали, Денис Иванович, – говорил Алехин. – Я ведь не специалист, верно. Но сколько я всего обдумал за год.
Старик и старуха стояли у тропы, дожидаясь возвращения Алехина.
– Погоди, будь уж так милостивый, мы до тебя, Петрович, – заговорила старуха, когда Алехин поравнялся с ними.
«Знают по имени-отчеству», – подумал Туров и остановился позади Алехина.
Старуха жаловалась Алехину, что сыновей будто приворожили на брандвахте: второй месяц работают, выходных не берут. А без ребят трудно управиться.
– Старые мы, не молодежь… – всхлипнул старик.
– Он знает, что мы не молоденькие, – перебила его старуха.
– По восьмому десятку доходит, без двух годов.
– Какие уж работники! – досказывала старуха.
Их согласный разговор нравился сейчас Алехину, хотя старые просили о тех самых прогульщиках, на которых жаловался Шмаков.
– Попьем чайку у старых? – предложил Алехин.
– Что, совесть заговорила? Голодного меня погнали с катера.
Ребята побросали ножи, и, сперва самый маленький и самый любопытный, потом те, кто постарше, подошли к шалашу.
Алехин лежал на траве лицом к реке. Туров сидел на пеньке. Пили чай из граненых стаканов, между ними стоял чайник, и на листе лопуха лежал колотый сахар. Старуха ходила у костра и все приговаривала низким, надтреснутым голосом. Старик присел в сторонке.
– Старость вам не страшна? – спросил Туров.
– Нет, – ответил Алехин, прислушиваясь к тому, что говорила старуха.
– Он у меня стар, зуб нет, – говорила она о муже, точно так, как только что он говорил о ней. – Да и сама я – у бога баба.
– Нет, старость мне не страшна, – повторил Алехин. – Знаете, что самое страшное?
– Что?
Алехин, опершись на локоть, задумался.
– По-моему, самое страшное… – он помолчал, – равнодушие…
– Опять обо мне? – прищурившись и положив голову набок, жирной щекой на плечо, спросил Туров.
Алехин молча смотрел на реку.
Там все было ясно. Тумана не было. Сквозь ветлы проглядывала река, – отсюда была видна ее даль, освещенная солнцем, снаряд, на котором рабочие тащили комель.
Все было слышно над рекой до малейшего звука. За два километра, разобранная по голосам, доносилась с парома песня.
Горная… Лугова-а…
Посулила – не дала-а…
«Безобразники», – подумал Алехин и улыбнулся.
– Что они поют? – спросил Туров.
– Чудо певцы! – сказал Алехин. – Расскажите-ка мне, Денис Иванович: что все-таки будут изготовлять из черного дуба?
И Туров, как будто бы нехотя, но все же воодушевляясь понемногу, стал рассказывать Алехину, что может изготовить мастер из куска черного дуба.
А из кустов, от катера, шел к ним сердитый Тарас Михайлович. Прыгая босыми ногами по мокрым мосткам, перекинутым через топь, Мишка бежал за Тарасом Михайловичем.
1937
Араукария
Жизнь всегда беспокоила, тревожила Дробышева. Неприятности следовали одна за другой. Дробышев едва успевал от них увертываться. И снова текли бесполезные дни, имевшие только видимость пользы и блеск поверхностного счастья. Так он состарился. Теперь об этом можно рассказать по порядку.
Лето 1905 года студент Дробышев провел в уездной больнице, на Волге. Пароходы стояли у причалов, почта запаздывала. Чтобы не сдуреть от скуки, студент допоздна засиживался в доме лесопромышленника. Молодая хозяйка вырезала из черного дуба негритянских божков, племянница читала декадентские стихи, тихонько подыгрывая на рояле; хорошенькая компаньонка, Аннушка, часами стояла на веранде, заросшей плющом, и всматривалась в даль – не горит ли баржа на Волге или чья-нибудь усадьба.
Однажды Аннушка утюгом подпалила шифоновую блузку хозяйки. Дробышев был свидетелем некрасивого разговора; хозяйка в сердцах швырнула черного божка в окно, он застрял в плюще. Аннушка присела у рояля с книжкой в руках, бледная, растерянная, и весь вечер собиралась заплакать.
На следующий день, почувствовав неловкость, хозяйка подарила компаньонке испорченную блузку. След утюга был искусно задрапирован шелковым бантиком.
По необъяснимой случайности именно эта история с блузкой заставила Дробышева заинтересоваться хорошенькой компаньонкой. Он стал бывать у нее, носить ей полевые цветы. Что ни вечер – он шел, подтянутый, в белом кителе с золотыми пуговицами, по тропинке мимо пустырей, заросших мальвами, по задам усадьбы, к калитке. Там его ожидала Анна Никодимовна.
Этот студенческий роман показался лесопромышленникам неприличным. Дробышеву отказали в знакомстве. Охранявшим усадьбу ингушам было приказано не пускать студента, даже стрелять по нем солью, но Дробышев нашел новое место для свиданий с Анной Никодимовной. Осенью они обвенчались в белой церкви, под вечер, когда вокруг освещенной солнцем колокольни стаями кружились ласточки и стрижи.
Через три года Дробышев стал врачом.
В маленьком городке, на родине Анны Никодимовны, Дробышев отказался от места ординатора в больнице. Он скучал, но изредка больные появлялись в его кабинете. Их приходилось долго дожидаться. Молодой врач в белом халате сидел за письменным столом, усыпанным лепестками увядших роз. Почему, собственно, он отказался быть ординатором? Почти все его товарищи по курсу пошли работать в больницы. В раздумье он ворошил опавшие лепестки и однажды, в рассеянности, словил муху, усадил ее в лепесток, скрутил цигаркой и только тут, опомнившись, огляделся. Ничего, он был один в кабинете.
Он звал жену, она послушно раздевалась, как на приеме, оставляя на себе юбку. Он выслушивал ее, просил дышать, кашлять. Аннушка хихикала. Он пальпировал ее живот, нащупывая селезенку. Это называлось у них частной практикой доктора Дробышева. У Анны Никодимовны долго не было ребенка. Скучая, она просила отпустить ее на курсы лекарских помощников, но очень робко она просила, а муж был рассеян. А через два года Анна Никодимовна забеременела, и уж тут было не до учения.
Когда началась война, доктор Дробышев заинтересовался своим здоровьем. Военная комиссия нашла у него инфильтрат легких. Дробышевы перебрались в Ялту. Из Симферополя они ехали в открытой коляске и видели с горы, как тонул парусник, атакованный турецкой подводной лодкой. Был ветреный день, была осень. Анна Никодимовна боялась простудить девочку и поверх одеяла и шали положила на ребенка фетровую шляпу мужа. На горизонте в море цепочкой тянулись миноносцы, слышались орудийные выстрелы.
В Ялте было весело. Курортные врачи приняли Дробышевых в свой круг, и, хотя по вечерам нельзя было зажигать свет в комнатах, обращенных к морю, и город погружался во тьму, маленькая компания выпивала, резвилась. Были поездки в экипажах на Яйлу, возвращения оттуда при фонарях, нестройные песни, испуганные восклицания дам.
Анна Никодимовна подружилась с докторскими женами, с утра забегала приятельница, они целовались при встрече.
– Ах, Аннушка, вам нельзя загорать!
– Что вы, милая, я бледна как мертвец.
Они поглаживали друг друга с приторными улыбочками, с особенным, как бы щебечущим выражением лица.
– Ах, какая прелесть! Какой вкус!
– Что вы, обыкновенная татарская рубаха.
Наступало рождество. Дробышевы, отказываясь от приглашений, проводили вечера дома вдвоем. Они пили глинтвейн в докторском кабинете, где на большом бюро в образцовом порядке лежали книги и медицинские инструменты, а в углу на камышовой жардиньерке стояла араукария с зажженными свечами – растение, похожее на елку, с прямым жиденьким стволом, густо обросшим зеленой хвоей, и мохнатыми, извилистыми, горизонтально разбежавшимися ветвями.
Свечи потрескивали, комнату наполнял рождественский запах, девочка спала в соседней комнате.
Анна Никодимовна точно знала, сколько нужно нарезать свечей – по числу веточек. Из года в год их было одно и то же число. Араукария не росла, как росли другие растения, не тянулась ни вверх, ни в стороны, – какое-то летаргическое деревцо. Кто-то советовал пересадить его в большой горшок, но Дробышеву нравились карликовые размеры деревца.
После революции жить стало и легко и трудно, все смешалось – важное и неважное, власти в Крыму сменяли одна другую. Были большевики, затем пришли немцы, затем во второй раз были большевики. Надолго задержались белые, и Дробышев вошел в моду. Его приемная была переполнена, но доктор сам не знал, действительно ли он теперь лечит лучше, чем на родине Анны Никодимовны.
Пшют из гвардейских дезертиров, загорелый и щеголеватый, точно негр из оркестра, о чем-то конфиденциально шептал на ухо Дробышеву, и тот легонько выталкивал его из кабинета. Пышную молодую генеральшу в прозрачных панталонах доктор однажды придержал за локоть в своем кабинете, она сказала ему: «Пустите», но не рассердилась. Великая княгиня входила в кабинет с чахоточной красавицей дочерью. Дробышев три месяца держал княгинину дочь под наблюдением, что-то прописывал, что-то запрещал, снова выслушивал, щекоча мохнатым ухом ее белую тонкую спину. Уже начиналась эвакуация, когда Дробышев в последний раз осмотрел больную девушку.
– Кто будет лечить вашу дочь в Стамбуле, мадам? – хамовато посмеиваясь, спросил он старуху; она растерялась и что-то невнятное процедила сквозь зубы.
Ночью за Дробышевым заехали знакомые офицеры, он догадался, зачем он им нужен, как только они позвонили. «Мы хотим показать вам виды Крыма. Утром вы будете дома». Почти насильно они увезли доктора. Там, в черноте запертого двора контрразведки, стояла толпа босых, оборванных людей, окруженных конвоем. Их посадили на грузовик, ворота распахнулись. Это была поездка за город, в сторону Яйлы. Дробышев сидел на борту кузова, держась за него руками. Мелкая собачья дрожь охватила его всего. По этой горной дороге Дробышев не раз возвращался в компании с пикника, он привык слышать в этих местах нестройное пение, веселые выкрики из экипажей; теперь люди молчали, грузовики без фар медленно взбирались в гору. Но он не хочет присутствовать при расстреле! Не хочет, не хочет. На одном из поворотов дороги, выждав минуту, доктор не то чтобы выскочил, а вывалился из грузовика и остался один в лесу.
Он отморозил руки, в полузабытьи набрел на избушку лесного объездчика-татарина и жил у него несколько дней. Отсюда он видел, как отплывали последние пароходы.
В Крыму был голод, на базарах лениво и бесполезно бродили люди. Анна Никодимовна с трудом выменивала полученную в больнице бутылку вина на буханку красноармейского хлеба. Дробышев во дворе колол на щепки крепчайший, точно камень, дубовый пень. У девочки гноились пальцы под ноготками. Как только темнело, Дробышев проверял болты на дверях. В квартире жил по ордеру коммунист, член правительственной комиссии из Москвы. Доктор часто допоздна дожидался его, чтобы открыть дверь.
Сидели при коптилках, не было света. Дробышевский жилец с утра заседал в горисполкоме, вечером, захватив монтерский инструмент, как простой рабочий, шел на электростанцию починять испорченный дизель.
Он работал там до глубокой ночи. Дробышев засыпал у коптилки; часто ему снился один и тот же сон. Ему снился последний отряд белых – тот, что пришел в город, когда пароходы отплыли. В отряде были одни офицеры, они спешились у мола, зажгли костры на набережной, грелись. Им уже некуда было торопиться. Дробышеву снились расседланные офицерские лошади, они разбрелись по улицам, бродили в садах, обрывая каштановые листья, и одна лошадь, самая тощая, зашла во двор к Дробышевым, устало брела по кругу, цокала копытами. От этого кружения Дробышев просыпался, подливал дельфиньего жира в пузырек, чтобы коптилка не потухла.
А комиссар приходил под утро, молча мыл руки, не жалея воды. Он был усталый, истощенный. Иногда он оставался дома, но и тогда работал за докторским столом; или играл с девочкой и однажды ее напугал: ел виноград и вдруг заснул на стуле среди бела дня, зажав в ладони косточки. Он был сибиряк, старый подпольщик, монтер с маленькой электростанции на золотом прииске.
– Вы знаете, – сказал он Анне Никодимовне, – в этих кипарисах ваших, когда их раскачает, разлохматит ветер, есть что-то медвежье. Честное слово… И мне почему-то сразу дом, семья вспоминаются.
На юге ему не нравилось, и он повеселел, когда включили электрический свет, город ожил, открылись первые здравницы, потому что знал, что теперь скоро Москва отзовет комиссию, и он уедет.
С заводов и фабрик, из деревень приезжали люди на отдых, их размещали в пустующих особняках, в гостиницах, в Ливадии. Это были рабочие, крестьяне. Дробышев лечил их не хуже, не лучше, чем прежних своих пациентов. Он бегал по здравницам, в свободный часок забегал в бильярдную. Он боялся заскучать. Он пристрастился к игре, его красные отмороженные пальцы, измазанные мелом, впивались в зеленое сукно стола. Внешне Дробышев немного опустился, в разговоре с больными допускал остроты, которых не позволил бы себе прежде.
– Я не граф, – говорил он по всякому поводу.
Или еще того хуже: на консилиуме, у постели больного, говорил коллеге:
– Смешно! Вы не граф. – И действительно смеялся, потирая лицо красными пухлыми пальцами.
Летом лицо доктора Дробышева покрывалось загаром, тогда под правым веком обнаруживался светлый узелок шрама, оставшийся после поездки на Яйлу. Но зимой лицо бледнело, шрам исчезал.
Каждый месяц в санаториях менялась публика: то инженеры, то учителя, то командиры Красной Армии. Здесь, в кабинете санаторного врача, они раздевались, дышали, как он велел, кашляли и были доверчивы, как дети, отвечали вдумчиво и смущались, когда Дробышев, тыкая их в живот пальцем, спрашивал:
– Ну что, мясца приехали нарастить?
Он каждого выщупывал, выстукивал, бил по вытянутым пальцам, каждому задавал неизменную серию вопросов. Чем болел в детстве? Вспыльчив ли? Потеют ли ноги?
Заполняя «форму», он думал о новой квартире, предоставленной ему дирекцией санатория. Иногда, запустив руку в карман халата со стетоскопом, он с удовольствием натыкался на круглую плотницкую рулетку.
Среди платанов и кипарисов доктор Дробышев пристраивал к домику веранду. В поисках шурупов Анна Никодимовна носилась по базару с монтерским чемоданчиком, оставленным комиссаром. Анна Никодимовна была уже не та, что прежде: располнела и как будто укоротилась. Она стала домовитой хозяйкой, осенью варила варенье, летом купала квочек в кадке с дождевой водой. На кухне в новой квартире она велела прорубить в дымоходе отверстие для самоварной трубы.
Круглый год дом перестраивался. Полы быстро пачкались, как всегда в новом доме. Каждый день все в доме перетиралось тряпкой, это вошло в привычку. Все вещи сдвигались с мест. Полдня стулья торчали в беспорядке посреди комнаты, и доктору, когда он забегал домой позавтракать, казалось, что стульев стало больше.
Муж и жена спали в разных комнатах, дочь звали каждый по-своему: отец – Ликой, мать – Лесей. Девочка носила красный галстук, училась музыке, ходила на уроки танцев. Анна Никодимовна была с ней дружна. По ночам Леся перебегала к матери на постель, они болтали о разных пустяках. Дробышев часто возвращался домой под утро. Проголодавшись за разговором, мать и дочь на крыльце, в саду, растапливали кипарисовыми шишками самовар и коптили над самоваром на ниточке камсу. Они любили копченую камсу.
Дробышевский сад был расположен, как все сады в Ялте, на склоне горы. Осенью в саду тихо, видно, как далеко-далеко, под деревьями, у каменной ограды, порхает белая бабочка.
Дом Дробышевых был из тех, о которых говорят – «полная чаша». Из открытых окон неслись фортепьянные гаммы. Парадная дверь полуоткрыта, на цепочке. Две финиковые пальмы у подъезда. Отгородившийся от улицы низкой каменной оградой, дом Дробышевых напоминал посольский или консульский особняк. Леся утром ходила в школу, после обеда – на урок танцев. Анна Никодимовна поджидала ее на набережной, они гуляли, иногда шли в кино. С мужем Анна Никодимовна давно не выходила на набережную.
Уже три года он жил с другой.
На рассвете Дробышев подходил к калитке, отпирал ее, крался по шуршащему гравию к подъезду, звонил и прислушивался. Вилка настольной лампы втыкалась в штепсель, слышалось шуршание ночных туфель. Он хорошо знал этот сонный шорох. Анна Никодимовна молча снимала цепочку, открывала дверь.
Она не любила мужа, ей было все равно, есть ли у него другая женщина или нет. Так она привыкла думать. Она не могла сказать ему об этом только потому, что у них была дочь. Она поняла, что не любит мужа, остановившись как-то под окном учительницы танцев. То и дело прерывался простенький вальс на рояле, и резкий голос любовницы ее мужа отсчитывал ритм упражнений.
– Пассэ! – кричала учительница, притопывая ногой. – Делайте и-и, два и-и, три и-и… Rond de jambe… Что я вам говорю, дети: если направо, так не налево, если вперед, так не назад… Делайте – раз и-и…
Однажды, когда Дробышев вернулся из санатория с мокрым от дождя зонтиком и молча распяливал его на веранде, Анна Никодимовна, сжав кулаки, подошла к нему и сказала:
– Ты негодяй! Я ненавижу тебя, твой сальный нос, алчные губы.
Они стояли на веранде. Только что прошел летний дождь, солнце осветило веранду и сад, садовую лейку, брошенную на дорожке.
Но и эта сцена не помешала им, когда наступил Новый год, сидеть у сверкающей огнями араукарии.
Маленькое деревцо не выросло. Живо ли оно? Года проходили, солнце стелило свои прозрачные ковры на полу веранды. Наступала зима, были дни, когда снег падал тяжелыми мокрыми хлопьями, и за окном деревья надламывались под тяжестью внезапного южного снегопада.
Дробышев был еще студентом и жил с женой в маленькой комнатке возле университета, когда профессор, читавший курс гистологии, подарил молодым это растение. За тридцать лет араукария в тесном горшке отрастила только один этаж мохнатых горизонтально-извилистых веточек. Профессор состарился, жена умерла, и, преподнося молодым подарок, профессор прослезился: «Вот модус жизни, господа!», а извозчик, внесший за профессором елочку, осторожно устанавливал ее на шаткой этажерке, заваленной книгами.
И вот Дробышевы были снова вдвоем, как в молодости.
Все могло быть не так, как случилось, не в том порядке или даже вовсе не быть.
Лика училась на мостостроительном факультете в Москве, вступила в комсомол, писала редко, ей все было некогда, – она была отличница, и у нее чуть ли не пять общественных нагрузок. Прочитав письмо, доктор аккуратно вкладывал его в конверт и прятал в ящик письменного стола.
Жене он сказал:
– Мосты, которые выстроит наша дочь и ее приятели, смогут выдержать только общественные нагрузки.
Учительница танцев в одну из зим исчезла, Анна Никодимовна вздохнула свободно. Дробышев приходил домой рано, рано ложился спать.
В январе Дробышев поехал в Москву на врачебную конференцию. Анна Никодимовна осталась одна. Дробышев писал, что Лика, не слушая его советов, отправилась в Горький на строительство автозавода, он провожал ее. На вокзале играл оркестр, на перроне было много народу, говорились речи. На автозавод по мобилизации уезжала партия московских комсомольцев.
Дробышев не выступал на конференции, но в кулуарах спорил, знакомился, был охвачен, как он писал, «общим настроением подъема, энтузиазмом всей корпорации». В последние два года он перевел с английского несколько статей и начал самостоятельное исследование по истории кремации в Англии. За погребение на лондонских кладбищах взимается несколько гиней – цена непомерно высокая. Доктор задержался в Москве и, насколько позволили имевшиеся в библиотеках источники, проследил за два столетия всю историю постепенного удорожания лондонских погребений.








