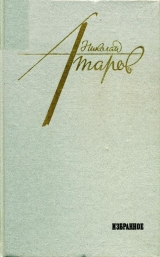
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц)
«ДЕНЬ ДРУЖБЫ»
Вот уже неделя, как уехал Митя. Оля осталась совсем одна. Это было самое плохое время в ее жизни.
Три дня заняли проводы няньки. Прасковья Тимофеевна отправлялась к брату, в совхоз. Перед отъездом она снова приходила – уговаривала Олю ехать в деревню, молча выслушивала усовещивания Марьи Сергеевны и только поддакивала скучно: «Я ж понимаю, девочке учиться надо… Я ведь не кругом стриженная, понимаю». Видно было, что сердцем она не верит. Ей трудно было расстаться с Олей, которую вырастила в самые тяжелые военные годы, и голова ее заходилась от всей этой карусели мыслей и соображений.
У вагона еще поплакали, пообещали писать друг другу, и когда Оля вернулась с вокзала, она быстро и молча легла в постель.
– От Мити открытка, – сказала тетя.
– Да? Уже из Калуги?
– Нет, с пути.
– Спать хочется, спокойной ночи.
По вечерам, избегая откровенного разговора с Марьей Сергеевной, Оля шла в скверик, разбитый внутри двора, садилась на скамью. Здесь хорошо; она даже не догадывалась, что это оттого, что ярко светит над головой электрический фонарь. Она говорила с собой, с мамой, с Митей. Если бы мама! Мама пожалела бы ее без слов, без объяснений. Просто прижала бы к груди, и можно было бы долго-долго плакать. А потом стало бы легче. А Марья Сергеевна хочет помочь, но у нее не получается – то в кино зовет, то говорит, что человек проверяется в испытаниях. Она не догадывается, как трудно делать вид, что ничего не случилось. Она не подозревает, что самое скверное не Белкин, не Антонида Ивановна, даже не то, что Марья Сергеевна отказалась от Симеиза. А то, что сплетня могла поссорить их с Митей. Он считает, что она ломалась, капризничала. Так, конечно, и всякий скажет – подумаешь, капризы семнадцатилетней девчонки! Но ведь он-то не всякий. Какая же она дура! Ох, какая дура! Только маме ничего не нужно было от нее. А всем надо. Надо, чтобы какая-то не такая была, какая есть.
Однажды она забрела далеко в сторону гидростанции. За сквозной оградой слышалось жужжание больших трансформаторов, стоявших среди травы. Когда Оля была в шестом классе, разнесся слух, будто часовой неосторожно поставил винтовку на оголенный кабель и был убит страшным зарядом электричества. С тех пор, проходя мимо и глядя сквозь прутья ограды, Оля всегда тревожилась, нет ли там кого неосторожного, и недоумевала, зачем так чисто подметены дорожки в этом саду подстанции, где никто никогда не гуляет. «Жить надо проще, – думала Оля, шагая по безлюдному переулку. – По-грубому. И главное – высоких слов не надо. Митя любит высокие слова. «Я бы сам возражал, чтобы тебя, такую, послали вожатой». Какую «такую»? Высокие слова. Разводить философию – это и Белкин умеет. А дело-то проще: когда человеку плохо, другому с ним скучно. Вот и пошел к Чапу. Вот и уехал».
В тот вечер Оля поздно вернулась домой. Где-то в окне четвертого этажа мужской голос пел:
В душе моей одно волненье…
Раньше Оле понравилось бы. Она прошла мимо своего подъезда. Марья Сергеевна, наверно, дожидалась – там, в квартире, горел свет.
«С этим надо кончать, – решила Оля. – Одно – принять помощь друга, а совсем иное – жить в тягость людям только потому, что они хорошие. Это значит принимать подаяние? Верно тогда Марья Сергеевна сказала ночью о княжне Болконской. Марья Сергеевна – благородный человек, и как же она должна думать обо мне, если я живу у них в конце концов за их счет?»
Перед домом прохаживались две знакомые женщины из соседнего подъезда. Оля слышала обрывки слов:
– Сыр чудесный, но если утром и вечером…
Они удалились, и тени их вскарабкались по стене. Через минуту снова вышли к подъезду, возле которого, медля войти в дом, стояла Оля.
– Я сказала ей: «Послушайте, двести грамм стоят четыре рубля сорок, я вам дала пять…»
«Сдачи не получила», – догадалась Оля. И вдруг лицо обожгло от стыда: она тоже забыла деньги вернуть. А Митя не напомнил. Это было перед ссорой, она взяла у него на стадионе. Оля нащупала в сумке смятые бумажки. «Девчонка, страдала, страдала, а девять рублей зажилила – три трешки». Она вынула деньги – трех рублей не хватало. Ясно, ведь она покупала зубную пасту!
На следующее утро она проснулась рано и побежала на переговорную. Ей нужно было во что бы то ни стало дозвониться до Егора Петровича: он поможет найти работу хоть бы на месяц – там видно будет. Быть самостоятельной. Зарабатывать деньги. Никогда Оля не думала об этом. А сейчас, после ссоры с Митей, ей казалось, что это единственный выход, что так поступают все дети, оставшиеся без семьи. Егор Петрович поймет. Она не придумывала слов, сидела на скамье, дожидаясь вызова, не мигая, глядела перед собой веселыми и злыми глазами. Позвали в кабину – побежала. Долго не могла понять, почему слышится женский голос. Оказывается – вот неудача! – Егор Петрович отправился в объезд по колхозам, будет через неделю.
В тот же день Оля встретила медичку, которая тогда добивалась приема у Белкина. Она все еще не уехала и в свободное время гуляла по чужому и очень нравившемуся ей городу. Девушка подошла к Оле, приветливо заговорила. И, как это почти всегда бывает в несчастье, именно ей, совершенно незнакомой, Оля рассказала все про себя и про Митю. Теперь-то она отлично понимала, что случилось: она ждала от Мити решений, действий и не дождалась; одна мальчишеская растерянность, да еще казенные слова; значит, не так ему хотелось с ней ехать в лагерь. Медичка старательно выслушала, как молодой врач своего первого пациента, и тоже посоветовала искать работу. О чем тут думать? Оля и не спорила. Только где же ее найти?
– А вы пойдите в горком. Вашего Белкина-то уж нет, – добавила девушка, усмехнувшись.
– Как нет? – недоверчиво переспросила Оля.
– А вы не знаете? Да как же это! Ого! Еще как!
Медичка так обрадовалась, что может сообщить эту новость, что даже присвистнула. Насколько ей, постороннему человеку, известно – та самая Рослова, член бюро горкома, которая тогда реплики подавала и ушла, рассердившись на Белкина, и поставила вопрос на бюро. Только Белкина и видели!
– Нет, вы правду говорите? – возбужденно добивалась Оля. – Откуда вы знаете?..
– Это я-то? Да я в горкоме днюю и ночую!
– Нет, о Рословой…
– Ну, и о Рословой говорят. К ней вам и надо в первую очередь.
Не прошло и двух часов, как Оля, не застав Рослову в горкоме, подошла к ее дому в далеком поселке, над которым гудело сразу несколько самолетов. Она не раздумывала, что станет говорить. Ей нужно было видеть Веточку.
К дому Рословой, оказалось, короче всего выйти Крапивным долом. Здесь девочкой Оля собирала щавель, и Митя помог ей наполнить ведро. Та же бахча. И те же повернувшиеся на закат подсолнухи.
Придерживая хрипло кашляющего пса, Рослова встретила Олю у калитки.
– Вот как хорошо! Вы просто молодец, нашли дорогу. А Митю не ждать?
– Он в Калуге, на соревнованиях.
– А я все-таки надеялась, что он сегодня придет.
Было видно, что Веточка огорчена.
– А почему? – растерявшись, спросила Оля.
– Да ведь все собрались. «День дружбы»! Вы разве не знали? Вот как здорово! Идемте же, будете вместо Мити.
Только сейчас Оля поняла, до чего невпопад она явилась. Она увидала накрытый стол под яблоней, узнала Митиных товарищей, Абдула Гамида в парусиновом пиджаке и тюбетейке, сидевшего на ступеньках веранды. И она очень смутилась.
– Ох, я не знала, я в другой раз! Пустите же, это неудобно!
Но было поздно. Веточка догадалась, что Оля хочет убежать – а, видно, неспроста примчалась из города, – и, сильно обняв за плечи, ввела в сад.
И все, что было дальше, Оля наблюдала, упрямо помалкивая, не заботясь о том, чтобы как-нибудь оправдать свое появление. Она не отвечала на бесцеремонные вопросы: «Почему ты не в Калуге?» Чап сверлил ее тревожно-пристальным взглядом, – вероятно, догадывался, что она пришла не на праздник. Абдул Гамид тоже чувствовался за плечом, но он-то не станет любопытствовать.
В зарослях ежевики Веточка воевала со своим сыном Афонькой. Его нельзя было увести из сада: кошка принесла котятам маленького ужа, и малыш был в восторге.
Мальчики ждали хозяина дома, капитана Огнева, и поминутно выбегали к калитке. Абдул Гамид, к которому все-таки подошла Оля, чтобы не сидеть одной, рассказал ей, что он ждет грузовик из города, чтобы утром отвезти сено для своей коровы и для коров еще двух учительских семей. Так повелось давно: аэродром шефствует над школой, и каждое лето учителям разрешается накосить несколько грузовиков аэродромной травы. Огнев помчался на аэродром распорядиться, с какого участка брать стога.
Капитан Огнев ворвался в последнюю минуту.
– Прошу за стол! Олег, Вася, Игорь, Эдик, Женька, – отсчитывала Веточка, пропуская к столу Пивоварова, Базарова, Шапиро, Мотылевича, Постникова.
Чап ревниво ждал, чтобы сесть рядом с хозяйкой, но та внимательно посмотрела на него и сказала Оле, показывая на место рядом с собой:
– Садитесь, Оля.
С другой стороны возле Оли примостились на одном табурете Афонька и румяный, сероглазый мальчишка в черном кожаном шлеме – сын дважды Героя Советского Союза. Это и был тот Салаватик, любимец Веточки, которого она обещала Мите показать. Салаватик сразу облюбовал себе в соседи Олю и, видно, не ошибся: не было в саду Рословой другого человека, кто бы, как Оля, так нуждался в немногословно-ласковом обществе маленьких.
Чапа заставили произнести первый тост.
– Я так скажу, Елизавета Владимировна… Это, может, наш последний «день дружбы». Хотя я глубоко не верю в это. – Чап ужасно косноязычил. – Скоро отъезд. А Бородин вообще смотался. Неизвестно, кого куда занесет в конце концов. Но память о нашей дружбе всегда останется. Пусть идут годы… – Он помолчал, воззрившись в небо, не то ища подходящих слов, не то слушая гул самолетов. – Пусть летят самолеты над головой. Но вот что мне хочется сказать… Каждый человек, тем более комсомолец, стремится понимать, что происходит вокруг него, чтобы правильно жить, занять свое место в жизни. Понимаете? Человек никогда не хочет быть маленьким! Даже в детстве… Вот вы, Елизавета Владимировна, это очень хорошо чувствуете.
– Попрошу все-таки без культа личности, – прервал оратора Огнев и, чокнувшись со своим соседом, с маху выпил за свою Веточку до дна.
Все повставали со своих мест, отчего снова стало тесно вокруг стола. Мальчики чокались с Рословой и друг с другом. Абдул Гамид пригнул голову Чапа и в знак одобрения дал ему подзатыльник.
В эту минуту, когда Оля стояла с рюмочкой в руке, Салаватик снял с себя пионерский галстук и молча сунул Оле в руку медный галстучный зажим. Оля с улыбкой посмотрела на мальчика.
– Такие давно вышли из употребления, – сказала она Салаватику.
– А я ношу… Это еще отцовский.
Он положил упрямо свою руку на ее, державшую этот зажим, закрыл ее ладонь и при этом очень смешно подморгнул.
– Если за дружбу, тогда давайте выпьем за Олю Кежун! Хорошо, что она к нам пришла, – сказала Рослова.
– Я просто не знала.
– Нет, знала, знала, – не стала слушать Веточка и, пока мальчишки разливали вино по рюмкам, крепко сжимала рукой Олины плечи.
– А ведь я работал с вашей мамой, – произнес кто-то на дальнем конце стола.
Оля, никогда не встречавшая этого человека, растерянно взглянула на Веточку. Та пояснила тихо:
– Это каменщик Брылев.
– Еремей Ильич!
– Он самый.
Рядом с летчиком сидел незнакомый Оле мужчина с рябоватым лицом, голубоглазый, невидный из себя, как будто и присевший поглубже, чтобы не обращали на него внимания. Его, верно, припекло на солнце – он надел фетровую шляпу и из-под ее пыльных, замасленных полей улыбался Оле. Когда все обернулись на его возглас, он снял шляпу, обнажив влажную лысинку с тончайшими волосками на висках, и стал вытирать платком мокрый клеенчатый ободок внутри шляпы.
Так вот он какой, тот Ерема, о котором мама рассказывала, когда играли в фанты. Столько нахлынуло сразу воспоминаний, что Оля молча села, забыв даже ответить Еремею Ильичу. Так посидела она недолго, слушая разговор; потом осторожно привстала и вышла из-за стола. Оттого, что среди мальчишек Оля увидела маминого сослуживца, она представила себе, что тут же могла быть и мама; и эта мысль, уже без примеси заботы о себе и собственном горе, заставила ее выйти за калитку.
В поле теленок гулял по жнивью. А на проселке, в ослепительном солнечном свете, кто-то стоял посреди дороги, разговаривал сам с собой и жестикулировал. Оля узнала Салаватика только по школьному портфелю, который только что подарила ему Веточка. Мальчик расставил ноги и сел, засмеялся, сидя уже на земле. Портфель лежал в пыли. Салаватик не думал, что кто-то наблюдает за ним в минуту его полного блаженства.
Оля оглянулась. Веточка стояла рядом.
– Вот шкода! – сказала она, заглядевшись на Салаватика.
– Откуда Брылев у вас? – спросила Оля.
– А вы что знаете о нем?
– О нем мама много рассказывала. Он изобрел контейнер для кирпича.
– Вот видите, как получилось. Он наш сосед. – Рослова внимательно посмотрела на Олю. – А почему вы не поехали в Калугу?
– Мы с Митей разбежались кто куда, – спокойно ответила Оля.
Скрипнула калитка. Длинный Чап озабоченно выглядывал Олю. Рослова сказала ему:
– Ты уйди, Чап. Нам поговорить нужно.
И когда Чап послушно исчез, Веточка переспросила:
– Ведь нужно?
Оля кивнула головой.
– Сейчас пойдем к рыбакам, там и поговорим, – сказала Рослова. – Этот день всегда кончается у нас на озере. Пойдем?
– Он заскучал со мной, – сказала Оля, думая о своем.
До рыбацкого стана на берегу озера было километра два. Капитан Огнев и каменщик ушли вперед. Мальчишки окружили Абдула Гамида. Шли, пели песни. Оля не отходила от Рословой, а позади плелся усталый Салаватик. На полпути догнал компанию Веточкин пес, «коломенский сенбернар», и тут, вдали от дома, оказался на редкость ласковым, развилялся Оле хвостом.
Озерко мутилось по-вечернему. Ястреб кружил в небе – чуял поживу: ему видно с высоты, как рыбаки в резиновых сапогах раскладывают невод на пригорке. Стороной шло стадо. А дальняя деревня с края аэродрома была освещена закатным солнцем, и ярко выделялось на изгороди красное одеяло, в небе – белое облачко, и по жнивью бежали из деревни к озеру мальчишки.
Когда Рослова и Оля подошли к стану, летчик и каменщик сталкивали лодку в воду. Прямо на берегу стояла хибарка, в которой возилась у печи женщина. Больной рыбак с лихорадочным румянцем на щеках знобко ежился, пил воду из графина. А у корыта, в котором плескались маленькие утята, расселись три девочки, поджав босые ножки. И синий виток дыма поднимался над станом.
Рыбаки знали летчика, и было видно, что не впервые к ним приходят городские люди подсоблять тащить невод.
– Оля, сюда, – сказала Рослова, прыгнув в лодку.
Они поплыли вдоль берега. Рослова – на корме, а Оля гребла.
– Что случилось у вас? – спросила Рослова.
Оля задержала весла в воздухе, следя за тем, как бегут с них прозрачные капли.
– Когда человеку плохо, другому с ним скучно.
Эта мысль неотвязно преследовала ее, но, когда она впервые произнесла ее вслух, ей стало стыдно, и она заторопилась:
– Это в общем не важно. Этого не поправишь. Я пришла потому, что когда мы с Митей ссорились, я сказала сгоряча, что вы… вроде Белкина. А сейчас узнала, что это неправда. Совсем неправда. Ведь вы после этой истории воевали за нас.
– Но Белкина прогнали не из-за вас, – возразила Веточка. – И воевала я не за вас. Белкина давно надо было снимать, мы опоздали с этим. И то, как он с вами обошелся, – это только было лишнее доказательство. Но теперь об этом даже не стоит говорить. Его нет.
– А разве ж он один? – спросила Оля.
– Их много?
– Да та же Болтянская, наш директор. Вы же знаете лучше меня.
– А еще кто?
– Есть и еще… Пантюхов, не слышали? Ох, это фрукт. Как такого земля носит!
Оля вгляделась в даль озера.
Двое рыбаков сбрасывали из лодки невод. Было видно, как возникла на воде цепочка поплавков. Летчик и каменщик били веслами по воде, сгоняли рыбу.
Оля тихо плескала веслами. Лодка почти стояла на месте. Рослова задумалась над тем, о чем говорила сейчас Оля. Пока человек молод, в нем огромный заряд совершенствования, хочется быть, как Владимир Маяковский, не меньше; или «как мой старший брат – вся грудь в ленточках»; или как Антон Семенович Макаренко. И вдруг встает перед глазами казенный человек, самодовольный в своей показной активности, но, в сущности, даже нерасторопный, ожидающий от начальства не только мелочных указаний, как действовать, но и как видеть! Сверху, дескать, виднее! Он считает своей первой обязанностью видеть жизнь не такой, какая она есть (чтобы, понимая ее несовершенство, изменять ее!), а какой хотелось бы, чтобы она была, – за это ему будто бы и место в жизни обеспечено… И он деспотичен: чтобы все разделяли с ним его готовые представления. Он-то в курсе дела! И вот Оля глядит на такого: «Фрукт! Как только земля носит!» А там, глядишь, сама начнет судить обо всем с напускным цинизмом, чтобы не казаться чересчур наивной, глупой; будет делать вид, что не следует удивляться существованию таких «экземпляров человечества». Встреча с таким преуспевающим – это подчас самое страшное открытие на пороге зрелой жизни. Каким же самому быть? Достаточно ли защищен от таких? Что такое «идеализм», и что такое «глупость», и что такое «таких не бывает», и что «с волками жить – по-волчьи выть»? Терпимость взрослых потрясает детскую душу.
– Оля, а вы во «фруктах» разбираетесь? – Веточка поглядела на Олю и вдруг с неожиданной улыбкой спросила ее: – Оля, а вы думали, чему учит нас существование такого человека, как Белкин?
Оля взглянула на нее недоверчиво.
– Бороться надо за себя, за всех! – Рослова пристукнула кулачком по борту лодки. – Вы-то хороши! Вы свою обиду восприняли только как собственную. А у нас такая обида не собственная. Ведь вы хотели в лагерь не для того, чтобы замкнуться в своих переживаниях, а для того, чтобы работать вместе, чтобы соединилось все это – и чувство, и дело. Но Белкин вмешался – и вы сделали все, как он хотел: поссорились, разбежались. Как же вы ему позволили?
– А что же было делать?
На этот вопрос Веточка не ответила. Они подплыли близко к неводу, так что бечева, протянувшаяся над водой, терлась о борта лодки. Что-то кричал Еремей Ильич – он лучше всех помогал рыбакам. Он требовал, чтобы Оля с Веточкой тоже хлопали веслами по воде. Абдул Гамид расшумелся в своей лодке, мальчики, смеясь, держали его под локти.
– Вы Маяковского любите? – спросила Рослова.
– Очень…
– А помните у него: «Любить – это значит в глубь двора…»? Помните, как дальше у него? Знаете, Оля, когда я думаю о любви, мне кажется, что ничего не было сказано умнее, правдивее, человечней. Помните?
Любить —
это значит
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи…
Веточка медленно прочитала всю строфу. Мягкие, нежные ее губы слегка раздвинулись в улыбке, сразу изменившей выражение ее лица.
– В первый раз я поняла это, глядя на Анатолия. Мы еще не были женаты, и ребята ходили ко мне из города, заботились, чтобы я не простудилась, дрова кололи, печку топили. И Анатолий, он так уставал – все время шли ночные полеты, но ему хотелось самому все дела на свете переделать: и для меня, и собственные свои. Может, неинтересно?
– Ой, что вы!..
– Знаете, Оля, сегодня Чап своим тостом напомнил многое. Сразу нахлынуло… А мой Анатолий буркнул: «Попрошу без культа личности». Ведь врет все: разве это не у него самого культ личности, ведь я же изменилась, располнела? Я теперь взрослая женщина, мать. А он не замечает этого. И ребята тоже. Так и надо! Что с того, что годы идут! Как мы счастливы с Анатолием – даже страшно!
– Веточка, если бы вы знали… Я так себя ненавижу, я так себя ненавижу, я так все испортила.
Но Рослова почему-то не дала Оле высказаться, рассердилась, качнула лодку, уцепившись руками за борта.
– Так вот, меньше мечтательности, Оля! Я все понимаю! Меньше уединенности, расслабленности, изнеженности. Вы там уединились чересчур. Мне почему-то становится лучше, когда я держусь ближе к людям. Право, может, и вам так будет лучше? С ним не расставаться, а все-таки к людям ближе. Вот и сейчас давайте к людям!
Они подгребли к берегу, и Веточка выпрыгнула из лодки в объятия своего Анатолия. Рыбаки тащили бечеву по берегу. Кто пропустил ее за спиной, кто у локтей, кто, как Абдул Гамид, натянул себе на плечо и шагал прочь от озерка, будто чтобы больше на него и не оглядываться. Еремей Ильич поймал две рыбешки и спрятал их в карман.
– Ну, давай доить! – крикнул он самому себе и побежал, обгоняя цепочку рыбаков, чтобы схватиться впереди всех за лямку – «доить» невод.
Невод менял форму. Дети заглядывали в него, как в плетеную корзину, – там билась серебряная чешуя.
Домой вернулись поздно, в темноте. Возле калитки стоял грузовик, вернее – целый стог душистого сена. Эдик Мотылевич заметил, что в темноте грузовик похож на голову в очках, с лохматой шевелюрой и имеет профессорский вид. Внесли в дом корзину с рыбой. Оля хотела быть одна и взобралась на верхушку стога. Она видела, как ужинали мальчишки на веранде, как Огнев все не мог уняться: восхищался большим судаком, держа за жабры, взвешивал его на руках, смотрел в зубы, бил по боку, как корову.
Потом кто-то стал карабкаться к Оле на грузовик. Это Салаватик.
– Ты не спишь? – спросила сверху Оля.
– Я сейчас убегу, – прошептал мальчик. – Ты только зажим отдай обратно.
– Зачем же ты дарил?
– Я хотел… Мне ничего не жалко, – сбивчиво шептал Салаватик. – Но ведь зажимы теперь не носят, как же я могу зажим дарить? Сама понимаешь. Веточка надо мной посмеялась. Так что отдай обратно.
– Безоговорочно?
– Да уж… потерпи; я что-нибудь другое подарю.
Он убежал с зажимом. Оля вслушалась в его удаляющиеся шаги, в отчетливые звуки ночи. Неутомимая Веточка растапливала печь; там, в доме, пылал огонь, и резко выделялись цветы в горшках на окне, и красное пламя отражалось в стеклах. Где-то в деревне заплакал ребенок. Дикторский голос по радио читал текст для газет – медленно, по слогам.
– По бу-кы-вы-ам… – отчетливо произносил диктор.
Все слышно.
– По бу-кы-вы-ам, – снова повторил диктор.
Оля улыбнулась. Она тоже по буквам, по складам разбиралась в том, что с ней произошло. Неужели никогда больше не испытают они с Митей то чувство, будто они одни в целом мире? Неужели этого не надо? Или Веточка не все сказала?
Снова кто-то карабкался к ней, шуршало сено под чьими-то руками.
– Помогите-ка, Оля, скольжу, – шептала Веточка. – Хорошо тут у вас. Сейчас уйду, а то рыба сгорит.
Сидя рядом с Олей, она глубоко вздохнула, чтобы отдышаться, и сказала:
– Вот что хотела вас спросить. Только отвечайте на совесть. Вы работать хотите?
Оля отпустила руку Веточки.
– Рубить дрова?
Веточка сперва не поняла, а вспомнив, рассмеялась.
– Вот, вот… Я сейчас с Брылевым говорила. Он может вас взять на временную работу. До начала занятий в школе. Говорит, нормировщица нужна. Хотите?
– Хочу. Сейчас с ним поговорить? – Оля нетерпеливо вскочила на колени.
– Что вы! Сейчас поздно. Оля, только вы подумайте, не спешите. Он говорит: дело все-таки утомительное, возьметесь – бросите, нехорошо будет.
– Нет, не брошу.
Пожав ей руку, Веточка скользнула на землю, из темноты донесся ее голос:
– Ну, смотрите же!
СТРОФА МАЯКОВСКОГО
Брылев сказал, что она будет хронометрировать работу грузчиц и шоферов на выгрузке кирпича вручную, но в первый раз она совсем растерялась: что же хронометрировать?
Оля не различала лиц. Какие они – старые, молодые? Ей некогда было разглядывать. Она видела только, как четыре пары рук в рукавицах сбрасывают с грузовика кирпич, и чьи-то острые лопатки ходят ходуном в вырезе потемневшей от пота майки, и пыльная коса, не забранная под платок, летает со спины на грудь и обратно.
Ближе к полудню все стало от зноя тягучее, поплыло. Рано утром звон кирпича был сух и короток, а теперь он стал длительным, певучим; плыл пар над радиатором грузовика, надвинувшегося на Олю, плыли розовые пятна перед глазами.
Кажется, ничего особенного не происходит. Сиди и записывай чужую работу – дело нехитрое. Но то, что, сидя под открытым небом, на глазах у людей, надо бесцеремонно вглядываться в тяжелую работу, именно вглядывание в чужой труд было утомительным душевным испытанием. От одного этого измучаешься… Оля ссутулилась на своих трех кирпичиках; пот натекал на губы – она его слизывала; и она давно уже чувствовала, что паспорт, спрятанный на груди, прилип к телу – мокрый, а некуда его девать, и нет времени.
Кто-то подошел, заглянул в ее записи.
– Хронометраж, скажите пожалуйста! Что же это за специальность – кирпичи грузить?..
Она прижала блокнот к груди.
Одна из грузчиц глянула в ее сторону:
– Ты бы в холодок села. Что ты тут пишешь?
– Сама еще толком не знаю, – ответила Оля. – А зачем вы подметаете? – спросила она, в свою очередь, показывая на веник в руке грузчицы.
– А чтобы чисто было. – Лицо говорившей по самые глаза завешено от пыли косынкой, но глаза улыбаются. – Под метелочку прибираем!
Грузовики подходят неравномерно: то сразу пять-шесть машин, тогда шоферы ругаются, нетерпеливо сигналят, а то целый час ни одной машины, и грузчицы спят в тени штабеля.
Молодой шофер выскочил из кабины, откинул борт небрежным движением, с ходу стал форсить, заигрывать с грузчицами. Те работают попарно: две – в кузове, две – на земле. Самая маленькая среди них – в нижней паре. И эту маленькую Оля приметила: зовут ее Тосей. Когда верхние отдыхают, она ставит голые локотки на доски кузова грузовика.
– Ты за нашей Тосей не ухлестывай! – крикнула одна из грузчиц. – Она у нас бригадир.
– Бригадир – это звучит гордо! – подхватил шофер, переиначив знакомое Оле горьковское изречение.
И оттого, что грузчицы, оказывается, молодые, а веселый шофер читал, видно, те же книги, что и Оля, – странно, от таких пустяков ей стало легче, она почувствовала себя здесь не такой уж посторонней.
Когда вечером Оля в автобусе вернулась в город и приплелась домой, ее так сморило, что в ответ на разные рассуждения Марьи Сергеевны о том, что Оля слишком дорогой ценой хочет расплатиться за свое самолюбие, она только утвердительно кивала головой, прихлебывая крепкий чай из большой чашки. Она немножко оглохла. Привстав, почувствовала, что ноги подкашиваются, и снова села. А Марья Сергеевна продолжала говорить о том, что в будущем году попасть в вуз будет не легче, чем в нынешнем, и чтобы попасть, надо отлично кончить школу, а чтобы отлично кончить, надо хорошо отдохнуть, а это не отдых – грузить кирпичи… да хотя бы даже смотреть на такое занятие! Это было продолжением вчерашнего спора, и Марья Сергеевна подумала, что Оля смеется над ней, соглашаясь со всем, против чего вчера возражала, и только тут заметила, что Оля спит, и, оборвав себя на полуслове, кинулась стелить ей постель.
Пересилив себя, Оля стала ей помогать и неловко обняла ее и поцеловала, и Марья Сергеевна прослезилась и засморкалась. Ее растрогала даже не Олина нежность, а то, какие у нее пыльные – гребенкой не расчесать, – пропахшие кирпичной пылью волосы. И она поняла, что для Оли в этот вечер простая забота о ней значит больше, чем самые умные советы.
– Да, девочка не то что мальчик, – пробормотала она и ушла ставить воду на плиту.
Но Оля уже снимала туфли и ничего не соображала. Какой-то дядя снова вел ее по мосткам и косогорам строительной территории, усаживал на трех кирпичиках, советовал не мельтешить перед грузчицами; вот она сидит одна, еще никого нет: ни грузчиц, ни шоферов; безобразный пустырь, откуда виден весь Дикий поселок, домик Глаши, даже сарай Прасковьи Тимофеевны в глубине двора, где она провела несколько ночей… «Любить – это значит в глубь двора вбежать и до ночи грачьей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи…» Но ведь такой восторг, такую рубку дров в глубине двора Оля испытала давным-давно. Любить – значит ни свет ни заря ворваться в комнату; он спит с зажатыми кулаками, точно во сне дерется, а ты присела за его столом и корпишь над тригонометрией. Любить – бежать рядом с ним по пушистому снегу за розвальнями, а в них полно ребят, и они вразнобой поют: кто – про Дунин сарафан, кто – про сизого селезня. Любить – выпалить всю правду в глаза лицемерам, а потом прибежать к нему и все-все повторить, чтобы он тоже радовался, гордился ею. А ненавидеть себя, беспорядочную, капризную, заносчивую? Это все то же, все то же… Вздохнув, она потянулась с зажмуренными глазами за карандашом, желая записать что-то в «наблюдательный лист» и не сознавая, что это уже во сне.
Стояли знойные августовские дни. Запахи горячего бензина и кирпичной пыли смешивались в воздухе. Оле казалось, что она все записала, нечего больше записывать. Кирпич к кирпичу, кирпич к кирпичу.
Но приходил Еремей Брылев, издали на косогоре мелькала его фетровая шляпа, и оказывалось, что еще не все записано.
В обкоме партии решили разобраться, отчего столько битого кирпича при перевозках, отчего строители жалуются на перебои в доставке кирпича, а шоферы часами бесполезно простаивают, «загорают» на строительных площадках.
Недалеко от грузчиц работал подъемный кран. Брылев подводил Олю к молодому машинисту, который делал ту же работу, что и грузчицы: обрабатывал машины, приходящие с кирпичного завода. Только к грузчицам подходила машина, где кирпич навалом, и руками ее опорожнять – это минут сорок. А под кран становилась машина, которая привезла кирпич в брылевских железных корзинах, и машинист минуты за три, подцепив на крюк сразу по два контейнера, ставит их в ряд на землю.
– Красиво? – спросил Брылев и вдруг задал еще один вопрос: – А что, молодой человек вернулся из Калуги?
Оля густо покраснела.
– А откуда вы знаете?
– Мне еще Вера Николаевна про вас рассказывала.
Косым, прыгающим почерком Брылев нацарапал свою подпись на «наблюдательных листах» и ушел, даже не простившись. Странно – Белкину рассказала Антонида Ивановна, и то была подлость. А Брылеву наверняка рассказала Веточка, и это хорошо. Оля повеселела оттого, что здесь кто-то знает о ней то, что не должен никто больше знать.
Впрочем, в тот же день появился еще один из тех, кто знает.
Когда Оля увидела долговязого Митиного друга, шагающего с рассеянным видом через рельсы, с фотоаппаратом на животе, ее даже злость взяла: что ему тут нужно? Она не подняла головы, – пусть сам найдет ее, если хочет.
С напряженным лицом, точно он прицеливается, чтобы выстрелить, Чап сделал несколько снимков. Его интересовали штабеля кирпича, грузчицы в кузове машины, грузчицы на земле, подъемный кран, вынимающий из кузова контейнеры. Оля догадалась, что и он с поручением Брылева. А впрочем, кто его поймет? Он не подошел к Оле, только издали кивнул головой.








