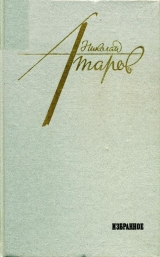
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
ПОСЛЕ БАЛА
Давно рассвело, когда Митя прилег на тахте. Было это часа в четыре. Он зарылся в подушку лицом и ничего не слышал, а Оля еще умывалась. Но без четверти семь его точно подбросило: пора бежать на переговорную, в такой час можно застать отца на квартире. Пусть хоть по телефону поздравит с окончанием школы: наверно, обидно ему, что не смог приехать.
По утрам к отцу легче всего дозвониться. «Ты, говорит, буди, не стесняйся. Вот мы тебя и разбудим». Отойдя от окошка заказов, Митя вслушался в знакомый приятный гул голосов. Ранний час, кажется, не время для служебных переговоров, но все шесть кабин гудели об одном и том же – о полевых работах:
– …Я на своем стою: «Мы поперек вспашки бороновали, грамотные все ж таки».
– …Очень отзывчива на азотные удобрения, очень отзывчива!
– Просяной комарик! Слышь, как придет председатель, передай ему: просяной комарик всему причина.
– …Знаешь, нам с тобой фокинских не учить, где арбузы продавать подороже!
Представители районов дозванивались до своих близких или дальних колхозов и МТС, хвастали успехами, требовали инструкций. Телефонистка крикнула:
– Бородин! Будете говорить? Идите во вторую.
Митя вбежал в кабину. В трубке послышался голос отца:
– Поздравляю, Митя. Молодец! Думаешь, разбудил меня? Я ждал твоего звонка. Машина у крыльца дожидается, сейчас поперек всего района поедем. Зачем? Сенокос идет! Косы затачивать. Ну, а как вы там с Олей? – кричал отец. – Приезжайте ко мне денька на три.
– Папа! Не приедем! – кричал Митя. – На днях едем в лагерь… Ясное дело, вместе. Ты не смейся, пожалуйста. И тетю Машу в Симеиз провожаем… Тоже косим! Косим траву, папа, помнишь? – кричал Митя, вкладывая в отцовское шуточное определение все, что нельзя было высказать в трехминутном отрывочном разговоре.
– Ну хорошо, когда так… – донесся почти исчезнувший голос отца.
И сразу послышалась скороговорка телефонистки:
– Вторая, выходите из кабины, ваше время кончилось.
Митя повесил трубку, вышел. Уходить не хотелось. Он покружил в толпе ожидающих, как будто ему надо было дождаться еще какого-то разговора, потом отыскал темный угол с крашеной скамьей, где никого не было, сел там, оглядывая прокуренный зал. Над дверями кабин загорались и гасли красные лампочки, слышался голос дежурной, повелительно вызывавшей города и села; кто-то стремглав бежал в кабину. Мите было здесь хорошо. Совсем прошло ощущение, что не выспался, а зрение от недосыпу, как ни странно, стало зорче, острее. Он мог просидеть так все утро. Перед глазами, стоило на минуту дать волю памяти, возникал рельсовый путь, по которому он шагал с Олей, фонари на плотине, в ушах начинал звучать грохот водопадов, и слышался, как это было ночью, голос Оли. «Какая ты…» – удивлялся Митя, разглядывая ее лицо.
В зале ожидания, где люди быстро сменялись, где каждому нужен был не тот, кто рядом, с кем толкаешься тут, а кто-то невидимый, неизвестный всем остальным, Мите думалось о самых близких людях. Лица товарищей, получавших вчера аттестаты из рук Катериночкина, возникали одно за другим. И каждый вспоминался чем-то дельным, поступки вспоминались! Вот Олег Пивоваров. Он последние два года, с тех пор как отец слег в постель, работает корректором в областном издательстве и содержит себя и младшую сестренку. Игорь Шапиро до безумия боялся высоты, а научился прыгать спиной с вышки в воду. Эдик Мотылевич – пижон в сущности, стоит вспомнить хотя бы, как он влюбился в актрису. Но у Эдика полгода жил Боря Базаров, когда поссорился с отцом, упрямым майором, запретившим сыну даже мечтать о журналистской профессии. Эдик продал мотоцикл, отдал деньги матери и велел ей вести себя с Борькой так, чтобы тот не чувствовал, что он в чужом доме. А Боря, тот нашел в себе мужество критиковать после этого Эдика на бюро за отсутствие идейных интересов, и дружба их не кончилась, а, кажется, только укрепилась, хотя Эдику что-то записали. Конечно, если вспомнить, можно было бы и плохое найти за Олегом, Игорем или Борькой. Но об этом не хотелось вспоминать и думать. Почему? Он не мог ответить на этот вопрос. Он не знал, что это потому, что Оля существует в его жизни, а думал, что это просто легко и хорошо ему сейчас – само по себе. Ему нечего было желать, как вчера на веранде, а только хотелось смотреть на эту жизнь, осененную радугой, и радоваться.
«Работают, – думал Митя, оглядывая представителей районов, толпившихся у кабин. – А во имя чего, ради какой цели?» Вспомнилась речь Катериночкина, вспомнилась девушка, крошившая кисельные порошки на кухне: добилась же своего – учится на алюминиевом заводе! Ради чего совершаются все вообще поступки? Ради чего спозаранку люди шумят в телефонных кабинах, и отец едет по району «косы затачивать», и неизвестный Еремей Ильич придумал, как кирпич возить иначе, чем возили тысячу лет? Ради чего они с Олей отправятся на два месяца в лагерь? Так никогда еще не было. Он понимал, что вдруг наступила какая-то небывалая ясность мысли.
Как здорово, что он догадался ночью вызвать Олю, повел ее на плотину! Как хочется скорее в лагерь, работать вместе! Лучше у них не было, чем те две недели на зимней даче и те полчаса, когда Оля, забыв себя, носила Сибиллю на руках. Да, и у Сибилли зуб перестал болеть! Вот это и был Олин поступок, да еще с каким удивительным результатом.
«Ради чего волнуются эти люди? – спрашивал он себя, по-новому оглядывая всех этих толпившихся у телефонных кабин колхозных бригадиров, председателей, агрономов. – Ради чего боронуют поперек вспашки, беспокоятся об азотных удобрениях, воюют с каким-то просяным комариком?»
Он пребывал в том состоянии, которое порой находит на человека, когда под его взглядом даже мертвые вещи оживают. Толстая телефонная книга, раскрытая на шкафу за перегородкой, когда он всмотрелся в нее, стала казаться длиннокрылой парящей птицей, вроде альбатроса или чайки. А если так, не пойти ли ему поспать по-хорошему? Оля и тетя не проснутся до девяти – это ясно.
Он вернулся домой, бросился на тахту и уснул.
И когда встала Оля, Митя спал. Оля прошла босая по комнатам.
– Марья Сергеевна, не объясните ли, почему так долго спит этот сурок?
– Отсыпается. – Марья Сергеевна сделала строгое лицо. – Восстанавливает силы. Ты посмотри на его руку.
– А что?
– Нет, погляди внимательнее. На правую руку.
– Не вижу.
– Сустав.
– Что сустав?
– Распух сустав, вот что. Сустав большого пальца… Как будто я не понимаю. И кожа на пальцах сбита.
– Он не дрался, Марья Сергеевна. – Оля по-настоящему проснулась только в эту минуту. – До этого дело не дошло.
– При тебе не дошло. А без тебя – еще как!
Тут было явное недоразумение, в котором они не могли сразу разобраться, потому что Оля имела в виду разговор Мити с Казачком на плотине, а Марья Сергеевна – эпизод с баскетболистом.
– Он сам рассказал?
– Ах, Оленька! На курьерских раззвонили. И кто, как ты думаешь? Ситникова! Встретила меня во дворе и все-все в подробностях. Похвально, не правда ли? Ну, я ей сумела ответить! «Кого он побил, какого-то Симпота? Правильно сделал: наверно, тот заслужил. А за вас, Ирина, никто не заступается? Очень жаль, но, очевидно, вы еще не заслужили. Желаю вам от всей души быть такой, как Ольга, чтобы за вас тоже иногда заступались».
Оля не знала, что Митя дрался в Доме инженера, заступаясь именно за Ирину. Но то, как обо всем этом рассказала ей без минуты промедления Марья Сергеевна, означало лишь, что ничего страшного не случилось. И Оля бросила на нее признательный взгляд из-под ресниц. Больше ни слова.
– Сбегай за хлебом. Митю не дождемся.
Выбежав на улицу, Оля поняла, как быстро распространяются сплетни. У керосиновой лавки навстречу вышла из очереди соседка, бестолковая и добрая женщина, которую все в доме звали Аннушкой. Ее сын был в зимнем лагере, знакомство пошло оттуда. Он ходил в детскую спортивную школу, боксировал, и все бы неплохо, да плохо то, что получил переэкзаменовку по русскому языку. Аннушке сладу с ним нет.
– Ах, только бокс, одно – бокс и бокс! Ужасно, Оленька!
– Бьют?
– К рукам бы его прибрать, – говорила Аннушка, быстро сжимая и разжимая свои маленькие кулачки. – Ох, прибрать бы к рукам!
Она растерянно оглядывалась, не зная, способна ли Оля Кежун помочь ей, когда будет вожатой в лагере, и боясь пропустить очередь, где оставила бидон.
– Это не так просто, Аннушка, – ответила Оля, надкусывая краюшку теплого хлеба.
Аннушка побежала к дверям керосиновой лавки. Вдруг обернулась, крикнула Оле:
– А Митя Бородин? Тоже, выходит, любитель до кулачков? Молодец!
– При чем тут Митя?
– А как он дрался вчера на выпускном! Будто не знаешь…
– Ничего не знаю! И вы тоже.
Когда Оля вернулась с хлебом домой, Марья Сергеевна встретила ее коротким замечанием:
– Приходила из школы сторожихина дочка. Антонида Ивановна вызывает тебя к шести часам.
– Зачем?
– Не знаю.
В голосе Марьи Сергеевны было что-то новое, как будто ее огорчила дочка школьной сторожихи. И Оля стала прибирать комнату и двигать стульями, чтобы разбудить Митю.
Странно – знойный день, каникулы, лето, сейчас побегут на речную пристань покупать билет для тети Маши, а завтра в горком за путевками в лагерь, но что-то пришло непрошеное, примешалось, как вчера на выпускном, и всему придало новый, тревожный оттенок. Ощущение опасности, которую хочется заговорить словами, заглушить шутками, возникло, в сущности, ни из чего: слушок, пущенный завзятой сплетницей Ириной, удивительная осведомленность Аннушки, непонятный вызов в школу.
В тот день Митя и Оля переделали много дел, связанных с предстоящим отъездом в лагерь: купили английских булавок, две походные аптечки, консервный нож, высмотрели в универмаге удобные сандалии для Оли, забежали в городскую детскую библиотеку к знакомой Асеньке насчет «передвижки». Митя не успел оглянуться, как Оля сделала еще одну покупку – бритвенный прибор. Несколько раз пришлось на Асфальте, встречая выспавшихся Митиных товарищей, распаковывать коробочку и выслушивать остроумные замечания.
К двум часам побежали на пристань за билетом для тети. О чем только они по пути не говорили! А все же нет-нет и вспоминали о вызове в школу. Что он означал? И Оля загадала, что ответ будет в первой подслушанной фразе.
– Ну, если б ты со мной была утром в переговорной! Вот где можно загадать! – сказал Митя.
Он не мог бы повторить ни одной фразы, услышанной утром, – осталось только впечатление удивительной бодрости этих людей, вставших чуть свет, чтобы разговаривать со своими колхозами. Здесь, вблизи речного вокзала, такого не услышать. Вот двое мужчин в белых костюмах идут навстречу. Один говорит, другой молча прикладывает платок к затылку. Видно, они хлопотали насчет пароходной экскурсии.
– Всех разместим отлично! Разве ж это мало – двадцать три лежачих места? – донесся обрывок их разговора.
Оля прошла несколько шагов и фыркнула со смеху.
– Двадцать три лежачих места! Вот и понимай!
Речная пристань обрадовала безлюдьем, недавно вымытыми полами и огорчила запертыми окнами касс. Два носильщика разговаривали у деревянных перил, где пахло водой и нагретой смолой и не было ни одной души на скамьях, залитых солнцем.
Пароход ушел час назад, и кассы откроются после пяти. Они пошли на пляж.
Потом захотелось есть. Им было все равно: дожидаться билета на пристани, купаться, есть – лишь бы не расставаться. Они побежали по тропинке, ведущей с пляжа в городской сад. В летнем кафе, куда заглянули, все столы и стулья были сложены: шла уборка. Они обошли веранду. С тыльной стороны кафе, где земля была влажная и темная от поливки, было также пустынно. Только пегий длинноногий кот, медленно оглядываясь, шел осторожно из края в край узкого дворика.
– Посмотри, – шепнула Оля.
Две ласточки носились в воздухе над котом. Кот отряхивался и с независимым видом подавался в тень, под веранду. Только раз он обернулся и, взметнув тощим телом, шлепнулся лапками в лужицу – не смог поймать. Сконфузился. А ласточка вернулась, снова прошла бреющим полетом и со злым, хотя и мелодичным щебетом взлетела к деревьям.
– Он украл птенца.
– Никогда не думала, что ласточки такие храбрые.
– Смотри, он струсил! Определенно струсил!
Кот скрылся под верандой.
Вся эта сцена заняла не более минуты в жизни Мити и Оли. Они не успели выбраться из сада, подбежали к освободившейся скамье (Оля вытряхнула песок из туфель) и испытали удивительное состояние, которое посещает человека не каждый день: бегут, шумят толпы, на пляже не пройти, в городском саду все скамьи заняты, ты знаешь – мир огромен и тесен вокруг тебя, а ты в самом центре мира. И ты не один – вас двое. И это никогда не должно кончиться. Никогда!
Два морщинистых старика, из тех, что отдыхают в любом городском саду, вели беседу; они рассказывали друг другу, как кто из них выспался. Митя локтем толкнул Олю, сказал:
– Удивительно! Мне сейчас пришло в голову, что они родились еще в прошлом столетии. Правда, Оля? Они могли идти по улице и повстречать Льва Толстого.
– Во всяком случае они маленькие были.
– Ну что ж… Катили колесо по мостовой и набежали на Льва Толстого.
– Послушайте, вы Льва Толстого не встречали? – едва шевеля губами, спросила Оля.
Митя взглянул на электрические часы. Стрелки показывали половину четвертого.
– А будет когда-нибудь двухтысячный год? – спросил Митя.
– Конечно, будет.
– И старики придут в сад поболтать? Да?
– Это мы с тобой?
– Мы с тобой. И неужели мы тоже будем вспоминать о том, кто из нас выспался знатно?
– Ты расскажешь мне, как ты спал после выпускного вечера.
– Нет, Оленька, я расскажу тебе о другом.
И Митя рассказал Оле, какие мысли пришли ему в голову утром на телефонной станции.
Они вышли из сада. Разговор их, начавшийся со знатно поспавших стариков, касался и девушки, крошившей кисельный порошок, и института прикладного искусства, куда бы Оля могла пойти после школы, и знаменитой тимирязевской мысли о подлости компромиссов, высказанной им в глубокой старости. Оля вычитала эту мысль в журнале «Природа» и запомнила наизусть.
Так, разговаривая, наткнулись они у подъезда ресторана Дома инженера на толстяка Любезного, который в белом кителе, не жалея себя, стоял на самом солнцепеке.
– Так вот где можно поесть!
Оля смутилась: это уж слишком смело.
– Ну, зайдем же, зайдем, – твердил Митя. – Мы же здесь только что, ночью, пировали.
Любезный открыл перед ними стеклянную дверь.
– Давай клюквенного киселя попросим! – вспомнил Митя и подтолкнул Олю в дверь.
Они устали от купанья и прогулки. Настроение немного погасло. В пустынном, прохладном зале ресторана они погрузились в состояние, похожее на сон. Это, конечно, была не та комната с желтой обивкой, в которой ночью они пировали с учителями и родителями. Сейчас они сидели в полной тишине за ресторанным столом, накрытым накрахмаленной скатертью. Умолкнув, поглядывали друг на друга, точно издалека. Они не знали, что заказать. Любезный, как в сказке, оправдывал свою фамилию: мгновенно принес простоквашу, миндальное печенье, открыл бутылку нарзана и, все сделав, что надо, с минуту обмахивал салфеткой чистую скатерть. Он поглядел поверх очков – юноша просил принести два стакана киселя. «Денег нет, вот и жмутся», – по-своему истолковал он этот заказ и, вдруг наклонившись к Оле, сказал ей, показывая пальцем на стеклянную перегородку, отделявшую часть зала:
– Здесь ваш родственник. В случае чего можете одолжиться.
РАКИ
Как можно было забыть, что Фома Фомич свой человек в этом ресторане и что прийти сюда – все равно что к нему в гости! Оля в ужасе откинулась на спинку стула, чтобы ее не заметил Пантюхов. Он сидел почти рядом, только за стеклом.
Было то время дня, когда ресторан Дома инженера безлюден, и официант услужливо накрыл отдельный столик для Пантюхова за стеклянной перегородкой. Вдруг Оля устыдилась, что она такая трусиха, поставила локти на стол и стала работать ложечкой, больше не оглядываясь.
– Ты заметила, мы встречаем его всегда, когда неприятности, – сказал Митя, подождав, пока уйдет официант.
– Какие же у нас неприятности?
Митя не ответил.
– Кто с ним, не знаешь?
По тому, как она облизнула губы, Митя безошибочно угадал, до какой степени ей все это неприятно. Оле действительно вдруг показалось, что собеседник Фомы Фомича, может быть, и есть тот «ответственный товарищ», к которому она могла попасть в секретари по пантюховской протекции. Рослый мужчина с выхоленным горбоносым лицом с седыми висками методично разрушал раков, неторопливо обгладывая каждую клешнинку. А Пантюхов хвастливо рассказывал ему о своей удачной бильярдной партии:
– Он мне говорит: «Шар у лузы, что ж вы не режете?» А я ему: «Ножа нет!» – и отвожу к борту.
Пока Пантюхов смеялся, довольный собственной остротой, Любезный склонился над его ухом и что-то сообщил ему: тот с ловкостью, необыкновенной для своей грузной фигуры, обернулся.
– Оля! – вскричал он. – Приобщаешься к жизни? Хвалю!
В свою очередь, он коротко что-то сказал собеседнику, и тот тоже повернул в сторону Оли свое красное от выпитого вина лицо.
– Идите к нам, дети! – пригласил Пантюхов, привстав из-за стола. – Угощаю раками.
Но Оля осталась на месте. Тогда он взял стакан с пивом и сам направился к ней.
– Хочешь раков, Оля? Попробуй. Идемте сюда! – крикнул он собутыльнику. – Любезный, сюда!
Не прошло и минуты, как водка, пиво, раки, сыр и соломка перекочевали с одного стола на другой, в соседство Митиных и Олиных киселей, простокваши и миндального печенья.
– Нам пора идти, Оля, – негромко предложил Митя.
Оля не обратила внимания на его слова. Она была так взбешена, что теперь ей стало совсем не страшно. Сцепив пальцы, положив на них подбородок, она уставилась на Фому Фомича и решила выдержать схватку.
– Это и есть Оля Кежун, моя родственница, – сказал Пантюхов приятелю, тоже не обращая никакого внимания на Митю. – Характер у нее мой: не унывает! Верно, Оля?
– Верно. А вы сами-то раков любите? – спросила Оля.
Пантюхов захохотал. Теперь-то и Митя заметил, что он всех угощает раками, а сам тычет вилкой в сыр. Какой же верный глаз у Оли!
– А ты найди-ка раков в городе! Или тут попробуй закажи. Бородин, закажи-ка раков!
– Фома Фомич шутят, – с улыбкой помогал Пантюхову хвастать Любезный. – С утра сами корзинку раков прислали.
– А захочу – воз и еще маленькую тележку пришлю!
Пантюхов отлично догадывался, как ненавидит его Оля, воспринимает как персонаж из «Крокодила», и ему казалось, что если однажды – чем задирать и дразнить этих сосунков – он рассказал бы им о всей сложности его борьбы за существование, они если не полюбили бы, то хоть залюбовались им, как он сам иной раз любуется собой. Только времени нет на все эти глупости.
– Что, Оля, прав я был? – заговорил Пантюхов серьезным, даже сочувствующим тоном. – Говорил: «Плюнь на школу. Пробивай сама дорогу в жизнь. А то как раз останешься ни в тех, ни в этих».
– Не понимаю ваших намеков, – сдержанно сказала Оля. – Объясните.
– Что прикидываешься. Прекрасно понимаешь. Подробности могу пояснить. Звонил мне один, так сказать, педагог. Звонил как единственному твоему родственнику.
– Казачок? – быстро спросила Оля.
– Он самый.
– А ему нечего рассказать!
– Правильно ставишь вопрос. Я ему тоже дал отпор. «Что ж, говорю, что из-за нее по ночам дерутся, так ей все шишки получать? Ты про нее-то можешь сказать что-нибудь определенное? А не можешь – отваливай!» Это я ему сказал, – с достоинством отметил Пантюхов. – А тебе скажу иначе, извини, что при людях. В твоем возрасте человеку пора на ноги становиться. Или учиться, или работать, или замуж. Одно из трех! А если «лови, лови часы любви», так с этим и в тридцать лет не опоздаешь.
Не замечая оцепенения, с каким слушали его Митя и Оля, Пантюхов постучал ножом по стакану, подзывая Любезного:
– Еще одну порцию сыра… – И вдруг, добродушно поглядев на Митю, засвидетельствовал: – Бородин сердится. А чего ему сердиться? Едешь в университет? Я твоей тетке обещал помочь в этом деле.
– Не нужно мне вашего покровительства! – сдерживая себя и оттого сутулясь, ответил Митя. – Вы судите обо всех по себе и очень цинично… для вашего возраста. И не воображайте, что если вы станете смеяться все время, то вам поверят, что вы такой весельчак… жизнерадостный. Всем видно, что вы своим смехом маскируете.
Теперь Пантюхов расхохотался до полного побагровения висков и шеи.
– Ох, ты… черт! – пролепетал он, задыхаясь. – Мне ведь то же самое всегда говорила одна знакомая, пока ее не хватила кондрашка!
– Кондрашка – это он, а не она, – густо окая, поправил приятель.
– А? – переспросил начальник автобазы.
– Кондрашка – мужского рода. Надо говорить: «Хватил кондрашка…»
Это были первые слова, сказанные этим человеком за столом, и Оля повернулась к нему. Неужели они так говорят о маме?..
– …А ты говоришь «хватила». Я просто уточняю, – закончил приятель.
Фома Фомич даже рот раскрыл от удовольствия – так понравилось ему это юмористическое уточнение.
– Ну да! Я и говорю, пока она не померла!
– Уйдем, – шепнула Оля.
– Надо только расплатиться. Сейчас.
Не дожидаясь, Оля быстро пошла через пустой зал к дверям, а Митю задержала рука Пантюхова:
– Я заплачу, ты догоняй. Ты на меня не сердись, Бородин. А то можно и так: рискните, женитесь и пошлите всех к черту! И меня тоже. Свадьбу будешь справлять, я тебе транспорт дам… Только не надо драться!
Митя чувствовал, как тянет его Оля за рукав. Когда она успела вернуться? Что-то, помимо его воли, удерживало его возле Пантюхова. Оля и Любезный силой отводили его от стола. Он слышал, точно в тумане, как Оля, обернувшись, бросила Пантюхову:
– Мне стыдно, что мама считала вас родственником!
В вестибюле Митя расплатился с Любезным. Было заметно, что толстяк так озадачен происшедшим, что не считает денег. И для Мити было все равно – лишь бы без сдачи, скорее.
Он догнал Олю на улице.
– Я ни капельки… ни капельки… – Оля хотела, но не могла говорить – так дрожали ее губы. – Я даже рада. Давно пора.
– Ты просто молодчина!
– Я сейчас же к Антониде Ивановне. Я ни одной минуты не хочу ждать. Теперь сама хочу с ней поговорить.
– Лучше пойдем вместе за билетом. Кассы уже открыты. Ты успокойся, Оля. В конце концов все это нелепо и смешно. Как двадцать три лежачих места.
Но что-то странное творилось с ней. И он проводил ее до дверей школы.
ИСПОВЕДЬ
Тетя Маша сразу поняла, что Митю грызет совесть. Кончил школу, теперь ему трава не расти! А девочку из-за его вспыльчивости замучают нотациями. Не взглянув на Митю, тетя Маша сунула принесенный им пароходный билет в сумочку и попросила снять чемодан с антресолей в прихожей.
Чтобы не пропустить возвращения Оли из школы, Митя выбрался на балкон. Ждать долго. Он вернулся в комнату, покосился на тетины предотъездные хлопоты, нашел заложенный среди книг задачник и снова вышел на балкон.
Со двора доносился писк младенцев в детских колясках, голоса нянек. Рассеянно поглядывая на коляски, Митя от нечего делать решал задачу: «Самолет вылетает под углом в тридцать градусов со скоростью шестьдесят метров в секунду… Требуется найти…» Он выписывал условия задачи, посмеиваясь в душе над авторами учебника с их допотопными скоростями самолетов.
Когда через часок тетя заглянула в дверь балкона, Митя сказал, разогнув спину и заломив руки над головой:
– А не пойти ли мне в летчики, тетя?
– Места себе не находишь? В летчики из любви к девочкам не идут, – сказала она невозмутимо. – А идут из любви к родине.
И скрылась. Всегда изрекает заповеди – ну и профессия! Через минуту появилась со стопкой выутюженного белья в руках.
– Дожидаешься? Долго ждать, дорогой: Антонида Ивановна заседает с малярами, обеспечивает летний ремонт.
Коли так, надо найти себе дело. Митя расчистил и прибрал балкон. В этих плоскокрыших и бесчердачных домах, которые строились до войны, на балконах вечно растет завал ненужных вещей – дырявых кастрюль, старых плетеных стульев, ненужных досок. С ними надо бороться!
А Оли все не было. И в комнатах тоже скучно. С детства недолюбливал Митя сумерки, когда, кажется, можно еще уговорить тетю, чтобы она отпустила на улицу, но вот уже в чужом окне желтая полоска электричества, все кончено, пора ложиться спать. Давно вышел из такого возраста, а ощущение этого недоброго часа осталось.
Он не выспался сегодня. Какой долгий вечер! С газетой в руках Митя искоса поглядывал на тетю. Сидит, по-домашнему покрыв седую голову черным деревенским платком. Совсем не похожа на учительницу французского языка. Задумавшись, поглаживает кончиком пальца пушистую губу. Вдруг Митя понял: ее ведь тоже беспокоит, что Олю вызвали в школу. Зачем понадобился Антониде Ивановне этот вызов?
– Что же ты молчишь, тетя?
– Что мне рассказывать? – Она усмехнулась и уселась в кресло поудобнее. – Помнишь, как у бабушки Поли, где жил отец после войны, кот масло из лампадки выпил?
– Зачем вызвали Олю?
– Наверно, поговорить по душам.
– О чем?
– Я не знаю, но…
– Догадываешься?
– Тебе лучше знать… А старательный был кот. Конечно, с голодухи чего не съешь.
– Дразнишься?
– Нечаянно, – добродушно сказала тетя. – Что там у нее было с Казачком?
– Тетя! – крикнул Митя. – Клянусь тебе! Ведь она убежала от него…
– Ну, а потом? Как вы оказались на плотине?
– Но ведь это я поговорил с Казачком. Я! При чем тут Оля?
– А при том, что ты для своей школы уже вчерашний день, а Оля для своей все еще сегодняшний и завтрашний. За нее отвечать надо.
– Нет, погоди. Ты-то веришь нам?
И они долго, очень долго глядели в глаза друг другу. Это был настоящий поединок взглядов, в которых можно было обнаружить и взаимную требовательность, и взаимную снисходительность, и при всем этом полную душевную непроницаемость.
– Вообще я недоспал нынче. Пора и честь знать, тетушка, – мирно сказал наконец Митя.
Он прилег на своей тахте, прикрыв ноги пледом и вооружившись географическим атласом. Марья Сергеевна ушла из дому. В квартире стало тихо и сонно. Митя так и заснул над Восточным Белуджистаном, все прислушиваясь, не появилась ли наконец Оля.
– Ах, Митя, если бы ты знал! Вот это да!
Оля ворвалась в комнату, шумно забегала среди разбросанных вещей и упала на тахту рядом с Митей.
– Как хорошо! Я все-все сказала. Я самое сокровенное ей высказала! Я даже о своих недостатках ей все-все высказала!
– Какие же недостатки? – спросонок осведомился Митя.
– А ну тебя!
Оля заглянула на кухню – тети нет, вбежала к Мите и снова упала на тахту.
– Я сказала ей: «Как много сложного в жизни! А на эту сложность взрослые только ручкой помахивают». Ведь правда, Митя? Говорят: «Глупости молодости». Попробуй заикнуться на классном собрании – ого! На тебя Агния Львовна такими глазами воззрится, что лучше сквозь землю. Я-то помню, как Агния Львовна узнала, что ее Леночка вашему Шафранову симпатизирует. Как она при всех сказала, что покажет ей такую симпатию, что долго будет помнить!
– И пальто ей не купила в виде наказания, – подтвердил Митя.
– Погоди! – оборвала его Оля. – Я спросила Антониду Ивановну: «Ну почему? Почему? Почему косые взгляды, обсуждение внешности, какая-то неприязнь, смешки и сплетни? Хорошо это? Ведь это мерзость! А на словах пышные фразы о пользе дружбы, о том, как дружили великие люди». Я ей сказала: «А наши девочки, если хотите знать, ни малейшего понятия не имеют о дружбе, о любви».
– А она что?
– Ах, она только улыбалась. Я ее к стенке приперла! Знаешь, как нашло на меня! А ведь это Пантюхов меня раздразнил, вот и спасибо ему! Я ей про наши школы сказала, что они как два острова в море! Не принято даже разговаривать! Многие открыто говорят, что честной дружбы с мальчиком не может быть. А взрослые, а педагоги? Почему они иногда позволяют себе говорить «кавалер», «невеста»? Что, хорошо так? А что за скука был ваш выпускной вечер!
– Ты ей сказала это?
– А глупая игра в «ручеек»? А когда Ира Ситникова с Машей Зябликовой поссорились, кому танцевать за кавалера, а кому – за даму?
– И все это ты говорила?
– Конечно!
– А с вами никого не было?
– Нет, мы вдвоем. Ой, что ты! – ужаснулась Оля, представив себе кого-то третьего в таком разговоре, и тотчас посмеялась тому, как она отрывисто передает беседу с директоршей.
Ей хотелось повторить все, что она сказала там, потому что то, что она говорила, – это был ее ответ и Казачку, и Ирине, и Пантюхову.
– Митя, – вспомнила Оля, – а ведь мне сегодня теплый ливень приснился! Такой теплый, что я стояла под ним, как под душем, и пробовала рукой на ощупь. И по лицу текли целые потоки! И вот видишь, оказалось, сон в руку! Она все-таки, может быть, неплохая, Антонида Ивановна. Она, конечно, педантичная и самодовольная…
– И говорит, как будто слова на плаху кладет – рубит им головы.
– Да, и ревниво следит за добродетелями, – добавила Оля. – Но все-таки она может быть неплохой. Ведь как Казачка раскусила! Как она о нем высказалась, если бы ты только слышал!
Перебирая пальцы на обеих руках, Оля не то что вспоминала, а как бы подсчитывала слова Антониды Ивановны: «Это же весьма пошлый лев-сердцеед. Для него похождения – такой же спорт, как гимнастика на снарядах». От удовольствия она захлопала в ладоши.
– С чего же начался разговор? Ты по порядку, Оля.
– Антонида Ивановна торжественно спросила меня: «Что у вас произошло с этим баскетболистом? Как мог случиться этот печальный инцидент?»
Она на мгновение вспыхнула и потупилась. Митя вообразил ее, какая она была, когда отвечала на вопрос Антониды Ивановны.
– Что же ты сказала ей?
– «Дурак он такой!» – я сказала. Он меня спросил: «Почему, когда целуются, то закрывают глаза?» Больше ничего его не интересует. А я сказала Антониде Ивановне: «Скажите, неужели все такие в жизни?» И еще: что бы она сама делала на твоем месте? Не дала бы отпора хулигану?
– Ты молодец, Оля!
– Я же не вижу за собой никакой вины! И за тобой тоже! – Она тряхнула головой так, что копна волос метнулась над нею. Она хотела что-то высказать, но ей было трудно подобрать слова. – И ты знаешь, бегу домой, ног не чую. А радио на улице… там как раз какую-то плясовую транслируют… Ах, Митя, как я рада, что все высказала!
– Наверно, надоела ей своими переживаниями, – с нежностью оглядывая Олю, сказал Митя.
– Она поинтересовалась, где ты. Я сказала – стоишь в очереди за билетом для Марьи Сергеевны.
– Почти честно ответила: очереди не было, – поправил Митя.
Теперь Оля взялась припоминать подряд, взвешивая каждую реплику – свою и Антониды Ивановны.
– «А когда уезжает Марья Сергеевна?» – спрашивает. «В четверг», – говорю. «Вместе с племянником?» – Оля рассмеялась. – Она так тебя назвала, официально. «Нет, отвечаю, мы с Митей до субботы остаемся». Тут она, знаешь, озарилась улыбочкой и пропела: «Какое простодушие: «Мы с Митей до субботы…»!»








