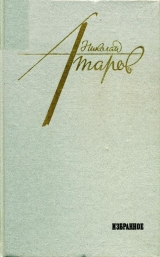
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 37 страниц)
– У тебя на шее морщинки появились.
И в другой комнате собака тотчас отзывалась на голос стуком хвоста.
Не дождавшись ответа, Аня шептала:
– Это мужицкие трещинки, от ветра и солнца. Ты же у меня старый агроном.
И Дымка снова отзывалась постукиванием твердого хвоста.
– Что ж ты молчишь, протяженно-сложенный?
Роман снимал со своей шеи Анину руку.
– Я не могу уехать с тобой, – медленно и внятно говорил Роман. – Если был бы здоров, я следом за тобой пустился бы. Куда тебя направят – и я туда. Но меня не пустят из Москвы, врачи говорят – нельзя. Тогда и тебе нельзя. Разве я прошу незаконного?
– Любовь – это не болезнь, Ромаш, – возражала Аня.
Так еще в декабре начались те душевные переживания, которые непоправимо ожесточились в конце марта. С видимым раздражением Роман говорил, не глядя на Аню:
– Любовь – это оселок, на котором пробуют все общественные добродетели. Разлучить людей, да еще освятить разлуку, пофарисействовать – на это у нас мастера. И ты туда же. Мне нужна ты, вот и все! А труд – лишь источник заработка.
– Неверно и глупо, Ромаш! – резко шептала Аня. – Твои собутыльники мало ли чего наговорят. Ты слушай больше.
– Я очень одинок, Аня, – ровным голосом, затверженно говорил Роман, не поворачивая головы. – Когда-нибудь я расскажу тебе историю моей смерти, приложив целый ворох разных бумажек.
Ему ничего не стоило сочинить о себе или успокоительную, или мрачно-безнадежную версию.
Всю зиму он часто исчезал: то киностудия, то конноспортивное общество, с которым подружился тоже назло врачам. Забегал к Ане по дороге в манеж, на нем смешные штаны из заскорузлой кожи, как будто снятой со старого фаэтона. И снова нет его. Вдруг присылал за Аней какого-нибудь приятеля с лоснящимися, зачесанными за уши волосами. Она ехала в ресторан разыскивать Шестакова.
– А, здравствуй, – радушно встречал Роман, усаживая возле себя. И на ее гневный шепот, зачем сам не приехал, кого присылает за ней, отвечал: – Думаешь, я знаю, кто это? Спроси меня: кто это?
Он был угрюм, иногда груб с Аней.
– Ну, как у вас, на седьмом небе? – спрашивал он, распоряжаясь ее улыбкой, взглядом, совершенно уверенный в своей власти над ней.
Однажды, когда позвонил по телефону, видно еще не сильно пьяный, что-то переломилось в ней.
– Как у тебя, на седьмом небе? Приезжай!
В ответ она что-то бессвязно пролепетала, бессвязно не потому, что обрадовалась звонку, а потому, что стало скучно, когда представила его лицо – снисходительное, опустошенное, закрытые глаза, пока он разговаривает по телефону. А через день снова явился, хороший, послушный, ласковый.
А в марте все время был трезвый. Что-то случилось с ним – он был озабочен. Приятнее всего было считать, что ищет, как бы ее оставить в Москве. Отец Ани телеграммой, датированной на Сахалине первого марта, известил о прекращении денежных переводов. В этой же телеграмме он поздравил дочь с окончанием института.
Роман повертел телеграмму в руках, улыбнулся, сказал:
– Довести приказ до бойцов.
И больше не вспоминал об этом. Аню до слез тронуло, как хорошо он отнесся к отцовской выходке: он лишь удвоил свои усилия, чтобы сохранить ее рядом с собой. На следующий день он пришел и стал предлагать ей должность официантки. Временно, разумеется. Он, конечно, шутил, но улыбка мелькнула какая-то нехорошая. Он даже знал, в каком ресторане: в Сокольниках, в парке, – там и воздух хороший, и посетители другие, чем в центре. Смеясь, совал ей в руки лист бумаги со столбиком цифр и радовался, видя, что Аня считает хорошо. Значит, не просчитается. «Нет, просчитаюсь, а тебе – платить…» – беззащитно улыбаясь, возражала Аня, обомлевшая от этого разговора. Они поссорились в тот день. Аня знала, что Шестаков побывал в двух министерствах, всюду показывал кучу медицинских справок. Ему убедительно говорили, что если б о нем разговор, все было бы принято во внимание, но речь-то идет о молодом специалисте Атлантиде Орловой, которая даже не зарегистрирована с ним в браке.
– В браке? – хмуро переспрашивал он.
Но ему разъясняли, что и брачное свидетельство, если нет детей, а к тому же датированное последними днями, вряд ли будет принято в расчет.
3
Выйдя из института, Шестаков пошел домой, в далекое общежитие. Шел через весь город, не кружа бесцельно, не заглядывая к букинистам, не подходя к театральным кассам, минуя пивные и «забегаловки». Вся его энергия, все маниакальное упрямство были сосредоточены на том, чтобы удержать в себе запал непримиримой борьбы, в каком он расстался с Аней, чтобы не разжать кулаков, не отвлечься посторонней мыслью. Он знал, что такая одержимость действует на Аню панически, – она сдается. И сейчас, не отдавая себе в том отчета, верил, что может и на расстоянии влиять на нее, если только не раскиснет.
Шофер просигналил под самым его ухом. Роман показал кулак и, не ускоряя шага, прошел, толкнув боком радиатор. Уже несколько дней, с тех пор как его исключили из аспирантуры, он жил с сухим чувством внутренней напряженности, будто его нахинизировали до ушей, и город в тумане, исчерканном разноцветными огоньками, неслышно торопился: мимо неслись троллейбусы, высекая искры из невидимых проводов, на ипподроме звонил судейский колокол, на остановках людские толпы бросались от автобусов к метро. И сквозь всю эту сутолоку в белом тумане Шестаков упрямо гнул напрямик, в общежитие, куда ему меньше всего было нужно.
Он проходил мимо почтово-телеграфного отделения, и ему хотелось погреться в калориферном тепле, у измазанных чернилами стоек, где пишут на бланках, на конвертах. Это звала мысль о матери, которая всегда приходила к нему в его приступах дикого возбуждения. Ответить хотя бы краткой телеграммой на ее письма, денежные переводы. Но он не позволил себе и этого.
В «забегаловку» все-таки зашел, на полпути, у Белорусского вокзала. Принял полтораста граммов – и, не задерживаясь, вышел. Наплевать, что исключили из аспирантуры! Давно пора. Вот уж он не будет жалеть, что исключили. Он даже не явился на вызов ректора. Пусть теперь выселяют. Надо только, чтобы Аня не знала, что его исключили. Важно, чтоб она не знала, пока не откажется ехать из Москвы. Сегодня она на комиссию не пойдет, не посмеет пойти. Сейчас он твердо знал это. Он преувеличивал возможности будущих заработков в киностудии и радовался, что теперь-то, когда отец отказал в помощи Ане, она будет жить на его деньги. Ее лицо отчетливо возникло перед ним, закутанное в рыжий мех воротника, глаза за очками прелестно и как-то старательно светились; никакого тумана не было, он шел как будто и не по Москве, и для него ярко сияла поздняя дачная луна. «Твое удовольствие – мое счастье», – так она проговорилась однажды на даче. Выйдя из пивнушки, Роман шагал размашисто, все время ощущая свой рост и плечи, свою «протяженно-сложенность», играя мышцами на лопатках, хоть и не было в том никакой нужды. Ему казалось, что он понял, как надо отталкиваться палками на лыжах, образуя более сложный, чем при ходьбе, ритм работы рук и ног, на четыре такта. Это надо будет проверить, если снег не сойдет до следующей поездки к ребятам на дачу.
Так добрел до института.
В коридоре общежития знакомый третьекурсник крикнул:
– Спеши, Шестаков! К тебе мать приехала.
Роман вошел в свою комнату – она была не заперта и пуста. Туго набитый, знакомый мамин портфель лежал на столе. Мамины валенки, почти что детские, стояли, прислоненные к стулу, посреди комнаты. Серый вязаный платок на спинке стула.
Роман сбросил полушубок, достал из-под кровати тяжелые башмаки, извлек из них шерстяные носки, воровато оглядываясь через плечо на дверь, разулся и стал натягивать носки на ноги. На все это понадобилось не больше двух минут. Нырнув в фуфайку, он схватил лыжи, палки и вышел из комнаты, погасив свет.
Когда в восьмом часу вечера Аня Орлова приехала к нему в общежитие, чтобы сказать, что отложила решение, и вбежала в знакомый коридор, сердце екнуло от тревожного предчувствия: в двери его комнаты почему-то стояли соседи, курили, подпирая косяки.
– Мать Романа приехала, – сказал один из них, пропуская Аню в комнату.
Аня растерянно стояла на пороге. В том, что и в комнате оказались посторонние, в том, как было накурено, как распахнута обычно закрытая дверь, тревожно угадывалось что-то знакомое в характере Анны Парамоновны, матери Романа. Вот приехала – и всех собрала вокруг такого события.
Все повставали, когда вошла Аня. И раньше других сожитель Романа по комнате Витя, осведомленный обо всем, что касалось Аниных отношений с Романом. Это движение в комнате смутило Аню, и она присела на первый же освободившийся у двери стул.
– Садись, что ж ты? – приглашал Витя, а Аня уже сидела.
– Нет, я на минутку. Романа нет? Я тут забыла вещи, библиотечную книгу. С меня теперь спрашивают… рейсфедер, наперсточек… Помнишь, перчатки зашивала? Как накурено у вас!
Только сейчас она взглянула в тот угол комнаты, где за столом сидела сухонькая, прямая, в сером платье, подпоясанном кожаным черным ремнем, мать Романа. Гладко, волосок к волоску, были причесаны ее черные, не тронутые сединой волосы. В промытой желтизне маленького, сморщенного личика, в аккуратности всей ее легонькой, складной фигурки Аня почувствовала какое-то демонстративное, тяжкое упрямство и вконец смутилась.
– Смешно, что такая нарядная девушка ищет такие пустяки – наперсток. – Анна Парамоновна настойчиво разглядывала Аню своими черными глазами.
– Я лучше потом, – заговорила Аня, торопясь уйти, пока ее не назвали по имени. – Я думала, Роман дома. Что ж рыться в чужих вещах!
– Подождите, он вернется, – сказала старушка тоном, не допускающим возражений, и почти ласково, точно угадывая тайные мысли Ани, спросила: – Вы ведь Атлантида Орлова?
Аня, опустив голову, молча прошла через комнату и присела на край Витиной кровати, рядом с Витей.
– Вот я и говорю, – продолжала Анна Парамоновна прерванный рассказ, больше не обращая внимания на Аню, – рвачество могло погубить два десятка ни в чем не повинных людей. Шофер жадный: насажал полный кузов «грачей»… – Она раскашлялась, крепко вытерла рот платком. – У нас таких пассажиров, вроде меня, что у дороги дожидаются, окрестили «грачами». Похоже… Да. И милиционеры жадные: на мотоцикле погнались штрафовать, свистят! Шофер пуще! Въехали в кювет. Спасибо, живы остались!
Прижавшись к спинке Витиной кровати, Аня разглядывала маленькую маму Романа и удивлялась: как не похожа на себя – на ту, какая представлялась по письмам! Та казалась неумолимой, изобличающей вроде пушкинского «Пророка», жгущего глаголом, казалась холодной, а эта не холодная, а только озябшая. Чувствовалось, что Анна Парамоновна не отогрелась с пути, и досадно было: куда же пропал Роман?
В комнату вошла уборщица в ватнике и красном берете и подала Анне Парамоновне коробку с лекарством.
– Вот вам аспирин, – сказала она, – еле нашла у комендантши.
Мать Романа засуетилась, отыскивая в сумочке деньги, нашла и с отвращением отбросила от себя сумочку.
– Вот. Весь путь за баком укрывалась от ветра. Все теперь бензином пропахло: и платок, и коржики, и даже сумочка. Противно!
Она мягко прошла в валенках по комнате, потирая ладошки одна о другую. Теперь, когда перестал раздаваться ее громкий, убедительный голос, стало особенно заметно по ее воспаленным глазам, по мелкой дрожи, пробегавшей по плечам, что и впрямь она больна, простужена и, наверно, боится лечь – не встанет.
Вдруг остановилась среди комнаты и совсем другим, слабым, измученным голосом, обращаясь только к Ане, спросила:
– Так где же он? Позовите его сюда. Вы же знаете, где он! – Голос ее надорвался от обиды. – Он так с вами измельчал, что от матери бежит! – Она крикнула эти слова фальцетом.
Аня вскочила с кровати. Они стояли друг против друга и дышали точно в одной упряжке. Она не верит Ане, считает, что Аня спрятала от нее Романа. Ну и пусть считает! Витя о чем-то заговорил с Аней, наверно объясняя, где можно искать Романа, но Аня не слушала, рвалась к двери. И все заторопились: слишком уж неудобно было смотреть, как разыгралась чужая драма.
Анна Парамоновна накинула на себя платок и полезла в шубу.
– Я провожу вас.
И они выбежали из комнаты.
В аллеях парка присесть было негде. Из сугробов торчали только гнутые спинки садовых скамеек. Тогда они стали прохаживаться по тротуарам под освещенными окнами факультетских корпусов.
– Молчите? Злиться-то не надо, – сказала Анна Парамоновна. – А надо уйти с дороги, не мешать человеку.
– Ничего вы не понимаете.
– Нет, понимаю, понимаю, – твердила Анна Парамоновна. – Я хотела говорить с вами обоими. Его нет – буду говорить с вами. Его товарищи, которые написали мне, что его выгнали из аспирантуры, не упоминают вашего имени. Но я-то понимаю, что виноватых тут двое. Я-то ведь все понимаю.
– Его выгнали? – испуганно спросила Аня.
– Не притворяйтесь! Да мне и не нужна ваша откровенность. Мне нужно, чтобы вы уехали куда требуется, куда посылают, – диктовала Анна Парамоновна с ожесточенным спокойствием. – Мне нужно, чтобы вы перестали влиять на Романа. Чтоб не гнался за легкой жизнью из-за ваших капризов. Разве вам не хватает на ваши наряды отцовских длинных рублей с Сахалина? Откуда вы беретесь такие? Кто поливает вас из золотой лейки?
– Неправда это! – мучительно выговорила Аня. – Все вы выдумали про меня! Выдумали! И я знаю: потому что я – Атлантида. Но разве я виновата, что отец был в плавании, когда я родилась, и они там придумали послать телеграмму, а мама все делала, как хотел отец?.. Разве я виновата? Я Аня, Аня, а не Атлантида! Вы тоже Анна, и я Анна. Зачем же выдумывать?
– Я и не выдумываю, – в том же тоне отвечала старая женщина. – Что я, не вижу, что ли, какой стал Роман? Даже по письмам. Он, как волк, ищет свою судьбу. В одиночку. Где получше. Мы с отцом не искали легкой жизни, нам краснеть было не за что. Я – мать! Мне было жалко его незадачливого детства, но я не хочу, чтобы вы его теперь подкармливали. Чтобы он ждал, пока вы окончите курс ученья, пока вы решите, куда вам хочется ехать.
– Хорошо, хорошо, – соглашалась Аня. Лицо ее горело, а она еще терла в беспамятстве варежками и все твердила: – Хорошо, хорошо…
Она твердила так не потому, что хотя бы в одном слове материнской ревности была правда, а потому, что все, что слышала она сейчас о настоящей жизни, уже давно копилось в ней самой и требовало выхода.
– Что сделали вы с моим лопоухим мальчиком? – с печалью и гневом говорила мать Романа. – Он был сильный. Никогда не просил о помощи.
На снегу, маленькая, в серых валенках, закутанная в черный платок, она действительно была похожа на иззябшего важного грача. Что-то надломилось в ней в эту минуту, – может быть, продрогла. Сказала примирительно, с глубокой горечью:
– Впрочем, я только так говорю, из гордости, будто он сильный. Ведь убежал от меня. Испугался встречи.
– Как убежал? – в ужасе переспросила Аня.
– Так. Взял лыжи и уехал. Мне Витя объяснил: «Вот его полушубок, а лыж нету. А только что были. Значит, ушел». Не подготовлен к разговору. Разве можно убежать от жизни? От самого себя?
Только сейчас Аня почувствовала, как оскорбительно для старой женщины, вырастившей сына, приехать к нему и быть одной, – нет, хуже: с незнакомой девчонкой, отобравшей у нее сына и еще прибежавшей за наперстком.
Аня заторопилась к автобусу.
– Прощайте. Идите скорей домой, вы же больны, – сказала она. – Я пришлю его. Я знаю, где он.
4
С трудом она открыла забухшую, обитую войлоком дверь дачи и услышала музыку электроды. Федька и Саша, ошалелые от занятий, сидели, сложив на столе, среди книг, под углом, точно поленницу, свои четыре ноги в валенках. Ясно было, что у них перекур. Роман лежал на кровати и не поднял головы.
Появление Ани вслед за Романом развеселило ребят.
– Анька, ты?!
– Весна на дворе, лыжники скаженные! Куда вас принесло?
– Вы занимайтесь, я вам не буду мешать, – сказала Аня, бросая шубу на спинку кровати.
– Нет, ты послушай нашу любимую!
Они включили электроду, и снова закружилась пластинка. «За окнами шумит метель роями белых пчел…» – пел хриплый голос.
– Выдернул чайник, включил музыку – просто!
– Если бы не электрола, а патефон – рукой крутить, мы бы отвыкли от музыки. Верно, Саша?
Они были рады Ане, топтались вокруг нее, и все благоустройство их размеренной жизни, заполненной сотнями страниц конспектов, сейчас выражалось в бессвязных восклицаниях. Посторонний человек мог бы подумать, что они разленились тут, на актрисиной даче.
– А мы, Аня, с мальчишками познакомились. Хорошие ребята, с осводовской станции. На высоком мосту зимуют.
– А сейчас – с рабочими, которые лед колют на реке.
– С запашонным…
И оба стали хохотать, припомнив что-то, видимо, очень забавное.
– Уже и по фамилии знаете? – поддержала разговор Аня.
– А это не фамилия! – возразил Федька. – Мы его спрашиваем в воскресенье: «Есть водка?» – «Не держим», – говорит. «Эх, говорим, запасец бы надо иметь. Запасец…» А он посмотрел с усмешечкой; видно, задели его за живое, глаза хитрые. «А может, я уже запашонный…» Слышишь? Запашонный!
И снова ликовали Федька и Саша, припоминая все истории с этим бородачом, что две недели возит лед мимо дачи.
Роман лежал неподвижно, и было ясно, что он не принес землякам никакого оживления в их трудовую жизнь, и они встряхнулись по-настоящему лишь с появлением Ани.
Федька подкрался к Роману и заглянул в глаза.
– Что это у тебя выражение лица, будто одеколоном тебя освежают?
– Иди ты знаешь куда…
Аня быстро подошла к Роману и потянула его за руку.
– Пойдем на минутку.
Она молча прошла впереди Романа в холодные комнаты, и когда открыла дверь, из темноты стремительно бросилась ей под ноги Дымка, с шумом ворвалась в тепло жилья.
В холодных комнатах не было электрического света. Здесь Федька и Саша подвешивали на стене, повыше, от мышей, запас провизии. Вдоль стен чего только не было: велосипедная рама, рыбацкая верша, маленькая фисгармония, заваленная книгами. В куче луковиц зашуршали мыши.
– Что же ты? – спросила Аня, задыхаясь от спазм, стеснивших горло.
Но, видно, Роман был не тот, что утром, – прошла необходимость обманывать себя, – и он ответил:
– Ничего. Я отдыхаю.
– Что я, не вижу, что ты мечешься, а не отдыхаешь?
– Я мечусь потому, что отдыхаю, – упрямо повторил Роман. – Вот уже много лет стараюсь отдыхать.
Никогда, в минуты самых мучительных сомнений, Аня не могла себе представить, что он так слаб. Она сдержалась и сказала:
– Езжай скорей. Мама больна… Стыдно!
Теперь она понимала, чего испугался Роман: его прогнал из Москвы страх, что мать сразу лишит его веры в себя. Но этой веры все равно не было: разве может окрылить бегство?
– Она не обидела тебя? – вяло спросил Роман.
Привыкнув к темноте, она различала его лицо, злую улыбку.
– Мне бы хотелось, – сказал он каменным голосом, – чтобы тебя сильно обидели. Тогда бы я мог за тебя заступиться. Я никогда за тебя не заступался, никто тебя не обижает.
– Ты меня обижаешь, – сказала Аня. – Езжай скорей, – упрямо повторила она.
– С тобой?
– Нет, нет! – испугалась Аня. – Я тут останусь.
– Если бы ты знала, как не хочется!
– Жидкий ты на расправу, Роман.
Роман помолчал.
– У тебя есть деньги? – спросил он. – Дай немножко, надо ей чего-нибудь купить…
Какими умеют быть деликатными самые шумные, развеселые парни! Федька и Саша не удивились ни неожиданному отбытию Романа в Москву, ни решению Ани остаться у них. Они погомонили, поспорили о погоде, лыжная или не лыжная, и снова стало тихо в комнате. Федька и Саша должны были заниматься всю ночь. Во сне, пригревшись у печки, вздыхала собака.
Чтобы не мешать ребятам, Аня стала прогревать лыжи Романа у огня, и на них выступили пузырьки лака. Руки, испачканные лаком, приятно пахли, и комнату наполнил этот запах. В комнате он неприятен, а на руках замечательный! После Москвы в ушах звенело от тишины зимней дачи. И вдруг она услышала взрыв – бухнуло далеко-далеко, а дом знакомо вздохнул. Теперь частой очередью – чаще, чем было в декабре, – бухали взрывы, и в доме осыпалась пыль, чуть звенели стекла. Аня, нюхая руки, подошла к кровати и упала лицом в подушку, чтобы ребята не услышали. Казалось, что все обиды, которых не замечала, от которых отмахивалась, склубились у нее в горле и разрывают его. «Не любит. Никогда не любил. Даже не спросил, еду ли, куда… Нужна? Да, конечно, нужна. Не из-за денег, нет. А все-таки… Если к матери ехать – так вместе, чтоб легче было ответ держать; если оставаться в Москве – так можно и в официантки. Живем вместе полгода, а он все напоминает, что еще не муж, еще свободен… Глупо, непостижимо глупо, что ни разу не задумалась над этим. Но как страшно остаться одной!..» И она не заметила, как уснула.
Очнулась глубокой ночью. Со вздохом открыла глаза, Федька свалился, спал, а Саша все сидел за столом. Аня засмеялась: показалось, что Саша крестится. Он полуобернулся к ней, держа в руках очки и носовой платок.
– Чего смеешься?
– Очки протираешь, – шепнула Аня. – А мне показалось, что молишься.
– Мотору водяного охлаждения, – сказал Саша, надевая очки. – Спи. – И Саша снова сгорбился над книгой. Вдруг резко повернул голову. – Что с вами стряслось в городе?
Аня лежала на спине, руки под головой.
– Стряслось? – повторила она, подумав. – А ты заметил?
– Все заметил, – с добродушным самодовольством сказал Саша. – Чувство. – И добавил, как бы себе в уразумение: – Чувство – это когда иначе не можешь.
– Во-во, в самую точку, – подтвердила Аня.
Саша перешел к ней, сел в ногах.
– Ты уедешь?
– Конечно! – не задумываясь, ответила Аня, а сердце дрогнуло: разве она что-нибудь решила? – Я не могу изменить его жизнь, а он мою… может.
– Ты уезжай, – посоветовал Саша. – Он честный, но слабый. Не такого мы знали на фронте.
– А мать у него сильная, – сказала Аня.
– Он потерял свое место в жизни. Вот что с ним случилось. Его надо за шиворот – и в жизнь, как в прорубь. Протрезвеет…
Далекий взрыв снова мягко прозвучал в стеклах.
– Что это бухает, Саша? – спросила Аня.
– Что-то строят. Землю мерзлую рвут взрывчаткой.
Он встал, бережно подоткнул под нее одеяло, ворчливо сказал:
– Не спишь по ночам. Разделась бы. Очень он над тобой силу взял. – И отошел к столу.
Когда Аня проснулась во второй раз, хозяев в комнате не было – уехали в город. Трудно занималась синева за столом. Громко тикали, видно не прозвонившие, будильники. В тишине слышно было, как очередь глухих ударов вошла в дом, и снова зазвенели стекла. Вдруг Ане неудержимо захотелось знать, что это строят. В первый раз за всю зиму ей захотелось узнать, что взрывают, зачем? Взрыхляют ли мерзлый грунт в котлованах стройки? А может, как говорил Федька, гремит полигон далекого снарядного завода? Ей представился освещенный прожекторами ночной полигон, вагонетки, на которых подают к орудиям контрольные снаряды. И какие-то люди, наши московские или рязанские ребята, только в синих комбинезонах, с карандашами в карманах. Что-то фантастическое. И, затаив дыхание, она прислушалась к новым взрывам. Без перерыва!
Она не смогла лежать на спине, ей стало жарко от наплыва мыслей. И так остро жалко было, что Нефедыча нельзя полюбить немедленно, никак нельзя. Милого, хорошего, а нельзя полюбить.
Она приподнялась, опершись на локоть. Нужно же было ворваться к ребятам, взбаламутить всех, а в конце ночи услышать методическое буханье и понять самое важное…
«Как это его мать сказала? – думала Аня. – «Как волк в одиночку»… Ничего во мне не поняла Анна Парамоновна, а верно сказала: «Разве можно убежать от жизни?» Все эти дни казалось самым важным – решить: ехать, не ехать… О, как это просто, само решение: ехать, не ехать… Конечно, ехать! Ехать не потому, что велено, а чтобы его увезти. Здесь ему оставаться нельзя. Смешно об этом задумываться, если знаешь, как жить».
– Он поедет. Нужно только захотеть! – вслух сказала Аня.
И за закрытой дверью Дымка отозвалась на голос постукиванием хвоста.
– Он надо мной силу не взял, – сказала Аня. – Непременно поедет. И его снова полюбят. Это дороже всего. Даже дороже жизни…
И опять раздалось постукивание в соседней комнате. Потом Дымка заскреблась лапой в дверь – просилась к человеку.
1956








