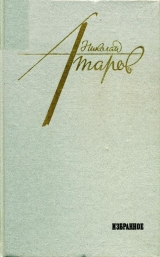
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 37 страниц)
Он вернулся в Ялту весной, несколько дней не ходил в санаторий и дописывал монографию. Он писал точно, в стиле, не допускающем разночтений. Вот наугад выдержка из первой главы:
«В городе Дели, в Индии, во время голода 1893 года, за отсутствием возможности погребения, было сожжено с 14 апреля по 10 мая 1700 трупов. Их сожгли в горне кирпичеобжигательной печи системы Гофмана. Одновременно загружали в горн 60—70 трупов, сгоравших до превращения в пепел в течение семи часов, с затратой до полсажени куренных дров».
За чаем доктор читал главу за главой Анне Никодимовне, она слушала и давала советы. Так, например, «полсажени куренных дров» она посоветовала перевести в кубометры, как теперь принято. Она подозревала, что в Москве не обошлось без этой неудавшейся балерины, но ни разу не высказала своих подозрений.
Труд Дробышева был напечатан. Лика и летом не смогла приехать домой. Письма ее стали сбивчивей и торопливей. Она была счастлива, работала в цехе; какими-то полуфразами она писала о Саше. Это был техник, с которым у нее были общие друзья; жила в одном общежитии – и все же не была знакома. А когда случайно с рационализаторской бригадой поехала в Сормово, там они познакомились рано утром на лодочной пристани, в очереди за байдаркой, и потом подружились, а Саша уже не работает на автозаводе, а работает в Сормове, и они встречаются в выходные дни на пляже.
Из этих писем Дробышевы поняли только одно: что дочь влюбилась и, наверно, выскочит замуж.
Как было принято в доме, предновогодней уборкой руководил сам доктор. Заранее он пригласил полотера – даже не одного, а двух – из тех, что круглый год натирали полы в санаториях. Полотеры пришли в солнечный день, было тепло на улице. Они распахнули окна, сняли пиджаки, повесили их на спинках отодвинутых стульев, разулись.
Один полотер – старый, другой – молодой. Проходя через комнату, доктор взглянул на полотеров, и вдруг что-то резко приковало его внимание.
Молодой работал легко, небрежно потряхивая плечами, руки держал за спиной и как бы пританцовывал левой ногой; правой ногой, прижимая к полу щетку, он делал свободные и легкие широкие мазки вперед, назад – и так подвигался без труда.
Старый тоже подпрыгивал на левой ноге и не отставал от молодого, но руки он держал не за спиной и не потряхивал плечами; согнувшись, старый полотер упирался обеими руками в коленку и не поднимал глаз от щетки, ерзавшей у него под ногой.
Дробышев даже присел на один из стульев, отставленных в угол. «Эк, как его согнуло дугой», – подумал он и вспомнил, что сам уже стар, что и его не пощадило время. Только влюбленный в себя дурак мог не заметить всех признаков старости, которыми он обзавелся в последние годы. Дробышев долго сидел на стуле, погрузившись в раздумье, пока старик, натужно приплясывая, не подобрался к нему и не попросил:
– Ну-ка, стульчик, доктор, позвольте.
Это открытие, конечно, что-то изменяло в жизни Дробышева. К утру, не поспав, он все обдумал и уговорил себя. Что ж, сказок про нас не расскажут. И в депутаты не выберут. Но хорошо, между прочим, что никто не узнал историю его шрама под правым веком. Хорошо, что война грозит не ему, что не он умрет от туберкулеза. И уж, наверно, на его веку не будет землетрясений, и он не будет бояться сойти с ума. А ведь он боялся – после землетрясения – и держал это в тайне от жены. Его обеспокоил случай с одним пациентом: тот сел бриться в здравом уме, встал – сумасшедшим и не порезался.
Доктор припомнил все это, все, что беспокоило и тревожило его в жизни, припомнил комиссара, который ремонтировал дизель на электростанции, припомнил дочь, злорадно представил себе, как она мотается с бригадами между Горьким и Сормовом, – и утром довольный старик вышел гулять на набережную, привычно опираясь на трость с резиновым наконечником.
Прошло еще два года. Снова была зима, в море – шторм, пять дней пароходы не заходили в Ялту, а когда наконец прибой утих, Дробышев поспешил на пристань выпить новороссийского пива в салоне пришвартовавшегося теплохода.
Доктор поднимался по трапу навстречу укачавшимся пассажирам с бледными лицами, кто-то рванулся к нему из толпы, порывисто обнял, поцеловал. Рядом с Ликой стоял молодой человек с чемоданом.
Это ее муж, Саша, просим любить и жаловать, они решили без предупреждения, как снег на голову, в море было так весело, нисколько не укачало…
Их оттеснили в сторону, Дробышев целовал дочь.
– Но ты-то, папа, как здесь очутился?
– Я шел в салон… Чудеса… Собирался пивком побаловаться… И не думал, не гадал… – Он суетился, пытался схватить чемодан. – Жизнь есть деяние.
Что-то приговаривая, он увлекал молодых обратно на теплоход.
Они выпили пива и сошли на мол.
Ялта после снежного шторма сверкала на солнце. Шла курортная, даже зимой щеголяющая по-летнему толпа. На набережной закутывали пальмы в рогожку. В городском саду красили в цинковый цвет статуи на фонтанах, фотографы грелись на солнышке. Вышли на промысел цыганки и приставали к гуляющим, совали прохожим под нос в смуглых ладонях бобы – красные, белые, черные, высохшие и точно из папье-маше.
– Пусть погадает, пусть погадает, – засуетился Дробышев.
– Не надо. Маму хочу поскорее увидеть.
Саша шагал впереди с чемоданом, разбрасывая ногами мокрую гальку, доктор вел дочь под руку, был оживлен, расспрашивал, умилялся.
Анна Никодимовна расплакалась в дверях, потом на нее нашел приступ молчаливой хозяйственной озабоченности. Доктор уселся в кресло и откровенно разглядывал зятя. То, что писала Лика, пожалуй, подтверждалось: славный на вид малый, с честным лицом, здоровый, молодой. Пожалуй, слишком молод, мог быть постарше.
Вдруг доктору пришла в голову веселая мысль, он натянул халат.
– Раздевайтесь, молодой человек.
– Лечить будете? – улыбаясь, спросил Саша.
Дробышев захихикал. Это была как раз та самая фраза, которую чаще всего говорили в ответ на докторское приглашение раздеться все эти инженеры-медеплавильщики, инженеры-холодильщики, полковники и майоры, которых он выслушивал в санаториях.
– Дышите глубже… Еще… Еще…
Дробышев выстукал Сашу, спросил: «Хорошо ли спите?», «Мочитесь ли по ночам?», «Не жалуется ли жена?». Под конец он шлепнул зятя по животу:
– А мясца мы еще нарастим, молодой человек!
И Саша совсем сконфузился. Он был уже не мальчик, ему почему-то стало стыдно перед женой, он смеялся баском и краснел и зачем-то поймал докторскую руку, когда тесть шлепнул его по животу. Он не знал, что это – чудачество или серьезный осмотр?
За обедом расходившийся Дробышев подливал вина в бокалы, веселился, расспрашивал, не дожидаясь ответа, как жить будут? Где – в Сормове или в Горьком? Не хотят ли иметь ребенка? Леся, решившая охранять мужа в этом разговоре, отвечала отцу спокойно и кратко. Радость встречи прошла. Только раз Леся умоляюще взглянула на мать, но та отвернулась, и, как в те ночи, когда они коптили камсу над самоваром, Леся все поняла: отец не только не любит их, он даже не испытывает родственной симпатии, он не боится их, не завидует, не ненавидит, он только злорадствует над тем, что у них не все устроено, попросту – что они молоды, что им предстоит жизнь.
– Жизнь есть деяние, дети мои, – сказал доктор и чокнулся с Анной Никодимовной.
Вдоволь напотешившись и проявив радушие, старик встал из-за стола и ушел гулять.
Молодые вышли в сад. Они оглядели из-за веток город, теснившийся внизу, – черепичные крыши, круглые нефтяные цистерны, гаражи под платанами. Море было двух цветов – в бухте и за молом. Теплоход дал три гудка.
– Помнишь, ты говорила: «Поедем в Крым и там повенчаемся в армянской церкви, на непонятном языке». Вот мы с тобой венчаемся, – сказал Саша.
Леся улыбнулась – это было не похоже на венчание. Грек в желтой рубахе окапывал виноградник на соседнем участке. Кипарисы положили длинные тени на все поле, земля в тени кипарисов была красного цвета.
– Как он назывался – Ван-Гог? – спросил Саша.
У них была веселая игра всю дорогу, вроде «викторины»: они узнавали художников. Они плохо знали художников. В Москве – от поезда до поезда – они побывали в музеях, Саша записывал то, что понравилось и самое диковинное.
В полумраке жесткого вагона ночью Леся растолкала Сашу. Ей так захотелось поболтать с ним.
– Смотри, врубелевский демон, – шептала она, показывая на верхнюю боковую полку, где в неестественной позе похрапывал пассажир; чемодан под головой ему мешал вытянуться, он закинул руки на лоб. Это было похоже. Врубелевского демона они знали и раньше. И весь остаток ночи они простояли в тамбуре, целуясь, смеясь, покуривая одну последнюю бесконечную папироску.
Анна Никодимовна убрала со стола, подмела, присела на тахте. В комнате темнело по-зимнему рано. Анна Никодимовна отдыхала, что-то обдумывая, чему-то ужасаясь, ведя какой-то счет. В это время из сада вернулись молодые. Анна Никодимовна притаилась, сама того не сознавая. Полная пожилая женщина сидела на тахте, раскинув короткие ручки, не доставая ногами до полу.
Дети отошли в угол веранды, где стояла араукария. Анна Никодимовна знала, что они рассматривают деревцо.
– Какой это породы, хотел бы я знать? – сказал Саша.
– Это араукария. Говорят, самое древнее растение на земле.
– Что-то вроде волосатой елки.
– Даже и не елки, а, знаешь, вроде отражения елки в воде…
– В быстрой воде, – добавил Саша.
Молодые люди помолчали. Анна Никодимовна сидела не шелохнувшись.
– В детстве она мне больше нравилась.
– Она была меньше?
– Точно такая же. Видишь, в какой кадушечке ее держат. На каждое человеческое поколение она только вот одну веточку прибавляет.
– Не много, – сказал Саша.
Анна Никодимовна вжалась в тахту и слушала. Леся предложила пройтись по городу, она покажет школу на горе, где она училась. Они быстро прошли мимо Анны Никодимовны, не заметив ее.
– Мамочка, мы скоро придем! – крикнула Леся в дверях.
Анна Никодимовна слышала, как щелкнула за ними английским замком парадная дверь. Встав с тахты, Анна Никодимовна стала припоминать, что ей надо сделать по хозяйству. Ах да – камсу прокоптить. Леся любила копченую камсу. Сад горел на закате красным огнем, как все сады на юге в декабре, но Анна Никодимовна ничего не замечала.
Она повторяла про себя все, что услышала, сидя в уголке на тахте. Что-то из сказанного детьми ей показалось давно знакомым. С ниткой недоконченной, но уже потемневшей камсы Анна Никодимовна вошла на веранду, приблизилась к елочке, стоящей на жардиньерке. Араукария тянула во все стороны коротенькие извилистые веточки. И вдруг то, что смутно казалось и раньше Анне Никодимовне, но было сложным, не по уму, стало простым и понятным.
Ей стало стыдно перед детьми. Было стыдно. И стыдно было даже не оттого, что жизнь прошла бессмысленно и пусто, не оттого, что она могла что-нибудь сделать и ничего не сделала, а оттого, что все это время в углу стояло на жардиньерке мохнатое растеньице, будто повторяя, будто передразнивая чужую жизнь.
– Вот гадина, – шепнула Анна Никодимовна, сама стыдясь своего приступа ненависти, и все-таки, не в силах сдержать себя, схватила влажной рукой растение за извилистую мохнатую веточку.
В калитке щелкнул замок. Анна Никодимовна разжала руку. Дробышев вернулся с прогулки. Он вошел на веранду, трость поставил в угол.
– Молодой человек пороху не выдумает… А? Здоровяк, ни на что не жалуется.
Анна Никодимовна молчала, стоя у араукарии, и Дробышева смутило ее молчание.
– Я думал, Аннушка, что бы подарить детям, – сказал он, – наш век кончился, подарим им…
– Нет… ни за что… ни за что… – раздельно выговаривая каждое слово, сказала Анна Никодимовна, быстро вышла на крыльцо, стала коптить камсу над самоваром.
1939
Жар-птица
1
– Лесной Волчанкой не запугают! Разве мы добиваемся незаконного? – кричал Роман Шестаков. – Ты не годишься в Лесную Волчанку: мне еще два года учиться, пять лет лечиться!
Не слыша своего ожесточенного голоса в шуме вузовского коридора, он рвался из Аниных рук, а Аня Орлова, трепещущая, заплаканная, ничего не видящая сквозь запотевшие стекла очков, едва поспевала за ним. Минуту назад она была среди своих однокурсников, толпившихся в директорской приемной, и для нее самое главное было, куда ее направят на работу; но сейчас, когда так разбушевался Роман, это потеряло всякое значение, важнее всего – унять его, образумить, заставить улыбнуться. На лестничной площадке она наконец остановила его.
– Как ты ведешь себя, Роман?! Что ты тут распоряжаешься?
Рослый, в черном суконном полушубке, он тяжело дышал. Лицо небритое, плоское, несчастное. В одном глазу – в его зеленой радужной оболочке – знакомая милая отметинка, черная крапинка, и от этого в минуту гнева выражение лица кошачье, вся дикость характера таращится в упор из этого крапленого глаза. Аня с мольбой прикоснулась ладонью к его щеке.
– Побрился бы, – сказала сквозь слезы. Попробовала пошутить: – Девушки этого не прощают.
Но он не склонен был к шуткам.
– Так ты откажешься? Отвечай! – сказал он.
– Но ведь все едут, Ромаш.
– Все?
– Все, – тихо повторила Аня.
Говоря так, она понимала, что ничего не значит, что она говорит; не ей решать, потому что она любит, и, значит, будет, как захочет Ромаш, как ему надо.
– Тогда всё! – яростно крикнул Шестаков.
И, не слушая Аню, которая кричала ему вслед: «Погоди! Погоди же!» – не владея собой, встряхнув кулаками, будто оттолкнувшись палками на лыжном спуске, он сбежал с лестницы и мимо швейцара метнулся в дверь.
Третий день в технологическом институте Москвы шло распределение молодых специалистов, и, как всегда, это переломное в жизни людей событие сопровождалось множеством душевных переживаний; у высоких закрытых дверей, за которыми шло заседание комиссии, торопливо завязывались или навсегда развязывались многие жизненные узлы и узелки.
Все утро аспирант Роман Шестаков простоял у окна в коридоре, в чужом институте, глядя на мосты за окном, как бы приподнятые густым туманом, на цепочки не погашенных днем фонарей. Из директорской приемной сюда доносились голоса выпускников. Их было около тридцати, и среди них Аня Орлова. Он не заговаривал с ней. Она его сторонилась. Стоя в полушубке у окна, не замечая обращенных на него взглядов, он весь ушел в созерцание непогашенных фонарей на мостах. Какая бывает припухшая желтизна вокруг фонарей в такие туманные дни, в последние дни марта. В приемной не затихали голоса – обсуждались плюсы и минусы Калининграда, Копейска, Губахи. Среди выпускников было много коренных москвичей вроде Ани; им труден выбор, трудно решиться покинуть родителей, квартиру, и особенно тревожила, пугала всех какая-то Лесная Волчанка – отдаленнейший таежный поселок в Восточной Сибири, куда на новый завод должны были направить пятерых.
Несколько раз Шестаков выходил на лестницу курить, но торопился назад, боясь пропустить минуту, когда наконец Аня Орлова войдет в кабинет и там какие-то посторонние люди решат ее и его судьбу. Он набрался выдержки и готов был ждать до конца. И вот, как всегда, сорвался. Это произошло, когда незнакомая студентка с пылающими щеками выскочила из кабинета, а за нею вышел директор. Он был раздражен, – наверно, ее нежеланием ехать по назначению.
– Государство учило вас. За добро добром платят. И почему все едут, а вы одна капризничаете? – говорил он, глядя на вздрагивающие плечи студентки.
В эту минуту Роман Шестаков сунулся в приемную. Аня не видела его, она стояла в толпе. Вдруг она обернулась, будто кто толкнул ее. А может быть, в самом деле кто-то показал ей на дверь.
– Лесной Волчанкой не запугаете! – крикнул Шестаков директору.
– А кто этот молодой человек? Посторонний? И почему он в верхней одежде? – спросил директор.
Не давая Роману отвечать, Аня увлекла его из приемной. Он, ругаясь, позволил себя вывести.
Когда входная дверь захлопнулась за Шестаковым, Аня Орлова медленно вернулась в конец коридора, подошла к окну, где Роман терпеливо простоял все утро. Отчаянная выходка Романа потрясла Аню, ей было стыдно вернуться в приемную. Вдруг показалось, что она увидела его в окно: кто-то бешеной походкой пересек всю ширину моста и растворился в тумане. «Милый! Вот и меня понесло… Захоти только – шла бы за тобой, в спину бы глядела и была счастлива».
Так сильно задумалась она, так повело ее за ним, что однокурсник Нефедов должен был тронуть ее за локоть, чтобы она его заметила.
– Что, опять сажа в трубе загорелась?
Аня кивнула головой.
Нефедов все знал: и приступы бешенства Романа Шестакова, и всю неладную историю Аниных отношений с этим смутьяном из чужого института, третий год пребывавшим в аспирантуре, незадачливым поэтом, отчаянным слаломистом.
– Не хочет, чтобы ты уезжала?
– С ним что-то странное происходит. Не знаю, чего он хочет. А его мать меня считает причиной всех зол. Письма пишет ему, обзывает меня жар-птицей.
– Жар-птица, – выдавил из себя Нефедов, побагровев, изменившись в лице от обиды за Аню.
– Похожа?
Сквозь очки она в упор смотрела на товарища, ожидая ответа. Тоненькая, гибкая, в вязаном синем свитере с белыми оленями на груди. За очками ясные, синие глаза. Никакая не жар-птица. Голубая жилочка у переносицы стала сегодня еще голубее. И трогательно шевелится от волнения кончик тоненького, прозрачного носа.
– Ну, если ты жар-птица, не тот у тебя Иванушка.
Нефедову можно позавидовать – трезвости его взглядов. Ему все ясно. И хотя Аня никогда не давала ему повода обмануться в том, кого она предпочитает из двух – его или Романа, но даже печальная ясность обиды не застила ему глаз, несмотря ни на что, он был искренне участлив к Аниной судьбе.
– Что ж, она тебя видела, мать Романа?
– Ни разу! Понимаешь, она и не знает, какая я! Ей только известно, что денег у меня больше, чем у Романа. Да теперь все уже кончилось – отец перестал присылать. А еще она знает, что по метрикам я – Атлантида. Атлантида Федоровна. Она вообразила обо мне бог знает что!
Аня уткнулась в плечо Нефедова. Заслоняя от посторонних взглядов, Нефедов повел ее по коридору. На ходу выговаривала, по-детски глотая слова:
– Ох, что с ним делать? Нефедыч, милый, что делать?..
Нефедов водил ее по набережной и, чтобы развлечь, рассказывал историю о том, как первокурсники танцуют в общежитии, булавками подключая радиолу в электросеть. Аня слушала только из благодарности. Милый Нефедыч, ну что он хлопочет? Сейчас, после нервного припадка Романа, снова убедилась Аня в том, что все осталось по-прежнему и не бросит она его одного; ей не страшна никакая тайга, но пусть туда едет Нефедов или другие ребята, она не сможет.
2
Роман Шестаков не был для нее случайным увлечением или «так вышло». Она познакомилась с ним больше года назад на новогоднем вечере в Доме культуры, куда ее привезли товарищи по практике – инженеры. Все повставали из-за столов, и товарищи ушли танцевать, оставив ее с новым знакомым, они долго сидели в опустевшем зале, оплетенные серпантином, под пестрым бумажным фонарем. Аспирант из сельскохозяйственного вуза, сильно захмелевший, рассказывал с юмором, не щадя себя, как он «присосался к науке»: все однокурсники разъехались по стране свиней выращивать, а он сменил тему диссертации и теперь выбирает по третьему разу.
Черная крапинка в зеленом глазу смеялась, и Ане было ясно, что он просто дразнит ее. Он называл ее «доченькой», – ничего обидного, так он зовет всех хороших девушек. Он старше ее!
– Вы думаете, я молодой? – запомнилось ей, как он вопрошал, сжимая в руке бокал. – Мне тридцать два, доченька. Нервы издерганы. Знакомый врач посоветовал мне: «Все, что есть на душе, всегда выкладывай! Не бойся, какое впечатление произведет». Вот я и сохранился!
С усмешкой выслушал Анино признание в том, что она любит свою будущую профессию.
– Толково! А девчата мне говорили: «Вуз – это значит: выйти удачно замуж».
– Ваш врач, наверно, доволен своим пациентом?
– Почему?
– Я вижу: вы все выкладываете.
Еще несколько минут, несколько глупых фраз, и Аня простилась бы с ним и пошла искать своих. Шестаков не замечал ее, был пьян и сильно возбужден. Но он приковал ее к себе, сам не зная того, когда, словно мятые деньги, стал вытаскивать из карманов мамины письма в затрепанных конвертах и читать их, читать наугад, что придется. Так первое представление о нем Аня получила от его матери. Учительница из далекого села под Уржумом в этих измятых письмах, которые Роман, точно деньги, бросал на мокрое стекло стола, называла его «лопоухим малым», «беднягой», «оборванцем», «моим простым, неплохим и не очень глупым мальчиком». Мать вела с ним горячие споры о том, как следует жить, и вспоминала свою юность, юность покойного отца. Роман смеялся, читая «избранные места из переписки», и насмешливо-грустно разрушал все доводы в пользу бескорыстия. Он вспоминал жизнь семьи, где было их четверо, а отец получал сто двадцать пять рублей. Память подсказывала ему злые картинки детских лет. Он рассказал Ане, как с сестрой они шарили по партам в поисках корочки хлеба, как мама по субботам стирала их рубашонки, купала их с сестрой, а в воскресенье надевала на них эти рубашонки, выглаженные, залатанные.
– А впрочем, я со всем сказанным согласен, – заключил он, сгребая и комкая в сильной руке материнские письма, мокрые, измятые конверты.
Ане почти до слез стало жалко этого человека. Он собирал письма в пачку, разглаживая их, а она думала о себе, о своем детстве, о маме, которую почти не помнила, образ которой хранила в священном уголке памяти. Так с первого часа знакомства он стал ей понятен: одинокий со своими письмами, рослый, широкий в плечах, готовый и дразнить «доченьку», и нараспев, покачиваясь, читать строки пушкинского «Пророка»:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Прошло два месяца, и он читал ей того же «Пророка» в хирургической клинике. За десять лет после ранений он трижды ложился – всё резали его, всё выходили из него осколочки; открывалась рана, гноились рубцы, и его укладывали на операционный стол, извлекали проклятые кусочки – их называли «секвестрами». Это было в марте прошлого года. Аня была готова ночи стоять у его изголовья. Она приносила книги, совала апельсины в тумбочку, незаметно от него отправлялась на беседу с лечащим врачом. Возвращалась, снимала очки и по его тихой просьбе говорила ему что-нибудь нежное. И он бледно улыбался, просил повторить. Он все был недоволен собой, и когда говорил – «спасибо, день прожили», – она понимала, сколько в этих словах горечи. И когда ему стало совсем плохо, метался в жару – она знала: он ждет ее, неотрывно глядит на дверь; она видела себя его глазами, когда входила, тоненькая, в больничном халате.
За то, что ему нужна, она все прощала Роману: и то, что ударил неосторожного санитара, когда принимали в клинику, и то, что «решил еще одну зимушку перезимовать в аспирантах», и то, что пил на чужие деньги и на те скромные суммы, которые высылала его мать, сельская учительница. Как много общего соединяло ее теперь с неизвестной женщиной, возненавидевшей Аню заочно, как совратительницу сына! («Ты уже поймал свою жар-птицу, – писала она ему в последнем письме, – поймал и очень счастлив. Она помогает тебе на ложном пути погони за внешним блеском материальной обеспеченности. Разве ради этого мы с отцом тебя растили? Ты хочешь убежать от жизни. Как жаль, что не отдала тебя в пастухи…»)
Единственно, что было правдой, – это Аня помогала Роману деньгами. Третий год она жила одна в отцовской квартире. Отец, ученый-океанограф, ежемесячно высылал дочери с Сахалина ее «пай» – так называл он порядочную сумму, какую положил выплачивать до окончания ею вуза. Когда после смерти мамы отец женился, мачеха дала ей все. Сперва карманные деньги на буфет; и она раздавала подружкам на перемене посыпанные сахарной пудрой «языки»; позже – билеты на елку в Колонный зал; еще позже – отдельную комнату, венгерскую шубку, билеты в Большой театр по литерной книжке, тбилисские босоножки. Но сама Аня не была нужна, ее никто не ждал дома, на нее не хватало времени. И она окоченела в попытках полюбить отца и мачеху, которые были счастливы без ее любви – счастливы собой, своей карьерой, наукой.
В апреле прошлого года, выйдя из клиники, Роман по целым дням засиживался у Ани, не стесняясь ее однокурсников. К нему привыкли: бахвал, но подкупает искренностью – сам рассказывает, как на селекционном участке за три дня одну веточку крыжовника опылил, как в парниках выбрал занятие – веревочки резать для подвязки стеблей огурцов, как целое лето на практике удил рыбу. И когда он рассказывал все это, Аня и ее подруги задумывались; им казалось, что уже несколько лет он смеха ради проверяет на себе все виды казенного равнодушия. Он принесет бумажку – верят; болен, лежит в клинике – ладно, а только покажется – снова возьмут в шоры. Каждая его минута распределена, каждый час под опекой: лекции, беседы, семинары, конференции, культпоходы, каждая страница в книге обозначена «от сих до сих». Все решает одна показная активность, для формы, а что за аспирант, какой будет ученый, немногих это по-настоящему интересует. Вот только мать беспокоится.
В пронзительной смеси цинизма и нежности, в честности, с какой он называл себя «недоработанный материал», в скромности (потому что воевал-то хорошо, танкист с орденами, израненный, а никогда, даже Ане, не рассказывал о войне) Аня видела его силу, незаурядность; она была ему необходима, и казалось, что именно он должен совершить что-то большое и важное, на что не способны товарищи по курсу – ни милый Нефедов, ни другие. Но когда она так думала о нем, невольно хотелось представить и свое будущее, и возникало, какое-то беспокойство: как же быть, что же делать с Романом?
До самой глубокой осени она работала на заводе в Казахстане. Переписывались редко. Но когда вернулась с практики, Роман встретил на вокзале – и не один, а с целой компанией. Только успели завезти чемодан на квартиру, ему захотелось в ресторан, в «Аврору». Этого раньше не бывало. Аня отправилась с ними – два квартала в такси. Она рядом с шофером, а там, позади, кажется, четверо, вповалку; оттуда доносился пушкинский «Пророк» в исполнении Романа. Как будто не было у нее ни знойного лета, ни пыльных дорог в степи, ни звездного неба по ночам.
В «Авроре» она разглядела товарищей Романа. Оказывается, один из них был «виновник торжества», вислоусый, брюзгливый именинник. Назвал себя инспектором по котлонадзору, и был пьян, и повторял бессмысленно: «Меня эквивалент не интересует». Слева от Ани – молодой поэт, долговязый и румяный, довольный собой: только что закончил песенку смотрителя маяка для научно-популярного фильма. Еще был одутловатый, сивый старик, из бывших актеров, который хвастал: «Моей красоте Качалов завидовал», – и сетовал на судьбу, загнавшую в киностудию документальных фильмов.
«Зачем все это?» – хотелось крикнуть Ане. Но она терпеливо разглядывала свои загорелые руки или украдкой улыбалась Роману, потому что снова чувствовала, что нужна ему, нельзя ему без нее. А может быть, и неплохие люди? И вправду был когда-то хорош этот старый актер? Из бессвязного разговора поняла, что эти люди – товарищи Романа по киностудии, где он устроился научным консультантом по фильму, помогает делать сельскохозяйственный журнал. Поняла также, что ему грозит исключение из аспирантуры.
– Исключать меня невыгодно, – говорил Роман поэту. – Затрачены государственные средства. Хоть плохонький, а кандидат наук выйдет.
Аня устала с дороги и опьянела, и было досадно ей, что с Романом нельзя поговорить с глазу на глаз. А когда в пятом часу утра провожали ее гурьбой, актер взял под руку.
– Не часто мы с вами встречаемся. – Она не сразу даже сообразила, что впервые видит его. Он прижал ее локоть и сказал: – Вот околею, еще реже будем встречаться.
Аня засмеялась – в желтой предутренней мгле впереди слышался пьяный голос поэта:
Роман бредет в тумане.
Туман в башке Романьей.
Вот наконец-то правильные слова! Она смеялась, понимая только одно: снова бесконечно близок ей этот бредущий в тумане, пусть пьяный сегодня, а все равно самый сильный, самый искренний человек.
На зимних каникулах Шестаков повез Аню за город – побегать на лыжах. Он баловался этим тайком от врачей. Где-то в дачном поселке жили земляки Шестакова, студенты авиационного института, которым некая симпатичная пожилая актриса уступила на зиму вместе с дворнягой Дымкой старый особнячок. Федька и Саша внесли в актрисин дом студенческий беспорядок и жили, вернее – зимовали у шведской печки, обогревавшей две комнаты из пяти.
Московских гостей Федька и Саша встретили улюлюканьем, нелепыми возгласами, а собака – восторженным лаем взахлеб.
Трое мужчин немедленно отправились по дальнему маршруту – только лыжи проскрипели за окнами, Аня стала приводить дачу в порядок: извлекла из холодных комнат два кожаных кресла, развесила на окнах старинные платы монастырского шитья. Где-то неподалеку все время раздавались глухие взрывы, от которых в комнатах медленно оседала пыль, ложилась тонким слоем на красное дерево старинной кровати. Дребезжали стекла в маленьких окнах.
С этого дня, не разбираясь в своих побуждениях, Аня стала часто возить Романа к его друзьям на зимнюю дачу. Она и сама подружилась с Федькой и Сашей. Видно, потому, что Шестаков отдалил ее от однокурсников, дружба с бодрыми, неутомимыми ребятами из авиационного института была приятна Ане, восполнила убыль молодого, энергичного, что было в ее жизни еще недавно.
Старинная павловская кровать – предмет особой гордости актрисы – была необъятной ширины, и после ужина все вчетвером свободно располагались на ней, рассказывая новости трех вузов, или под буханье взрывов тихо пели любимую, вроде «Одинокой гармони», и, случалось, на часок засыпали перед тем, как на всю ночь засесть за книги.
Известно было, что поутру Федька и Саша спят богатырским сном; поэтому по вечерам веселые споры начинались перед тем, как заводить будильники: дело в том, что один из них за ночь отставал на минуту, другой убегал вперед; нужны были сложнейшие вычисления, чтобы на рассвете секунда в секунду раздавался отчаянный сдвоенный звон. Студенты умывались снегом, выставляли Дымке похлебку на целый день и, горланя, удалялись. Им предстоял рассчитанный по минутам дальний путь – в электричке, в метро и в троллейбусе.
Роману некуда было спешить, и Аня оставалась с ним. Лежали молча, с открытыми глазами. Аня представляла себе, как Федька и Саша бегут в ногу по снеговой тропинке в лесу до самой платформы. Много бы дала Аня за то, чтоб и Роман был вместе с ними в этом пути, потому что хорошо чувствовала, как он все больше недоволен собой. А потом наступала минута забытья – без мысли, без будущего. Полное счастье… Аня шептала:








