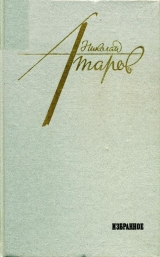
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
Сидя на корточках перед салазками, Митя Кудерев допрашивал Алалыкина. В голосе его, странно сказать, была даже ласковость: так ненавидел он своего собеседника.
– Ты ж говорил: дети у тебя погибли. Плакал, вот тут сидел. А теперь ожили? Они, брат, не оживают.
– Можно закурить? – спросил Алалыкин.
Он прикурил от гильзы, заглянул в открытую бочку. В пустой бочке с осени лежали противогазы. Он усмехнулся.
– Трамваи в городе стоят?
Никто ему не ответил.
Хлеб, который укладывали бойцы на весах, был не здешней выпечки – и форма другая, крупнее, и запах. Он оттаивал постепенно, и в воздухе возник удивительный запах, о котором ничего нельзя сказать, кроме того, что так пахнет хлеб.
Вдруг я заметил, что в трюме никто не спит. Приписной до сих пор не подавал голоса, но он лежал с открытыми глазами.
Все лежали на своих местах с открытыми глазами.
– Говорят, спирт пал в цене? – спросил Алалыкин. – А там, ребята, на том берегу, табак дорого стоит, как здесь хлеб.
Он затоптал окурок и порылся в мешке.
– Вот вам, бойцы, свечка. По талончику получил. – И он положил свечку на весы.
– Сержант не идет, – заметил Васнецов.
Я чувствовал, что не я один – все ждут Семушкина.
Между тем Алалыкин извлек из мешка соленый помидор и финским ножом рассек его на четыре дольки.
Огромная тень Куцеконя склонилась над моим соседом.
– Не глядел бы ты на такое дело, Сомик.
За дверью люка возился Семушкин. Его приход легко было узнать по стуку веслом на палубе: он отворачивал дверку люка веслом, а потом тыльным концом обивал лед с порожка и прятал весло под парусом, чтобы его до утра не сожгли. Он и сейчас не изменил своей привычке. Войдя в трюм, он бегло взглянул на весы и салазки и стал снимать штык с винтовки. Штык примерз. Семушкин долго откручивал его закоченевшими руками. Гроздья мохнатого инея свешивались над ним с крестовины люка. В скошенном поле люка была видна серая бахрома паруса, летающая вкривь и вкось. Наконец Семушкин догадался закрыть люк.
Алалыкин следил за вошедшим. Брови Алалыкина, округлые сверху, густые в середине, как два сапожных ножа, висели над глубокими глазницами. Сквозь щетку бороды на правой, отмороженной щеке проступило лиловато-серое пятно.
– Ишь стучит. Как метроном, – сказал он о парусе, сделав вид, что и это его интересует.
Поставив винтовку в бочку, Семушкин, щурясь с мороза, снял варежки, сунул их до половины в карманы шинели и потер руки одну о другую. Алалыкина он словно не замечал. Неровно шагнув, сержант подошел к весам и снял с них мясную тушку. Затем он стал снимать с весов и складывать аккуратной горкой на полу буханки хлеба, рядом с теми, которые лежали в беспорядке возле салазок.
Что он собирался делать? Освободить весы, чтобы лечь спать?
– Карандашик есть у тебя? – спросил меня Семушкин.
– Зачем тебе?
– Буду актировать. Комендант приказал по счету принять – и детям в барак.
Не вставая, я передал карандаш через Митю Кудерева. Семушкин уселся поудобнее, разложил бумагу, ладонью ее разгладил. Неповоротливыми пальцами он стал водить карандашом по листку. Если бы вошел посторонний, не знавший ни Семушкина, ни его весов, ни нашей барки под парусом, он бы и не заметил ничего достойного внимания: просто завхоз принимает по акту продукты, пишет приемо-сдаточную ведомость.
Я смотрел и не мог наглядеться.
Сонными движениями Семушкин загружал весы. Каждую буханку он взвешивал отдельно; большим пальцем шевелил движок на шкале и, привалившись к весам, отдыхал.
– Ты бы пожевал корочку, – посоветовал Митя Кудерев.
Семушкин оставил эти слова без ответа. Толстое пламя, коптя, озаряло подгорелые горбатые спины буханок.
Жинкин хрустел сухариком, не говоря ни слова, только глядел во все глаза.
Алалыкин следил за работой сержанта. Семушкин взял последние две буханки и покачнулся. Алалыкин поддержал его.
– Позвольте, подсоблю, – сказал он. – Зачем вам это… утруждаться?
– Ничего, мы сами, – твердо выговорил Семушкин.
Вот когда в первый раз я ощутил могущество Семушкина. Мне показалось, что и бойцы вдруг потянулись к Семушкину, дожидаясь его какого-то главного слова.
Догадавшись об этом, Алалыкин бросил под себя варежки и присел на полу, отвалив ногу с собачьей ловкостью, будто разомлел в тепле. Он слушал внимательно, а глядеть старался поменьше, как всякий арестант, и это помешало мне запомнить его глаза. Я все заметил в этом лице и только глаза – вот уж много лет – не могу припомнить. Вдруг он поднял лицо и спросил сержанта по-военному:
– А вы людей накормили? – И нагло засмеялся, втянув нижнюю челюсть.
– Прекратить! – сказал Семушкин.
– Пусть лишние уйдут, – другим тоном, но так же внятно возразил Алалыкин.
Все было ясно: сам продажная шкура, он думал, что может всех купить, поделиться с кем надо – ему и дорогу покажут, выведут к поезду, познакомят с кондуктором. Играя лямками саней, он улыбнулся, припомнив что-то забавное:
– Полозья врасхлест, а я постромки укоротил, – так тащить способнее.
– На этих постромках тебя и вздернут, – отчетливо произнес Жинкин. – Народ с лютым врагом воюет. С фашизмом. Это и за детей битва, и за родные поля, за Советскую власть! За все, что дорого человеку. А ты… Вздернуть тебя – и весь разговор!
– Шуму больше, чем надо, – сказал Семушкин.
И сразу наступила тишина. Жинкин хрустел сухариком. Я видел – Семушкин поморщился. Он ослабел. Он собрал веревку, раскиданную вокруг салазок, смотал ее в моток на локте, вчетверо сложил холстину, в которую был завернут хлеб на салазках. Все пахло хлебом: и его руки, и шинель со следами муки на мокром ворсе. И он не мог устоять перед искушением. Все заметили, как он украдкой, не владея собой, приблизил холстину к лицу, – минутная слабость духа.
– Пахнет? – злорадно произнес Алалыкин.
Семушкин обратил к нему опухшее лицо.
– Собака ты… – проговорил он.
– Пусть уйдут лишние, – повторил Алалыкин.
– Ты думаешь: лишних не будет – купишь? Брешешь, враг. Не купишь.
Так внятно сказал это Семушкин, что всех нас словно огнем ожгло. Вадим Столяров смотрел на Алалыкина, не сводя с него ненавидящих глаз. Куцеконь грел спину об остывающую печь, и казалось, вот-вот он раздавит ее неосторожным движением. Шофер из автороты подошел к бачку и напился воды. Парус хлопал над головой. Оттаявший хлеб источал удивительный запах. Крысы, похоже, ошалели, стучали и шлепались по углам. Голова кружилась. Вещи фантастически меняли масштабы, и мне чудилось, глядя на то, как Семушкин клал буханку на весы, что это он укладывает крошку хлеба на ноготь. Но нисколько мне не было неприятно смотреть на это.
Шофер полоскался, обмывал лицо, ловя здоровой рукой воду изо рта. Потом он накинул ватник поверх загипсованной руки и поглядел на Скворушку; тот спросил Семушкина:
– Товарищ сержант! Будут ли какие распоряжения? А то пора бойцам на расчистку дороги.
– Сходи-ка к коменданту, скажи: жду опросный лист составлять, – вполголоса сказал Семушкин.
Скворушка внимательно оглядел всех:
– Которые лишние, выйдите! Пора дорогу освобождать от снега. Сержант тут один разберется.
Первым пошел к выходу Куцеконь. За ним потянулись остальные. Приподнялся, чтобы идти, и Вадим Столяров, но Семушкин остановил его:
– Ты, Сомик, с больными ногами, ты лежи.
Не знаю, увижу ли я когда-нибудь в жизни доверие, более открытое и ясное, чем то, с каким мы оставляли Семушкина с Алалыкиным и горкой оттаявшего хлеба.
– А ну, несгораемые, дружнее! – подбодрил Семушкин толпившихся у люка бойцов.
Окоченелыми пальцами сержант вынул из кармана штанов толстые старинные часы и долго глядел на них.
Я вышел вместе со всеми.
В утренних сумерках со стороны Шлиссельбурга бухала артиллерия. Небо было пасмурное, но высокое, и в нем гудел немецкий «разведчик». Кругозор прояснялся. Непостижимое зрелище открывалось взору: вся белая даль озера на многие километры была исчерчена будто вздрагивающими цепочками. Это шли гуськом и уступом, точно косари в поле, люди с лопатами. Они расчищали занесенную метелью ледовую дорогу. Где-то, почти уже невидимые глазом, ворчали тягачи и снегоочистители. Значит, к вечеру вспыхнет на востоке облако мреющего света, пойдут мимо нас бесконечные колонны автомобилей с боеприпасами и продовольствием – спасать Ленинград…
1947
Мирра
Ярема Спектор отходил со своим полком по болотам за Тихвин, когда его жена и пятнадцатилетняя дочь, без вещей, без зимней одежды, кочевали по станционным перронам от Куйбышева до Семипалатинска. На глухом полустанке, где сбились толпы бездомных людей из двух эшелонов, ночью в желтом табачном дыму их завербовал агент какой-то новостройки ехать в Орск. Мирра Спектор боялась вербовщиков, но этот обещал ей квартиру, одежду. И потом – но это получилось совсем по-женски – ее соблазнило само слово Орск, оно напоминало ей знакомое нестрашное орс, с которым у нее и мужа в Одессе были связаны неплохие воспоминания.
В Орск они приехали среди зимы. Не оказалось ни обещанного жилья, ни хлеба. Была сибирская метель. Они переночевали в чьих-то сенях на полу, рядом вода в ведре замерзла за ночь. Дочь сказала утром:
– Мама, мы с тобой, как в «Гроздьях гнева».
Их разговор услыхала из своей комнаты жена учителя, приехавшая сюда раньше из Могилева. Она подивилась начитанности девочки и пожалела несчастную мать.
– Уезжайте отсюда, гражданка Спектор. Мы уже погибли, а вы бегите куда глаза глядят.
Мирра Спектор добилась приема у начальника строительства, просила отпустить их с дочкой.
– Но вы уже обошлись нам в копеечку, – устало сказал этот добрый человек и тут же махнул рукой: – Езжайте…
Тогда они поехали на юг, к теплу, в Ташкент. Мирра Спектор надеялась там найти свою младшую сестру с мужем, тоже бежавшую из Одессы. И она нашла их в Ташкенте, но сестра оказалась малодушной в беде, а ее муж – черствым человеком. Он не прописал Мирру на своей жилплощади, и та не могла устроиться на работу.
Вдвоем с дочкой они пошли в жилотдел. Какой-то отвратительный старик в очках и тюбетейке потребовал ночь за прописку, точнее сказать, он обещал, что сам придет спать в их комнату, чтобы убедиться, хорошо ли им будет, и при этом морщил нос и гнусно глядел на пятнадцатилетнюю девочку. Тогда Мирра нашла другого инспектора и заплатила ему шестьсот рублей за прописку.
Страшные слухи доходили из Одессы: там погибли все евреи. Мирра насчитала пятнадцать родственников, ближних и дальних, – о, страшный счет! Отец Мирры, живший у младшей дочери, приходил к Мирре и беззвучно шептал молитвы. Когда-то, в восемнадцатом году, так же пришли немцы в Одессу, и он, мужской портной, умеющий шить мундиры и шинели, вышел их встретить на пороге своей мастерской. Он даже угостил их домашней колбасой, они с трудом понимали его еврейский жаргон, но все-таки лучше понимали, чем русских соседей. И они не тронули ни его семью, ни его, а только посмеялись над ним, добрые люди. Он и теперь не совсем верил, что немцы не те же.
Когда Мирра возвращалась с работы, отец встречал ее разговорами, от которых темнело в комнате: так бессмысленно злобно старик проклинал свой народ.
– Здесь свирепствуют деньги, а там люди гибнут… Тоска мне шею выкручивает, Мирра… Народ наш не изранен – изгажен… Горе гноится, Мирра… Дочка твоя уже замуж хочет… Подлое племя, заслужило ты тысячелетний гнев божий…
Весной пришел с вокзала муж третьей сестры – Сарры. Мирон Граник работал в первые дни войны начальником ПВХО одного из районов Одессы и, когда пришел срок, согласно планам Верховного командования, покинул Одессу с зенитным орудием на тральщике, оставив семью, потому что Сарра и раньше не хотела бросить квартиру и имущество.
Мирра с каменным лицом встретила зятя. Только раз или, может быть, два раза в жизни так разговаривала она с людьми, как разговаривала с прибывшим в одиночку Мироном. Пеллагра уже выступила на ее лице, и от мутно-красных пятен лицо Мирры приняло выражение безумной жестокости.
– Где жена твоя и моя сестренка? – спросила Мирра.
– Осталась там… Мирра, я потерял детей, жену, не мучь…
– Где оставил их? – еще тише спросила Мирра.
– За что спрашиваешь… В Одессе. На Арнаутке…
– Как же ты ее оставил?
– Ша… ша…
Разум его помутился от горя и стыда, но пытка, какую придумала Мирра, не должна была кончиться сразу. И еще тише, еще страшнее спросила она Мирона:
– Как мог оставить…
– Ша… ша… – шептал он воспаленными губами.
– Ушел и бросил семью фашистам. Ты, еврей, это сделал?
– Я просил, умолял, она не шла… Ты же знаешь ее привычки…
– Не шла, – беззвучно повторила Мирра, и теперь не было гнева в ее голосе, а звучала страстная мольба. – Ну, стал бы на колени, целовал бы туфли, изверг… Ну, потащил бы за косы… Не шла!
– Ша… ша, Мирра, Миррочка, она не схотела. О-о-о, Мирра!..
– Не шла… Ну, взял бы на плечи детей. Она побежала бы за тобой, как собака…
Так казнила своего зятя эта когда-то красивая, пышная женщина, теперь больная пеллагрой, в пустой обшарпанной комнате, откуда выгнали для тихого разговора девочку и где в большие окна в мартовской теплой ночи изливался с небес белый, точно мел, свет звезд.
Они не заметили притаившегося в углу старика. Он слушал их тихий разговор, сидя на низкой плетеной корзине, и корзина не заскрипела под ним ни разу. Лишь когда зарыдал его несчастный зять и взмолился по-еврейски: «Пожалей же, Мирра! Ты же меня любила!..» – старик встал с корзины и гневно потряс седой головой.
– Палкой… палкой любите друг друга! – крикнул он по-еврейски и вышел на улицу.
Тоска бушевала в старике, он шел по ташкентским улицам, как по древним городам Израиля во дни бедствий, – будь они прокляты во гробах, его древние пращуры…
1964
Стучит, стучит маятник
По утрам не бомбят.
Я слышу, как майор медицинской службы Хетагуров играет Шопена. Он живет за двумя садочками в учительском доме.
Я слышу, как Пустовалов и Яков Львович выходят на веранду и садятся за работу. Пустовалов плетет корзину, Яков Львович сапожничает или заливает калоши немецким клеем.
– Спали, спали, а все пять часов…
Так начинается их разговор.
В селе долго стоял наш штаб фронта, пока войска не ушли с боями на запад. Теперь тишина – хозяйки белят хаты, вспоминают своих постояльцев. Изредка подкатит к калитке легковая машина, выскочит ординарец. «Помните, стоял у вас полковник чернявенький? Сапожную щетку забыл… Велел кланяться…» Теперь по хатам разместили совсем неинтересный народ, в селе квартирует психиатрическое отделение фронтового госпиталя.
Я задержался с заданием Военного совета – сижу, пишу доклад о языке дивизионных газет. Дверь моей комнаты выходит на веранду, обвитую плющом, в саду вишни в полном цвету, вечером соловьи, сквозь марлю в открытое окно светит луна, вдали река, ушедшая в межень, видны ее обнаженные отмели. По ночам Яков Львович во сне поет псалмы, и я знаю – Пустовалов не спит, он слушает и роет воздух перед собой, роет, роет всеми десятью пальцами.
Днем Пустовалов плетет корзины, веранда завалена красной и черной лозой.
С черепашьей шеей, со светящимися умными глазами, весь в лишаях от истощения, но жилистый, мосластый, Пустовалов медлителен и вдумчив в работе. На нем черная рубаха навыпуск и поверх серый жилет. К Якову Львовичу он снисходителен, как человек, знающий настоящее ремесло, как мастер – к ученику. Он ревниво относится к своему делу и не любит, чтобы ему мешали.
А Яков Львович любознателен и суетлив.
– Як ручки зроблят, так ножки сносят, – говорил он, вколачивая деревянные шпильки в подошву, а сам поверх очков поглядывает на все время снующие в прутьях пальцы Пустовалова. Ему хочется научиться плести корзины. Голенища ему еще не выдал каптер – не доверяет. Но в ящике много сапожного товара – наборы для каблуков, стельки, задники, набойки, весь поднаряд. И хорошо пахнет навощенной дратвой, от этого Яков Львович делается день ото дня спокойнее.
Пустовалов плетет корзину для Якова Львовича, тот вздумал привезти яйца семье из этих дешевых мест. Пустовалов скуки ради плетет ему корзину, а тот помогает. Яков Львович услужлив, подметает пол на веранде, охотно слушает рассказы Пустовалова, ходит к реке за ивовыми прутьями. Он осторожен и знает безопасную тропку, огибающую прибрежные минные поля.
Иногда к ним заходит тетя Гаша. Она приносит в судках похлебку из госпитальной кухни, участливо разглядывает пустоваловское плетение и делает вид, будто ничего знать не знает, так ей приказал Хетагуров.
Вздохнув, она качает головой.
– Помню, я невестке говорила: как дракона вышью, война кончится. Скоро мой дракон уж выцветет на стене.
Яков Львович прибыл сюда с госпитальными машинами. А к Пустовалову у женщин особое отношение: они сами вывели его из нестройной колонны обросших голодных людей. Русских людей, освобожденных из плена, по восемь в ряд запрудивших в медленном марше улицу села. На Пустовалова был надет бумажный мешок из-под цемента, руками он рыл воздух перед собой и разумно отвечал на все расспросы женщин, усадивших его за стол, только не называл своего имени-отчества. Стараясь удержаться, чтобы не ответить, он начинал часто дышать, потел, глядел немигающим взглядом. И его клонило ко сну.
Тут была какая-то загвоздка в его растревоженном мозгу, что-то необъяснимое, если не знать того ночного часа, где-то в полевой жандармерии, когда это началось. Во фронтовой госпиталь он был принят без имени-отчества – просто Пустовалов.
Хетагуров легко разгадал происхождение помешательства Пустовалова, такой не один во фронтовой зоне, его бомбежкой прижало, нервы-то как ниточки: бомбили, а он хотел зарыться в землю, он рыл пальцами землю. Когда его осматривали врачи, он также плел невидимое плетение. И Хетагуров, играющий по утрам Шопена, приказал дать ему лозы, обучить, пусть разгоняет свой «психический автоматизм». А уж потом к нему подселили Якова Львовича, и они подружились.
Пустовалов строг, и чем ближе к концу очередная корзина, тем он строже с товарищем. Все, что говорит сапожник, – баловство. А сам он рассказывает, как из плена ушел. Яков Львович только изредка вставляет словечко.
– Наступила зима, мусор на помойках померз, и капустные кочаны под снегом. Стали помирать… Придешь – по пояс мокрый. Лежишь на цементном полу, окна выбиты, а бежать некуда, третий этаж… Привели однажды на кирпичный завод, конвоиры разошлись, а нас – по десятку – отдали полицаям. Я уголь носить не стал, а сразу к забору, будто бы оправиться. Смотрю – никто за мной не следит, я – в дыру. И по огородам – к домам. Хозяйка на меня косо глядит, а я – «дай поесть немного». Дала две картошки, у нее самой муж у немцев в плену. И меня провожает к двери, боится. В Орле столько было немцев – силища, тыловой город…
– Прямо жуть, – вставляет Яков Львович.
– Подошла соседка, говорит: «Так тебе не уйти, я пойду к себе, а ты перебеги за мной». Дала мне фуфайку рваную, мужскую, а бабка – штаны и треух. В первый день прошел верст пять. Поешь и не радуешься – дизентерия. Мне одна говорит: «Так тебе не поправиться», насушила сухарей. Смотрю – десять верст прошел, а там пятнадцать. Только от фронта идти вглубь легко, а к фронту трудно… Пришел в деревеньку, я уж зарос – дед. Немец спрашивает хозяйку: «Это кто? Зольдат?» Она на меня поглядела: «Нет, пан…» А немец говорит: «А чего ж он на лавке лежит?»
– Прямо жуть…
Наговорившись, Пустовалов спит на боку, подложив шапку под ухо, но и во сне роет воздух. Яков Львович делает тихую работу – резину клеит.
– Они его хотели расходовать, – шепотом поясняет он мне и щурит глаз.
Проснувшись, Пустовалов находит в корзине живую желто-зеленую ящерку. Они вдвоем ловят ее. Пустовалов держит в своем костлявом кулаке, Яков Львович гладит ощеренную языкастую головку. Они отпускают ящерку в саду. И долго Яков Львович вспоминает происшествие:
– Маленькая… на четырех ножках… – Он улыбается по-детски счастливо.
– А на скольких же ей быть-то? На восьми? – посмеивается Пустовалов.
Работа, видимо, увлекает Пустовалова. Он торопится, хотя делает вид, что плетет из одного одолжения. Госпитальная похлебка их не насытила. Тетя Гаша зовет к себе на пироги. Я слышу, как они возвращаются повеселевшие, Яков Львович семенит за Пустоваловым и досказывает что-то из мирной жизни, из мирных семейных сцен:
– Видишь ли, Пустовалов, я рыбу ем понемножку. Я не очень люблю рыбье мясо. Но я хрен ем очень охотно, прямо жуть! Я ложками кладу хрен на рыбу…
Пустовалов снисходительно слушает и, подойдя к веранде, тащит из кустов запрятанную туда, в тень и сырость, лозу.
Работа продолжается. Пустовалов уже без счета наплел корзин, их уносит госпитальный трупарник Федот Иванович. Я не знаю, какое он им находит применение, но корзины у Пустовалова не задерживаются.
Иногда на веранде появляется угрюмый Фома, голопузый босой мальчонка. Неизвестно, прислала ли его тетя Гаша или он сам прибрел, охотясь за кошкой, которую он выслеживает по всем соседским садам. Его отец недавно мобилизован – запасный полк стоит в соседнем селе. Фоме пять лет, он все понимает в жизни взрослых, и есть у него своя загадочная душевная жизнь, он неохотно впускает в нее посторонних.
– Прислал батька письмо? – спрашивает Яков Львович, зажимая в губах пяток деревянных шпилек.
– Да, он недалеко отсюдова, – угрюмо отвечает мальчик.
– Пишет, что скоро приедет?
– Приедет.
– И что-нибудь прислал маме?
– Два ведра пшеницы. И еще муки трошки. Белой…
– Это ячневая, – вмешивается в разговор Пустовалов.
– Ну, белая, все равно! – подтверждает Яков Львович. – Какая разница?..
У Якова Львовича, когда он разговаривает с мальчиком, глазки бегают, рука быстрее стучит молоточком. Ему хочется пить, он подбегает к ведру и пьет из алюминиевой кружки. У него седая бородка и седые – двумя кустиками – бровки. Когда он сидит в желтой майке, зажав в коленях свою работу, его рука в голубых жилках и рыжих волосиках напоминает ощипанную курицу.
Фома любит пальцами гладить худую стариковскую руку сапожника – там, под волосами, чернеет татуированный номер. У Якова Львовича номер 36227.
– Вон за ящиком киска, – показывает рукой Фома. – Дай ее сюда. Ох, тяжелая… Ксс, ксс… К кошке гости придут, она умывалась…
– Вот бы к твоей маме гость пришел, – вздыхает Яков Львович.
Видно, что-то трепещет в его памяти, глазки бегают, молоток быстро постукивает по подошве.
– Кому ж раньше починять? – спрашивает Яков Львович.
– Маме, – отвечает мальчик.
Он тискает кошку, та терпеливая, только жмурится.
– А это – бабушке?
Яков Львович набрал заказов на всю семью тети Гаши.
– Она не бабушка. Она моя крестная… – И опять про кошку: – А она любит вареники?
– Она буряки любит, – вставляет Пустовалов.
С приходом Фомы он уступает разговор Якову Львовичу, тушуется и только изредка показывает свое участие.
– Хорошая кошка, – говорит мальчик.
Яков Львович молча постукивает по подошве и вдруг предлагает:
– Хочешь, я тебе спою песенку?
И, не дожидаясь приглашения, тонким голосом запевает:
Тра-та-та… Тра-та-та…
Вышла кошка за кота.
За Кота Котовича,
За Якова Львовича…
И Яков Львович блаженно смеется и чешет свою голую и худую руку с фашистским клеймом.
– Ну, до свидания, – говорит Фома, не поблагодарив за песню.
– До свидания.
Мальчик уносит кошку. А Яков Львович подробно рассказывает Пустовалову о своей семье, которая дожидается его в Днепропетровске, о том, как его старуха прыгает вокруг внучка и поет про Якова Львовича, поет русскую песенку, все знают, как хорошо говорят по-русски у Зисерманов.
– У евреев «манн» тоже человек. Как у немцев, – вслух размышляет Пустовалов. – А что такое «зисер»?
– Особенный, – разводя руками, поясняет Яков Львович.
Пустовалов поднимает умные, просветленные разумом глаза.
– Значит, ты особенный человек?
И они оба смеются.
В каждом безумии есть своя хитрость. Я твердо знаю: Зисерман понимает, что не для него плетет свои корзины Пустовалов, что это ему прописал майор, чтобы сумасшедшие руки занять. Но понимает ли сапожник, что ему некому везти яйца из этих дешевых мест, что у него ни одной живой души не осталось? Федот Иванович, земляк Зисермана, рассказал мне, как жена и дочь Якова Львовича долго скрывались от немцев у добрых соседей. Но потом очередь дошла и до них, утром они должны были идти на театральную площадь со своим скарбом. Они выслали мальчика из дому, затопили печь, закрыли вьюшку и легли спать. Но угореть не смогли. Тогда они во второй раз под утро стали топить печь. И снова не смогли угореть. Всю ночь они провели в этой работе: топили печь. Наутро их все-таки увели. Федот Иванович видел их комнату с потрескавшейся печью. А мальчик всю ночь простоял в разгромленном магазине. Там одно время держали лошадей, и когда были бомбежки, то среди сена и навоза натекли лужи крови. И мальчик там простоял всю ночь. Федот Иванович образно выразился: как аистенок. Утром его нашли и застрелили в том же магазине. Знает ли об этом Яков Львович? Во всяком безумии есть своя хитрость.
Когда приходят к концу запасы прутьев, у Пустовалова портится настроение. Гордость не позволяет попросить соседа сходить к реке: ведь это он сам делает ему одолжение, спросить его – так пропади она пропадом, эта кошелка. Но Яков Львович, увлеченный разговорами, не замечает мрачности Пустовалова, хотя тот уже начинает часто дышать, потеть и глядеть не мигая.
– Не хватит лозы… – наконец мрачно выговаривает Пустовалов.
Его заметно клонит ко сну, но руки упрямо гнут последние прутья. Яков Львович готов услужить. Он всегда повторяет: услуга за услугу.
– Как они быстро кончаются, прямо жуть. Пойти, что ли?
– Дело хозяйское.
Пустовалов говорит самым безразличным голосом, но Яков Львович уже услышал короткое дыхание товарища, заметил бисерный пот на лбу, устрашился немигающего взгляда. Он понимает: что бы делал Пустовалов, если бы не корзина, в которой он, Зисерман, повезет яйца из этих дешевых мест? И он спешит к прибрежным ивам, крадется тропкой – одной-единственной, где можно проскользнуть между минных полей.
Наступает вечер, меня зовут играть в карты. Я не отказываюсь. Колода старая-престарая – пушистая на ощупь, как кролик. В такой час Хетагуров разбирает аптечку, оставшуюся от немцев в разоренной психиатрической больнице, там примечательный набор медикаментов: люминал, мышьяк, стрихнин, скополамин, фосфор, героин, ареколин, снотворный мак… Невдалеке от села, в роскошном фруктовом саду, была когда-то знаменитая на всю Россию больница с водолечебными и светолечебными кабинетами, с мастерскими швейными, сапожными, корзиноплетеночными, столярными, с конференц-залом, где на стенах портреты всемирно известных ученых. Теперь по поручению Военного совета майор медицинской службы обстоятельно обследует руины лечебного корпуса, открытые ямы в саду. С приходом оккупантов врачи и медсестры разбежались по селам. Иные покончили с собой. Им было предложено умертвить тысячу триста больных. Операция затянулась на несколько месяцев: впрыскиванием под кожу морфия, впрыскиванием в вены спирта или с помощью особых доз инсулина свели в садовые ямы всех приговоренных, по списку. Остальные сами вымерли от голода, зимой вымерзли в нетопленых палатах и в конференц-зале, где окна и сейчас занавешены алым бархатом, а люстры по-летнему затянуты потемневшей от пыли кисеей. Хетагуров искал и не нашел в аптеке книги учета отравляющих веществ, а только вывез на двух грузовиках коллекцию медикаментов профессора Фихте, санитары вывели под руки десятка полтора уцелевших – среди них сапожника Зисермана. И как же удачно потом молодой психиатр соединил больного, которого нужно лечить плетением корзин, с больным, которому нужна плетенка для яиц.
И вот уже ночь, уже бомбят. Это на узловой станции, вдали мерцают зарева, блуждают прожекторные лучи. А в нашем селе тихо, умолкли соловьи. Пустовалов залез под койку. Яков Львович сидит возле него на полу, поджав ноги по-турецки, держит руки товарища, бормочет что-то успокоительное, я только слышу, как он порой вздыхает: «Прямо жуть…»
Еще позже, ближе к полночи, у нашей калитки останавливается заблудившийся автофургон. Хозяйка зовет меня для переговоров:
– Скажите, здесь танк не проходил?
Молоденький сержант, еще, видно, не знавший лиха, устал в пути, ему хочется спать, он готов соблазниться ночлегом, но долг превыше всего. Я слышу, как он с водителем ищет на огороде след гусеничного разворота, хозяйка сокрушенно вздыхает: «Ну, подавят наши помидоры…» А они ищут, ищут – сержант убежден, что танк свернул на ночлег к той дальней хате, за огородом.
Теперь полная тишина в доме. Спит Пустовалов. Спит Яков Львович, он еще не запел псалмы – это под утро, когда самый крепкий сон. И только маятник ходиков стучит надо мной. Он стучит всю ночь, стучал всю войну. Из всех человеческих новшеств за тысячи лет звук маятника, самый единственный, самый соприродный времени и пространству, кажется мне родившимся раньше жизни.
1964








