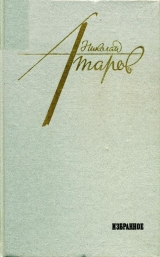
Текст книги "Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. "
Автор книги: Николай Атаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
– В конном спорте надо думать, Редька, – говорил Полковник, а сам-то находился далеко-далеко, в австрийском Тироле. – Хочешь не хочешь, надо учить арифметику, алгебру, тригонометрию. Хочешь не хочешь. Ну, хотя бы на тройки. Для начала. Ты в каком классе?
– В четвертом «Б».
– Вот. Надо не просто уметь думать. Я тебе по секрету скажу: надо быть мыслителем. Лошадь дурака не любит. Мозгами надо шевелить. Верно говорю?
– …
– А ты шевелишь?
– Не знаю. Я отстал. Ничего не смогу.
– Сможешь! Я тебе говорю: сможешь. Если мы с тобой захотим, – все сможем. Мы сейчас не можем тебя принять в ученики, ты запустил учение. Мы тебе сапоги дадим. А Лозунга я тебе не дам, прямо скажу: дорогой конь. Три тысячи за него заплачено. Будешь пока своего Маркиза кормить и холить. И чтобы никакого гайморита! Маркиз на погосте, а ты у нас в конюшенных мальчиках будешь числиться.
– Не обманете? – спросил Редька, заглядывая сверху, с коня, в глаза Полковнику.
Тот выдержал этот взгляд, молча снял Редьку с коня. Отпустил подпруги. И Редька, уже зная, как другие ученики расседлывали своих коней, потащил себе на грудь тяжелое седло Лозунга.
Вдвоем они поднесли седло к десятичным весам. Редька не отдавал Полковнику, не уступал свою часть ноши. С седлом в ногах стоял он на весах перед Полковником.
– Весу тридцать семь килограмм, – говорил Полковник. – Значит, твоих тут тридцать один. Вес ягненка. Надо бы тебе прибавить. С недокорму люди тощают. А я не люблю понурых.
– А я не понурый.
– Конечно, не понурый. Я не люблю, брат, жиденьких, хмуреньких, скучненьких.
– Сопли-ивеньких? – пропищал Редька, стараясь попасть в тон игры.
– Сопливеньких, сереньких, средненьких.
– Ма-а-ахоньких? – совсем тоненько пропищал Редька.
Игра ему нравилась. Он чувствовал, что им обоим нужно, чтоб это продолжалось.
– А почему вы тогда спросили про песню? – вспомнил Редька.
– А потому что была девочка, жила в детдоме, ее родители умерли с голоду в Ленинграде. Написала мне, что был концерт самодеятельности, и она пела «Кто там улицей крадется?». Стал я всех спрашивать в полку, а после войны искал в песенниках – и не нашел. Было это давно. Выросла, верно, та девочка. И сейчас грустно бывает, Редька: была девочка, пела «Кто там улицей крадется?», а я не видел ту девочку, не знаю той песни… Давай за хомутом вместе поедем!
– Давай!
– В воскресенье! Выходи в семь утра к воротам кладбища. Буду ждать.
И снова Редька спросил Полковника:
– А вы не обманете?
7Мать не знала. Он не сказал ей – ведь они же скоро вернутся.
Зато Трофимыч вышел проводить Полковника, принес кошелку с провизией. Полковник принял ее без радости, потому что кошелка была плетеная, из цветной соломки, с красно-желтыми петухами. Бабья сумка.
– Шлях дальний. Вечерять будете.
– Что ты, Трофимыч, побойся бога, – укорял Полковник, заглядывая в кошелку.
– А твоя лошадка? – спросил Трофимыч Редьку. – Аргамак настоящий! Батька нынче в норме? Ничего, я догляжу в случае надобности.
Автобус был старый, дверки долго не открывались, толпа добродушно лезла напролом. В стеклах пылали розовые пятна утренней зари.
– Добре, валяйте! – крикнул Трофимыч.
И вся дорога показалась такой же – совсем не страшной, домашней. С Полковником были они в этой чужой толпе, как заговорщики. Приятно поскрипывали, если пошевелить пальцами, новые сапоги. Полковник о чем-то спорил с соседом-инвалидом, оба, оказалось, на одном фронте воевали. Потом задремал над плечом Редьки.
Козелец выплыл в окне из-за сосновой горы – пышный от дымов, пряничный, медовый. Зимнее солнце тоже сияло по-домашнему. Они сразу нашли сельпо, купили красивый хомут с красной и черной кожей в полоску. Купили еще и скребницу в придачу. Денег хватило. Еще осталось. Полковник вынес хомут из лавки на сгибе локтя. А скребницу уложил в кошелку.
Так они и толкались по воскресному базару. Редька хотел все рассмотреть. С Полковником он не стеснялся быть маленьким. Каким-то чутьем он догадывался, что Полковнику это по душе. Может, потому он и догадался, что услышал, как за пивным столиком Полковник сказал случайному собеседнику, с которым разговорился:
– Подумаешь, петухи на кошелке! Я не стеснительный. У нас, у мужчин, до старости есть такая привилегия – оставаться мальчишками.
И они оба поглядели на Редьку со взрослым дружелюбием. И он потом дожидался на крыльце, чтобы идти дальше.
Они долго шатались по рядам, крытым навесами. Редька то подзывал Полковника, чтобы вместе подивиться чему-нибудь, то терял его из виду. Все ему было интересно: велосипеды, гора деревянных ложек, елочные украшения, молочный ряд с творогом, сметаной и ряженкой в глиняных кувшинах. Он шел за широкими спинами торговок, замотанных в полушалки, глядел, как они вытаскивали бумажники из подолов. Лотки были отгорожены один от другого развешанными поперек юбками, блузками и прозрачными плащами. Он задевал их головой, переходя из ряда в ряд. Торговки все-таки больше его интересовали, чем покупатели. В оренбургских платках или шерстяных полушалках, в зеленых выцветших пальто с цепочками из английских булавок на воротниках, эти женщины как будто оборонялись от напиравшей на них толпы. Они откровенно презирали скупую деревенщину и все же снисходили до разговора с нею. Одна чесала за ухом, отводя пальцем жирную прядь, и жевала. Но у нее были умные цепкие глаза, и Редька в первый раз в жизни подумал, что человек может быть похож на паука: торговка билась, как с мухой, со своей случайной жертвой. «Вот паук-то…» – подумал Редька. Его интересовали торговки, но они ему не понравились.
Было далеко за полдень, когда они прямиком вышли на шоссе, нашли кривую корягу, смели снег, уселись и стали дожидаться автобуса. Полковник извлек из кошелки брынзу и ковригу хлеба, домашние пышки с вишней и две бутылки молока. Оказывается, Трофимыч – однополчанин Сапожникова, из одного эскадрона. И пока Редька уплетал за обе щеки все, что ему предлагал Полковник, тот рассказывал интересные истории про червонных казаков, про Якира, Федько, Дубового, даже про тех, кого ему видеть не привелось, – про Котовского и Щорса.
Автобуса все не было, и это ожидание в лесу уже становилось похожим на дальнее путешествие.
Редька тоже кое-что рассказал: про дядю Борю, про то, как Потейкин учил его быстро расставлять фигуры на доске, а сам играть не умеет. А про водку – молчок, он ведь однажды попробовал. Тетя Глаша дала ему стакан: «Жмурика привезли, беги, сынок…» Это значит – надо искать подходящего, кому выпить охота, – не все провожающие в суматохе замечают Глашин ларек, он неудобно стоит: в сторонке от церкви. Один дал ему глотнуть из стакана – за упокой. Но его потом мутило в осиновой роще.
Почему он не признался в этом Полковнику? А просто не надо ему все знать. Никому не надо все про себя выбалтывать.
Сапожников слушал, покуривал трубку, глядел на мохнатые сосны, на темные холмы, на дальний зимний горизонт, подернутый дымкой. Иногда ощеривал в улыбке зубы; длинные морщины на его щеках, поперек лба и на голой шее становились заметно похожи на ремни уздечки. Редька не знал и даже не думал, зачем понадобилось Полковнику ездить с ним в Козелец.
А сам Сапожников мог бы это объяснить? Так, значит, ему понадобилось.
В квартире на пятом этаже, где он жил с женой, дочкой и внуком, в кабинете на стенах висели сабли, фотографии червонных казаков в папахах и портупеях, над низкой тахтой – арапники и стремена. Возле тахты на полу лежало похожее на кресло седло с оторочкой и медными плашками – то самое, над которым издевался Сергей Костыря. Все это на виду, для глаз. А в ящике письменного стола для памяти – пачка тех детских писем в конвертах. Он хранил их, потому что то была самая дорогая память о прожитой жизни.
Весной сорок пятого года механизированный кавкорпус, сильно поредевший и не восстановленный после боев у озера Балатон, был расквартирован в маленьком городке, затерянном в Альпах. Было скучно, хотелось домой, в Россию. Конники завели переписку с подшефным детским домом и выбрали самых обездоленных ребят – ленинградских, блокадных, подраставших четвертый год где-то в глуши, за Вологдой. Такая была пора в собственной жизни Сапожникова: как умел, он писал детям слова утешения. Радовался, когда спустя два месяца приходили ответы – доверчивые детские письма. Однажды он отписал всем сразу – общее письмо, и все фамилии перечислил в три строки. Там, в России, – незнаемо где, незнаемо чьи, – дети обиделись. Пришлось ответить каждому в отдельности. Комсомольская организация корпуса высылала подшефникам деньги, отчисленные личным составом из зарплаты. Но Сапожников, затеявший всю эту переписку, догадался, что лучше будет, если отправлять не деньги, а посылки – то, чего дети сами себе желают.
Приятно было знать, что в далекий темный городок по вечерам приходит почта в швейную мастерскую, где работают девочки. Почти ни у кого из них нет даже дальних родственников. Все ждут ответа, «как соловей лета». Требуют фотографий дяди Пети, он их главный корреспондент. Три раза ему пришлось фотографироваться. Малыши присылали рисунки и писали аршинными буквами. Один спрашивал, когда у дяди Пети начнутся каникулы. Он и сам мечтал о каникулах, только где же они, за какими горами… «Кто там улицей крадется?» – пела незнакомая девочка на концерте самодеятельности и сообщала об этом в письме. Почему ее звали Хильдой? Ее день рождения отмечали в детдоме вместе со многими в Международный женский день, и она верила, что родилась восьмого марта… Хорошие часы в жизни Сапожникова были, те, когда он уходил в красивый, столетиями выхоженный тирольский лес, где каждая ель глядит вокруг себя с достоинством и понимает свое особое предназначение на земле, и думал об этой девочке: не знаешь ее, а она пишет ему, пишет все, что может, о себе: как фотографировались в «выступательных костюмах», как ждет, что скоро их переведут в первую смену, сейчас не успевают в кино: сеанс начинается в семь вечера, а еще уроки. Так жалко! Ужасно! Ей хотелось поделиться большой обидой – и было с кем! И этот кто-то был он, Сапожников, в далеком тирольском лесу.
Он написал ей, как взрослой, про свою беду, про погибшую семью в Ленинграде, и что он никому не нужен, один остался на белом свете – пожалуй, он и Хильда. В ответном письме было много детских рисунков – кошка, клоун, снежная баба с угольками вместо глаз – и вдруг неожиданная приписка:
«Я, конечно, вам сочувствую. И все, что вы писали, будет только между нами. Я хорошо это понимаю».
И сейчас доверие Редьки, их взаимный обмен тайнами снова делали его счастливым. Так они, болтая о чем придется, загорали под зимним солнцем, дожидаясь автобуса на шоссе.
– Вы к ней приехали? – спросил Редька.
– Нет. Послали туда комсорга Чеснокова. Вернулся, рассказал нам, как хорошо его встретили и провожали, даже с уроков сбежали на вокзал. Он им привез сто заграничных сказок с разноцветными рисунками – Андерсена и братьев Гримм. А еще поехал с директоршей в колхоз и купил – что бы ты подумал? Никогда не догадаешься! Лошадь купил! Очень она им была нужна – в лес за дровами ездить.
– А я люблю лошадь, – вдруг ни с того ни с сего сказал Редька.
– Ты человек будущего, – убежденно проговорил Полковник.
– Почему?
– Сейчас наступил век моторов. И, по-моему, люди с детства не знают животных. Почти что всех мы искоренили за ненадобностью: и лошадей, и верблюдов, и осликов.
– И волков, и слонов, – подтвердил Редька.
– Были зубры – почти их нету! Скоро китов не станет. И черных лебедей. Куда это годится?
Они задумались: в самом деле, куда это годится?
– А наступят времена, – продолжал Полковник, – мы перестанем истреблять животных и начнем приручать. В колхозах разведем тетеревиные стада. Лисы станут забегать в кинотеатры.
Редька засмеялся. Ему это понравилось и хотелось придумать что-то похожее.
– Белки станут нам орехи собирать, – придумал он. – А по деревенской улице будут гулять страусы, верно?
– Как куры, – даже не сморгнув, поддержал Полковник.
– А со змеями… тоже можно иметь дело?
– Ого! Змеи станут нянчить младенцев в колыбелях! Уже и сейчас в Индии…
– Ну и врешь ты! – восхищенно крикнул Редька. Автобуса не дождались. Продрогли и пошли пешком. Редька был оживлен и весел. Он наслаждался самой высокой наградой – достигнутой целью. Все видели в тот воскресный день на Зарайском шоссе счастливого человека.
Грузовик с горой валенок в кузове догнал их и остановился.
– В город? Давай поехали! Автобуса не будет.
– А куда вы их везете? – спросил Редька, взбираясь по колесу через борт и отмахиваясь от услуг Полковника.
– Валенки? Зима на дворе! Ты что, глупый?
Так и поехал он, лежа на валенках. Еще и переобулся на всю дорогу, а то в сапогах холодно… Рядом Полковник. Между ними хомут. Валенки были новенькие, а Полковник вдруг развеселился неизвестно по какой причине и запел:
Валенки, валенки,
Не подшиты, стареньки…
Сперва Редька был серьезен, задумчив. Но когда грузовик раскатился под уклон, он рассмеялся и с тоненьким подвыванием крикнул навстречу морозному ветру:
– Ух, жизнь собачья!
А в понедельник утром его наказали: заперли.
– В школу не пойдешь, – сказала мать. – Отец вернется – сам откроет, знает, где ключ.
– Я спать буду.
– Ничего. Он тебе еще даст порцию.
Заперев комнату снаружи, она спрятала ключ в прихожей за дверной карниз.
Он скучал. Чего только не придумывал, чтобы не сильно скучать. Слушал, как шумит морская раковина. Надоело – положил на комод. Из мамкиных бигуди строил крепость и развалил ее кулаком. Потом быстро расставлял фигуры на доске, сметал и снова расставлял – еще быстрее. Ходил с закрытыми глазами, изображая слепого.
Ему было долго ждать, пока мать вернется. Она озлилась, потому что вчера из школы приходила Агния Александровна. Пригласила к директору. Вот ведь какой несчастный случай: сколько раз пропускал уроки в будние дни, и все сходило с рук, потому что мать на работе и не видит. А тут воскресенье, никаких уроков не пропустил, но мать оказалась дома, повсюду искала его, когда удалилась Агния Александровна. Вот и попало ему ни за грош, ни за денежку.
На отца мало надежды, хотя, может быть, покупка ему понравится. Редька спрятал хомут под кроватью. Отец еще не видал, потому что пришел домой поздно, ушел спозаранку. Он, наверно, объяснил бы матери, что сам выдал деньги. «И ничего хомут, чего ты озлилась?» Лишь бы не узнал, что ездил с Полковником.
Из коридора Женька царапался в замочную скважину:
– Открой. Чего заперси-и?
– А на кой ты мне нужен!
Он разглядывал свое лицо в мамином зеркале. В первый раз в жизни всматривался в свое лицо. Глухо слышалось, как духовой оркестр выводил печальные звуки у ворот кладбища. (И под эти траурные звуки каждый, кто заглянул бы с Редькой в зеркало, увидел бы обыкновенного голорукого мальчишку в маечке. Он был некрасив некрасотой одинокого, забытого, запертого на ключ человека.)
За дверью слышался телефонный разговор. И все – одно и то же. Пятый день Лилька на бюллетене.
– …Хоть бы продали, деньги выручили, а то – подожгли! Ни себе, ни людям. Идиоты! Правда, Васенька? Потейкин так и сказал: безмотивное преступление.
Он заглядывал во все зеркала: и в то, что круглое на комоде, и в то, что на стене с воткнутыми в рамку фотографиями, и в то, что маленькое на подоконнике, перед которым обычно брился отец. Оно было приставлено к темно-синему цветочному горшку на тарелке. За окном снег на ветках, и от этого на подоконнике светлее, можно хорошо себя разглядеть. Когда Редьке надоело изучать себя и строить страшные гримасы, он вынул из ящика стола картонную маску, которая сохранилась с прошлогодней елки, – узенькая маска с малиновым носом и шелковистыми усами. Он накрутил на уши шнурки маски, сделавшей его рыжим пьяницей.
Маленький, рыжий, голорукий пьяница с шелковистыми усами стоял посреди комнаты.
В окно далеко был виден двор. Быстро ходил отец на кривых ногах. Редька проводил его взглядом – тот направился прямым ходом к тете Глаше. Теперь жди его!
Директор школы Семен Ильич – человек грузный и рассудительный, в золотых очках. Что-то детское было в его румяных губах. Не в первый раз вступала Авдотья Егоровна в его кабинет, заставленный диковинными цветами, слушала его сердечные наставления и не испытывала страха перед ним. Ей всегда думалось: только бы пришел он к ним домой и сам увидел. Он-то в детях разбирался, да времени не хватает на всех – шутка ли, восемьсот ребят в школе. И Редька не самый худший.
Агнию Александровну, если правду сказать, уважала она поменьше директора – все ей мешала память о прежней, о Нине Владимировне. Та была проще, душевнее, что ли. Оттого, что дочку похоронила, догадывались некоторые матери. Авдотья Егоровна цветы ее дочке носила, однажды повстречались в оградке и вместе плакали.
То, что нужен порядок в классе и строгость, – с этим Авдотья Егоровна не спорила. Агния Александровна не боялась директора и пренебрегала его добротой, потому что охраняла честь своего класса. Все родители знали, что не терпит она нарушений закона о всеобуче. А на последнем родительском собрании прямо в лицо Авдотье Егоровне все высказала: Родион Костыря нахватал двоек, на переменках ходит по карнизу, безбожно прогуливает, родителям свой дневник не показывает. И если от него избавиться, как ни печально, от этого только выиграет класс и, значит, все остальные дети. Правда, вчера она была как-то снисходительнее и добрее и долго рассматривала призы наездника, отца мальчишки. Велела прийти к директору.
– Скажите, должна быть у матери совесть? – мягко спросила Агния Александровна, присев с торцовой стороны директорского стола и терпеливо скрестив руки – признак предстоящего долгого разговора.
– Почему только у матери? – еле слышно возразила Авдотья Егоровна. – У всех должна быть совесть.
– От трудных детей все время идем к их трудным родителям, – пояснила свою мысль Агния Александровна. – Когда я вижу таких, как ваш развеселый муженек, призовой спортсмен, я понимаю, как верно подметил Лев Николаевич Толстой, что дети – это увеличительные стекла зла.
– Ну, и добра тоже, – поправил Семен Ильич. – Все-таки надо влиять, Авдотья Егоровна. Влиять.
– Я уж влияла. И ремнем влияла. И лаской. Не знаю, что еще делать.
– Почему его и сегодня нет на уроке?
Она промолчала. Не признаться же, что сама заперла на ключ в наказание за побег в Козелец.
– Домашние упражнения делает? – спросил директор.
– Мух давит, – сказала Агния Александровна. – Будущая профессия.
Семен Ильич укорил ее взглядом.
– А вы не задумались, Авдотья Егоровна, может, талант у него какой проглядывает?
Авдотья Егоровна ответила не сразу.
– Талант? А как его узнаешь? Градусник, что ли, ставить?
– Ну не талант. Этого, конечно, сразу не разглядишь. И не в том возрасте, – согласился Семен Ильич. – Но, может, какая-нибудь способность? Интерес? Задатки?
– Нет у него никакого интереса, никаких задатков, – вздохнув, сказала Авдотья Егоровна.. – Спросите Агнию Александровну, она мне все объяснила после родительского собрания: нуль способностей.
И снова Семен Ильич с укором взглянул на Агнию Александровну.
– Все люди от природы талантливы. За редчайшим исключением, – сказал он обеим женщинам сразу. – Выявить в детстве интерес, привязанность к чему-нибудь, разбудить пытливость – значит, уже сделать человека талантливым.
– Ох, – вздохнула Агния Александровна.
По книгам, по лекциям на курсах усовершенствования она все понимала и еще лучше Семена Ильича могла бы расписать. А в школе – попробуй-ка применить! К тому же в тот день не давала покоя язвенная колика.
И в течение всей беседы она молчала, скрестив руки на столе, пока Семен Ильич не проводил мамашу за дверь с теплым напутствием.
В гулком, пустом вестибюле школьный сторож тоже встретил сочувственным вопросом:
– Выпивает, что ли? Значит, уследили. Зря не позовут.
Выпивает ли Редька? Она и этого не знала. У других матерей, она слышала, бывает и такая беда. Как догадаешься?
– Меня отец выпорет, бывало, чересседельником али вожжами, – говорил словоохотливый сторож. – Рубцы на теле! Вот когда были люди! А сейчас молодежь – смотреть тошно. Возьмешь ремень – соседи тотчас же заступятся: мол, бьешь не по правилам. Милиция тоже не позволяет. Тогда берите и воспитайте сами… До свидания, милая женщина. Не тужите.
8В предрассветной мгле кладбищенскими аллеями бежал Редька с карбидным фонариком – с Маркизом управиться и в школу, чтобы поспеть за пять минут до звонка.
Времени не хватает, день в декабре короткий. Забыв пообедать, в стайке таких же, как он сам, после школы расчищал конкурное поле от снега, таскал сено на вилах, чистил наждаком грязное железо трензелей, мундштуков.
– Дайте я ее оседлаю, – просил Полковника, пытаясь взобраться на неоседланную лошадь.
Он не мог дотянуться до холки, чтобы уцепиться. А лошадь-то ведь со всех сторон гладкая. И старшие подсаживали его, ухватив сзади за ногу.
Люди, занятые по горло, – вот кто с утра заполнял манеж и конкурное поле: милиционеры из конного взвода, ученики, кузнец Иван. Тут было настоящее дело, оно-то и привлекало ребят. И страшнее всего было не успеть выучить уроки. Петр Михайлович требовал показать ему дневник и звонил по телефону Семену Ильичу, справлялся. Чуть что неладно – прогонял.
Прибегая из школы, Редька нехотя нес дневник в конторку Полковника. Попона на стене, шлем и картинка из «Огонька» – красавица на коне. А на подоконнике красная эмалированная кружка, осколок гребня, чьи-то железнодорожные билеты… Он все здесь знал, до последней катушки черных ниток. И не хотелось уходить. Тут ему было не скучно.
Трофимыч подтрунивал:
– Кто ж мотоцикл спалил? А я знаю кто. Ты и спалил. Жупан забыл сменить – дымом пахнет! Поставишь магарыч – промолчу.
Трофимыч все предметы называл по-своему. Редьке это нравилось: полковничье полотенце на стене Трофимыч величал рушником.
Бросив дневник на стол, Редька вырывался из цепких рук Трофимыча на конкурное поле. Тут каждый день события. И все кони разные.
Одного коня никак нельзя было «отработать». Не давался он ни опытным конникам-милиционерам, ни даже Полковнику. А девчонка из седьмой школы села и поскакала. Дала шенкеля, и сумасшедший конь, храпя и развевая гриву и хвост, распластался в воздухе, пожирая пространство. Полковник догнал, перехватил, повис на уздечке. И у коня и у Полковника глаза диковато смеялись. А девчонка задохнулась, не знала, смеяться или плакать.
– Ты теперь его не ласкай, не наказывай, а промни хорошим шагом, – посоветовал Полковник девчонке.
Все ребята сгрудились и слушали.
– От людей можно сховаться, но от коня не сховаешься: не боится он тебя! – дразнил, кричал издали Трофимыч.
– Зато любит! – пробормотала девчонка. И по ее голосу было понятно, какой ценой досталась победа. Она наклонилась с коня над Полковником и говорила ему: – Никого не признает, а меня любит! Кузнецу рукав оторвал и вас, дядя Петя, два раза сбросил. А меня – ничего, любит.
Она была совсем маленькая, похожа на ту, что на дворе конфетные бумажки собирала. И Редька ей позавидовал.
Авдотья Егоровна после работы приходила за Редькой, как некоторые другие матери, – приносила из столовой еду, искала в толпе ребят. Сосед по дому, Полковник, – седой, в распахнутом реглане, под которым видна ковбойка, в зеленых галифе, в испачканных, мокрых сапогах – держал переднюю ногу коня, в компании милиционеров и кузнеца разглядывал треснувшее копыто. Вполголоса спрашивал ее:
– Ну, зачем пришла? Он же был в школе. Я сам проверил.
– Боюсь, как бы не убился.
– Коня не надо бояться. Я верблюдов в детстве боялся. – Он отводил женщину в сторонку, закуривал трубку. – Ты на него хомут не вздевай. Ему, понимаешь, хочется солнца, а идет дождь. Хочется поскорей воскресенья, а только вторник. Хочется гонять футбол, а простудился. Хочется, чтоб тебя поняли, а ни черта не понимают! – Полковник показывал, где искать Редьку.
Мать совала Редьке в руку пирожок, вздыхала:
– Будешь голодный, голова закружится, упадешь с коня и убьешься… Сапоги-то заляпал твой Полковник. Надо же так измазаться!
Уминая пирожок за обе щеки, Редька старался ей втолковать, почему Петр Михайлович вызывает всеобщую любовь и уважение. Моет ли сапоги в ледяном ставочке, лежит ли в конюшне на сене, читает ли газету в конторке – все ученики смотрят и смотрят, со всей зоркостью караулят, когда пойдет из манежа домой, чтобы провожать гурьбой. Пусть все видят: идут с Полковником, живут в одном доме с Полковником. Редька презирал всякие нежности, но тут хотел, чтобы мать его поняла.
– Он же крестьянствовал! – взахлеб объяснял он матери, не сводя глаз с Петра Михайловича. – С шести лет сидел на лошади! Дед еще постромками его привязывал. Погонычем был в Сальской степи.
– Что такое погоныч?
– Три лошади плуг тащили, а Петр Михайлович на средней сидел. Это и есть погоныч. А плуг был тяжелый, аксайский.
– Это он сам рассказал?
– Сам рассказал. Дед ему не давал пшеницу сеять, только овес и ячмень. И на пяти лошадях пахал! Дед уйдет в церковь, а он наставит прутиков на лугу и скачет с шашкой. Р-раз – и все прутья срежет! Лошадь, бывало, ерундовая, злющая, а он: «Дайте я ее подседлаю». И знаешь, мамка, другая лошадь взрослых не слушается, а под мальчишкой идет. – Он помолчал и вдруг спросил: – А ты верблюдов видела?
– Только в зверинце.
– А я боялся бы верблюдов.
Уже в сумерках зимнего дня возвращался домой. Очень усталый, а еще надо навестить Маркиза. Немного кружилась голова. Может, от голода? Пахло торфяным дымком из низких оранжерейных труб. Запах дыма вызывал слюну. Он озабоченно проверял себя: откуда же эта слюна? Грузовик возле оранжереи слюны не вызвал. Милиционер, возвращавшийся из города, слюны не вызвал. Он успокаивался: значит, еще не так голоден, чтобы упасть и убиться.
Он уносил в себе прожитый день: голова кружилась от усталости, перед глазами скакала девчонка из седьмой школы, во рту – голодная слюнка, в ладонях – тяжесть полного ведра и запах конской шерсти. Он был счастлив оттого, что все рассказал матери о Полковнике. Впервые сумел окатить водой рыжего коня – всего, от холки до хвоста, – и ладонями отжал воду с крупа, да так сильно, что мускулы под кожей у коня дрожали и в электрическом свете денника переливалась холеная влажная шерсть. Ох как хорош был прожитый день!
Но когда он пришел на свой двор, уже безлюдный в такой час, его вдруг охватило ощущение тревоги: почти на всех окнах пятиэтажного дома были подвешены скрученные веревками или шпагатом елки. Вид у них был такой несчастный, будто их изловили в лесу и связали. За ним водилось и раньше – выдумывать, чего нет на самом деле, – он не боялся своих выдумок. Но сейчас даже вспотел от мысли, что связанные елки неспроста связаны, оттого что увидел в глубокой тени за углом церкви милицейскую машину. И возле нее курильщиков. По тому, как упрятали милицейский «бобик» и как попыхивали возле него огоньки сигарет, он догадался, что за кем-то приехали, кого-то должны увезти.
Лунный свет заливал просторный двор, на снежной горке баба-яга прогуливала пуделя. В сиянии луны роилось и исчезало в испуганных глазах Редьки это видение старухи с ее белым псом. И по какой-то необъяснимой догадке он тотчас решил, что старуха знает, за кем приехали, кого увезут. Знает! И вот вышла, чтобы увидеть, – ждет. Он сжался в комочек и скользнул сторонкой. С кем же, если не с ним, вышла проститься баба-яга.
Какая-то минута, одна-единственная, отсекла хорошо прожитый день от этого зловещего, облитого лунным светом двора. И вот он крался, измученный страхом, не зная, куда податься, чтобы спастись от самого страшного – от предстоявшего ожидания расплаты. Сейчас будут брать Цитрона и всю «кодлу». Чего они только не натворили: напивались и горланили, срывали шапки с прохожих, разворовали не один телефон-автомат, угрожали расправой Ваське Петунину. И Редьку поставили на колени. Им наказание будет по заслугам. Но по справедливости ведь и его должны взять! Как пить дать возьмут. Но лишь бы врозь! Лишь бы не сегодня! Сейчас самое страшное – это очутиться с ними в одном «бобике». Чего же они там медлят, милиционеры, покуривают?
У трех освещенных окон полуподвала, где помещался красный уголок ЖЭКа, стояли беспечные люди. Слышался звук баяна. Но и топот ног в красном уголке, и этот беспечный перебор пляски представились Редьке топотом неумолимой погони.
Он побежал домой. Приоткрыл дверь – милицейская фуражка на комоде. Кровать Редьки у самой двери, за шкафом. Он неслышно юркнул на кровать. Затаился, обеими руками опершись на одеяло.
За столом были двое: мать и Потейкин. Они вели обычный разговор. Мать рассказывала об отце, о его работе, о Маркизе, который записан в годовой план доходов оранжереи.
– А как же… – соглашался Потейкин. – Коне-часы, коне-дни. Хотя они дешевые, а ну-ка помножь их. Сколько рабочих дней в году?
– Это только шалых детей растить трудно, – сказала мать. – А планы выполнять куда легче.
– Трудно? – вдруг со всей душевностью спросил Потейкин. – Так зачем же рожали, Авдотья Егоровна? Одна несуразность.
– Да я б еще пятерых народила, товарищ Потейкин! – жарко заговорила мать. – Ведь никакой другой красоты нету! Ни уюта, ни семейного ужина. Когда нет никого, чтобы доброе слово сказал… А тут сокровище! Он у меня вот какой был! Сверчок! Тут что я, что Валя Терешкова, что сама английская королева, мы все равны! Все матери. Как же отказаться от единственного света в окошке?.. Ну и подворотничок же у вас, Анисим Петрович! Как мышь, серый. Постирать некому? А еще офицер!
Редька заглянул в комнату из-за угла шкафа. Мать была, как обычно, скромно одета, но только не по-всегдашнему оживленная. Неужели думает его спасти такими разговорами? Страшнее всего было, что Потейкин в такой ужасный час сидел с расстегнутым воротничком, даже грустный, вежливый с виду, а мать рылась в ящике комода, искала белый лоскут.
– Свежий пришью, – сказала мать. – У меня кусок полотна остался от наволочки.
Они негромко смеялись, как будто все главное уже решено и они условились ни о чем важном не говорить. А только смеяться.
– Теперь у меня пуговицы все на месте. И петля на кителе в порядке. Еще не знаю, как кисель варить. Если позволите, приду за крахмалом, – смеясь, придумал Потейкин.
– Не ходили бы вы к нам, – вдруг перестав смеяться, осторожно сказала мать. – Люди что думают.
– Не буду, – помолчав, печально отозвался Потейкин.
Редька выскользнул в коридор. Никому он не нужен. Вдруг появилось такое чувство, что от страха можно отмыться. С мылом и мочалкой, как после поджога, в темной комнате Раузы. Сегодня она была дома, но Редька ей доверял, не боялся ее, жаль только, что неразговорчивая. И сейчас она впустила без слов. Белка кружилась на подоконнике. Котенок подрос, костлявый, длинный, – вытянувшись, спал на чистой постели. Он взял котенка на руки.








