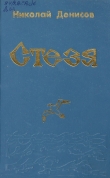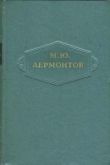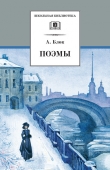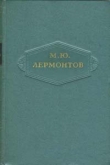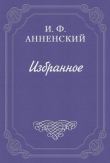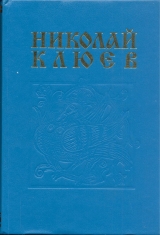
Текст книги "Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы "
Автор книги: Николай Клюев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 41 страниц)
Что же касается Есенина как поэта, то здесь лишь мельком упоминаются его «уста-соловка» и развернуто трансформируется его образ «кобыльих кораблей» в образ лодки – «кобылы». Наделяется он и предчувствием печальной участи стать жертвой города – кабацкого вертепа: Ах, возвратиться б на Оку, / В землянку к деду рыбаку, / Не то здесь душу водкой мучить / Меня писатели научат!»
В ответ на эти тревоги младшего «братца» старший высказывается о непоколебимой верности своим жизненным и духовным истокам: избе и «рублевской купине».
На этот душеспасительный разговор стремительно наплывает, заслоняя собой все, страшная картина гибели Распутина, поглощающая и только что обозначившуюся тему двух героев, их «романа». Но это и не удивительно: распутинский конец, как символ гибели исторической, крестьянско-монархической России, падающей в бездну под тяжестью каких-то собственных внутренних грехов, изображается в «Песни» еще только как прелюдия к более полному и коренному ее сокрушению под ударами новой утверждающейся безбожной власти:
Со стоном обломилась льдина... Всю ночь пуховая перина Нас убаюкать не могла. Меж тем из адского котла, Где варятся грехи людские, Клубились тучи грозовые.
В этом мире всеобщей разрухи, которым стремительно овладевает холод и в котором распадаются живые человеческие связи, не получает дальнейшего развития только что завязавшийся роман. Образ Есенина исчезает, и от всей недавней близости остается только обращенный в пустоту призыв: «Идем, погреемся, дружок). / Так холодно в людском жилье/ На Богом проклятой земле..»
К концу поэмы стремительно нарастает тема теперь уже не «распутинского», а «большевистского» Апокалипсиса. В нынешней России, вернее, в том, что от нее осталось, где ненависти коммунистов подвержены «молитва», «милостыня», «ласка», «сказка» и «песня», герой поэмы еще раз (последний) обращается к уже погибшему другу (не называя, впрочем, его, как и прежде, по имени) с мыслью только о посмертном сближении с ним за пределами враждебного им обоим мира и прощении за былую «измену»:
Бежим, бежим, посмертный друг, От черных и от красных вьюг, На четверговый огонек, Через предательства поток...
Проходит через всю «Песнь о великой матери» и не вполне ясный (возможно, в силу его символической неоднозначности) образ некоего «сына», по отношению к которому звучит пророчество о предательстве им России, проклятие с отрешением его от «приюта милого» (как «зачумленного волка без стаи») и обвинение в попустительстве тому, что окно «над гробом матери родной» заполыхало теперь «комсомолкой, / Кумачным смехом и махрой». Не исключено, что в этом образе выступает и сам герой поэмы, получивший некогда от матери наказ черпать «горсткой золотой» «мир Божьего сиянья» и принуждаемый теперь совестью к признанию в совершении чего-то недостойного: «Слезами отмываюсь я, / И не сковать по мне гвоздя, / Чтобы повесить стыд на двери!..» Однако вместе с образом сына-злодея, сына-предателя упоминаются в поэме также и некие «матереубийцы», что дает повод к его более расширительному истолкованию: виновен в допущении глумления над матерью-Россией не только ее поэт, позволивший себе на какой-то момент увлечься чуждыми и враждебными идеями, но и сам поддавшийся им народ.
По определению первого исследователя и публикатора «Песни о великой матери», «современный Апокалипсис и грядущее преображение, воскресение России – эти темы пронизывают всю поэму. «Песнь» не просто поэтическая мечта, утопия. Клюев родился, чтобы подать нам пророческую весть о глубинной, сокровенной судьбе Родины. Русь – Китеж. Град видимый падет, чтобы в муках поднялся Град Невидимый, чаемый, заветный <...>
Жанр поэмы– лирический эпос, сказание, в ней Клюев предстает как единственный в русской, да и во всей мировой поэзии мифотворец двадцатого века. Миф, эпос. Не старое или новое – вечное. Это книга народной судьбы...» 53 Только поэмы «Плач о Сергее Есенине», «Деревня» и «Заозерье» из клюевского трагического эпоса были опубликованы при жизни поэта, все же остальное из него, подобно «Песни о великой матери» или «Погорельщине», увидело свет на его родине лишь более чем через полсотни лет.
* * *
В 1928 г. выходит последний сборник стихотворений Клюева «Изба и поле», всецело составленный из ранее напечатанного. Однако в следующие пять лет – период наиболее интенсивного и даже как бы «отчаянного» творчества – им, кроме трагического эпоса «отлетающей» России, создается значительный пласт лирики, объединенный именем Анатолия Яр-Кравченко – героя его последнего лирического романа. Через всю клюевскую поэзию проходит тема поисков и обретения (а также и потери) родственной души, близкого человека в чуждом и враждебном мире. Но это, конечно же, не только лирическая тема, а и лейтмотив биографии поэта, выразившийся в продолжительной переписке с Блоком, в общении с Есениным. Стихи второй книги «Песнослова», сборника «Львиный хлеб», поэмы «Четвертый Рим» погружают в мир драматических коллизий, возникших на почве сложных взаимоотношений с ним, итог которых подводился в поэмах «Плач о Сергее Есенине» и «Песнь о великой матери». С 1928 г. героем почти всех лирических посланий Клюева становится приехавший из-под Киева (дачный поселок Святошино) в Ленинград поступать в Академию художеств Анатолий Кравченко.
Их тесное общение продолжалось более пяти лет, до ареста Клюева. Для него Анатолий стал жизненным эликсиром в самый мрачный период существования на свободе. Это он подчеркивает в своих посвященных ему инскриптах: «Анатолию Яр-Кравченко – его прекрасной юности, в год моей последней любви и последних песен – 1929-й. Николай
53 Шенталинский В. [Предисловие к поэме] // Знамя. 1991. № 11. С. 4.
Клюев» (на их совместной фотографии); «Сладчайшему брату Анатолию Кравченко стихи мои – цветы с луга Пантелеймона во искупление печали душевной – на радость и торжество светлой любви моей...» (на книге «Изба и поле»).
Но что инскрипты,– к Анатолию Яр-Кравченко он обращается со стихотворениями, циклами, в которых тот выступает не только адресатом посвящений, но и героем. Так создается оставшаяся неизданной книга философско-любовной лирики «О чем шумят седые кедры» (1929—1932), а также целый ряд других стихотворений на эту тему.
Каким предстает здесь Анатолий? Сближая героя с собой, поэт подчас даже готов воспринять его как собрата по трагической судьбе, например, в обращенном к нему стихотворении «Вспоминаю тебя и не помню...» (1929, в книгу «О чем шумят седые кедры» не входит):
И теперь, когда головы наши Подарила судьба палачу, Перед страшной кровавою чашей Я сладимую теплю свечу.
Но и наоборот, он же в иные моменты видится ему представителем племени «победителей» – «товарищем, вскормленным звездой / Пятиочитой и пурпурной» («Сегодня звонкие капели...», 1932). Однако не этим дорог Клюеву Анатолий, о чем свидетельствуют откровенные строки: «Мне революция не мать, / Когда б тебя не вспоминать!» («Мне революция не мать...», 1932). Дорог же он ему как раз не историческим (тем более не политическим) оптимизмом, а оптимизмом его человеческих ценностей, природных сил. С образом Анатолия в поэзии Клюева неизменно связывается представление о свежести и обновлении чувств: «Ты был как росный ветерок...» («Зимы не помнят воробьи...», 1932); Пью весеннее имя, / Словно борозды ливень...» («Приласкать бы собаку...», 1932).
Однако только этим жизнеутверждающим началом образ Анатолия в поэзии Клюева не исчерпывается. С ним сопряжен также и момент драматический. Как бы ни был поэт упоен счастьем такой взаимности, тревога за ее дальнейшую судьбу, сомненье в ее прочности дают о себе знать: «Не потому ли над бумагой / Звенит издевкой карандаш, / Что бледность юности не пара...» («По жизни радуйтесь со мной...», 1932 или 1933), «Мое дитя, в дупле рысенок, /Я лысый пень, а ты – ребенок...» («По восемнадцатой весне...», 1932), «Как страшно черные грехи / Нести к порогу дружбы юной!» («У пихты волосата лапа...», 1932). Сомнения, как и следовало ожидать, оправдываются, и поначалу однозначный образ Анатолия дополняется новой характеристикой, более сложным комплексом эпитетов: «Есть жернов смерти тяжелей – / Твое предательство,– злодей, / Лукавый раб, жених, владыка!» («Не верю, что читать без слез...», 1933). Неслучайно в своем герое поэт подмечает одновременно «лед и яхонт любимых зрачков...» («Вспоминаю тебя и не помню...»).
Таков круг восприятий Клюевым Анатолия Яр-Кравченко. Но не менее существенно учесть и отношения с другой стороны. Признательность младшего к старшему за то, что он ввел его в мир художественной элиты, стоит здесь, несомненно, на первом месте. «Меня знакомит с художниками, скульпторами, артистами. И говорит: "Уж меня слушайся, я Сереженьке так же говорил..."»,– сообщает он о Клюеве родителям в письме 14 декабря 1928 г. Здесь же добавляет: «Устроился к профессору Савинскому, учителю Савинова. Это еще лучше и популярнее. Мне помогал Клюев через художников и скульптора Дитриха. В эту студию насилу попал, берут только самые сливки».
Клюев становится для Анатолия высочайшим духовным авторитетом. Это проскальзывает и в его письмах к родителям: «Художник идет таинственными путями, говорит Клюев, и он прав» (12 февраля 1930 г.). В письме же к самому Клюеву он обращается с просьбой о духовной поддержке: «Успокой мое сердце. Наполни его радостью. Это в твоей власти»54 (22 августа 1929 г.).
Разлуке друзей по причине ареста и ссылки старшего чуть ранее предшествует их некоторый отход друг от друга, носящий
54 См.: Михайлов А. Лед и яхонт любимых зрачков // Север. 1993. № 10. С. 134,135.
характер любовной «измены». Анатолий женится. По поводу их размолвки Клюев ему пишет: «Кланяюсь тебе и посылаю свое благословение, извини, что задержал прилагаемые стихи <...> Кольцо твое получено и висит на кухне на гвоздике над полкой верхней. Я тронут доверием Зинаиды (жена Анатолия. – А. М.) ко мне,– еще не остывшему, по ее словам, негодяю! Кланяюсь ей и мысленно преподношу самую белую розу <...>
Как твои карие яхонты? Померкли для меня – твоего придворного поэта – навсегда?.. Целую тебя в них, пусть они поплачут о моей и твоей судьбе! Знать это – утешительно» 55.
Отход Яр-Кравченко от Клюева не стал, однако, причиной их внутреннего человеческого разрыва. Не произошло отречения и Анатолия от осужденного Клюева. Написанные им письма к опальному поэту нам неизвестны, но о его отношении к нему в эти годы с полной определенностью свидетельствуют следующие признания в письмах к родителям: «Н<иколаю> А<лексеевичу> не пишу по некоторым соображениям. Очень занят. Напишите ему самые лучшие и дорогие слова. Он благословил мой жизненный путь великим светом красоты и прекрасного. Имя его самое высокое для меня» (18 февраля 1935 г.) А вот исполненное особой признательности письмо 5 мая того же года с Кавказа: «Я среди этих каменных гор и этого гордого молчания природы много думаю о дедушке, который прошел через всю <мою> жизнь, показал мне диковинную птицу и ушел. А я стою зачарованный, стою, боюсь дышать, чтоб не отпугнуть паву. Но она неудержима, обнимает протянутые к ней руки и расправляет крылья, чтобы улететь. Я плачу»36.
* * *
На пути к Голгофе Клюев уже не делает ни малейших уступок своим недругам во взглядах на Россию, крестьянство,
55 Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. СПб., 1993. С. 168,169.
56 Михайлов А. Пути развития новокрестьянской поэзии. Л., 1990. С. 240.
религию и поэзию. На «социальный заказ» большевиков воспеть их режим он ответил убийственными строками:
Рогатых хозяев жизни Хрипом ночных ветров Приказано златоризней Одеть в жемчуга стихов. Ну что же: не будет голым Тот, кого проклял Бог...
(Нерушимая Стена, 1928).
И совсем нетрудно распознать у него в «Погорельщине» под видом исторически-давних, легендарных врагов Руси половцев и сарацин нынешних разрушителей ее духовности и красоты – богоборцев-большевиков. Он не только яростно защищает собственного «берестяного Сирина», но и в страстной инвективе «Клеветникам искусства» (1932) берет под защиту наиболее преследуемых ими С. Клычкова, С. Есенина, А. Ахматову, П. Васильева. Создается им и уже открыто направленный против злодеяний коммунистов цикл стихотворений «Разруха» (1934), начинающийся со строк, предсказывающих то, что нынешний русский человек осознает как свою трагическую реальность, Апокалипсис России XX века. Это «мертвая тина» Арала, мелеющая «синяя» Волга, уничтоженные заповедные леса, обесплодившие нивы, исчезающие от злой пагубы птицы («Нас окликают журавли / Прилетной тягою впоследки...»). И даже уж и вовсе поразительные слова о России за гранью предстоящих шестидесяти лет содержатся в этом цикле:
Ей вести черные, скакун из Карабаха.
Оброненная поэтом в начале 30-х годов едва ли не случайно, эта строка обернулась ныне самой жестокой реальностью. Не случайно первое стихотворение цикла называется «Песня Гамаюна» – вещей птицы, предрекающей далёко на будущее. Но главное в «Разрухе» – страшная картина народного страдания: голод, массовая гибель вывезенных на во-логодчину раскулаченных украинцев, рытье печально знаменитого канала:
То беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тетка Фёкла,
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей
И слезы скрыла от людей,
От глаз чужих в глухие топи...
Сам поэт проходит в виде странника по своей разоренной земле, где ему в лесных прогалах «брезжил саван красный, / Кочевья леших и чертей» Таким убийственным переосмыслением оборачиваются здесь верноподданнические слова В. Маяковского о советском «краснофлагом строе», воспетом им и другими поэтами большевистского режима.
Во всех этих произведениях, исполненных боли за происходящее в России, голос поэта звучит твердо и безбоязненно.
И все же тревога за жизнь, предчувствие неизбежной гибели давали о себе знать. Оттесненные в глубь сознания, они прорывались в его снах (записанных близкими людьми). Это же, впрочем, находило выражение и в лирике: «Товарищи, не убивайте, Я – поэт)... Серафим)... Заря..» – вырвалось у него еще в стихотворении 1919 г.; «Проснуться с перерезанной веной...» Однако, в отличие от лирики, в снах переживания этого рода не только раскрываются в потрясающих видениях, но и сопровождаются целым рядом поразительных откровений касательно как судьбы поэта, так и его родины. Большинству из них сопутствует мотив опасного места. В сне на 21 ноября 1922 г. герой идет вдоль каких-то торговых рядов с ларьками «по бурой грязи в песьем воздухе», мучительно надеясь на встречу с человеком, который помог бы ему «из этого проклятого места выбраться». На 30 июля 1923 г. поэту снится, будто он топит печь в новой избе: «Только печное пламя стеной из устья пошло, не по-избяному, а угрюмо и судно... Выскочил я в сени – пожар в сенях; я в сарай – там треск огненный. Выбежал я на деревню,– избы дымом давятся...» Часто видит он кровь. В ларьках упомянутого выше сна на Михайлов день 1922 г. ведется торговля подержанной одеждой: связками до самого потолка лежат «штаны, пиджаки, бекеши, пальто, чуйки... И все до испода кровью промочены». И торгуют всем этим люди с собачьими глазами. Про себя же герой знает, что вовсе и «не люди это». Да и бурая грязь у него под ногами не от чего иного, как от крови.
И неизменным через почти все сны проходит мотив бегства с целью спасения от преследователей – убийц и палачей. Во сне на 10 июля 1923 г. герой, спасаясь, прячется, в то время как его другу одетые в военное, безликие «казенные люди – убийцы» «жиганским ножом прокололи... грудь»: «И за ящиком я спрятался, свое остервенелое сердце ужасом да отместкой утешаю...»
В награду за этот страх и муки дается герою клюевских снов пережить на какой-то момент радость спасения. При этом важнее всего для него не столько осознание спасенности, сколько само спасительное место. Прежде всего это, разумеется, все, связанное с православными святынями, Святой Русью. Так, спасительным сигналом прорывается она к герою сна с «ларьками» и ворохом окровавленной одежды: «Вдруг где-то далеко, далеко в далях святорусских ударил колокол. До трех раз ударил. Заметались, засуетились по всем рядам собачьи рожи. А я перекрестился и говорю: "Господи, Иисусе Христе, спаси меня грешного]..". Тут я и проснулся».
Вместе с тем мир спасения в снах Клюева не обязательно Россия, воспринимаемая им теперь уже скорее как застенок, в котором только и можно что сделать – это послать из него в запредельный мир весть о своей обреченности и предстоящей гибели. Так делает Клюев, при встрече в 1929 г. с Этторе Ло Гатто, написав на развороте подаренного ему «Песносло-ва» в качестве своеобразного послания в Италию (как родину первых христианских мучеников) о том, что «заросли русские поля плакун-травой невылазной», что «кровью течет Матерь-Волга». В снах этот трагический мотив получает как бы свое «спасительное» развитие: «...вновь и опять видел небо величавое и колыбельную землю сладимую <...> Понизь-равнина <...> и воздухи тихие, благорастворимые <...> И будто земля сновидная – Египет есмь. Сфинксы по омежным сухменям на солнце хрустальном вымя каменное греют. Прохладно и вольно мне, глотаю я воздух дорогой, заповедный <...> Далеко, далеко за морем пушки ухают: это будто в Питере неспокойно...» Затем неожиданно появляется «ищейка подворотная» с бумагой, по которой героя должны арестовать и судить «за политику».– «Ну, думаю, с меня теперь взятки гладки: в Египте я, в земле древней, неприкосновенной]..
Проснулся обрадованный» (январь 1923 г.).
Спасительным прибежищем предстает также в клюевских снах и мир всегда воспеваемой им дремучей, девственной природы, самим существованием которой как бы уже нейтрализуется проявление и власть злых сил. И конечно же, спасительным у Клюева-певца «избяного космоса», «берестяного рая» оказывается мир крестьянской избы, крестьянского подворья, куда попадает, например, затравленный герой сна в ночь на 10 июля 1923 г.: «Гляжу – хлев передо мной коровий, навозом и соломой от него несет. Вошел я в хлев, темень меня облапила, удойная добрая мгла».
Однако ни Египет, ни православные святыни, ни «удойная добрая мгла» хлева не становятся окончательно-спасительным прибежищем преследуемого героя клюевских снов. В итоге чаще всего его ждет гибель. «Взят я под стражу... В тюрьме сижу... безвыходно мне и отчаянно <...> Завтра казнь» (23 февраля 1923 г.) И казнь эта свершается. Из сна в сон героя расстреливают, режут, закалывают, душат, сбрасывают в пропасть. В сне на 24 июня 1923 г. его приводят к месту казни: «Солдатишко-язва, этапная пустолайка, меня выстрелом кончать будет. Заплакал я, жалко мне того, что весточки миру о страстях своих послать нельзя, что любовь моя не изжита, что поцелуев у меня кошель непочатый... А солдатишко целится в меня, дуло в лик наставляет...»
Но что значит для поэта-мистика смерть, уничтожающая всего лишь внешнюю, физическую оболочку. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» – эти слова Христа (Евангелие от Матфея, X, 28) служили Клюеву ориентиром как в творчестве, так и в жизненном поведении. Их осуществлением завершается и этот сон о расстреле: «Как оком моргнуть, рухнула крыша – череп <...> Порвал я на себе цепи и скоком-полетом полетел в луговую ясность, в Божий белый свет... Вижу озеро передо мной, как серебряная купель; солнце льняное непорочное себя в озере крестит...» Подобным же образом завершается трагический сон на 24 марта 1924г.: «...лебяжьим летом лечу над великим озером. Тихи и безбрежны воды озера, вечная заря над ним, о которой поется «Свете тихий» по церквам русским» 57.
Итак, природа, православие, родной крестьянский дом – предстают у Клюева как вечные, неотъемлемые от поэта и в смерти ценности. Их свет брезжит ему и за чертой земного бытия.
к к к
К началу 1930-х гг. положение поэта резко ухудшается. В разгар коллективизации, то бишь оголтелой кампании раскрестьянивания, «уничтожения кулака как класса», представителями ВОКП (Всероссийского общества крестьянских писателей), неслучайно превратившегося вскоре в РОПКП (Российскую организацию пролетарско-колхозных писателей), с величайшей готовностью осознавшими себя в этой исторической ситуации боевым «штабом социалистического наступления» он (вместе с С. Клычковым) избирается самой прицельной мишенью в массированном ударе по «классовому врагу». Уже на проходившем в июне 1929 г. I съезде этого исключительно политизированного объединения под видом выяснения, кто из пишущих о деревне подлинный «крестьянский» писатель (то есть становящийся на «пролетарские рельсы»), а кто «буржуазно-кулацкий», враг, частое упоминание Клюева не сулило ничего доброго, особенно в выступлениях, подчеркивающих опасность его влияния на молодежь. «Как студент ленинградского университета я должен констатировать, что в гуманитарные вузы Москвы и Ленинграда очень много поступает крестьянской молодежи, много и кулацкой молодежи, которая какими-то путями втирается в гуманитарные вузы. И вот она приходит в город с длинными волосами, приходит с Клюевым, Есениным и начинает там обрабаты
57 Новый журнал (С.-Петербург). 1991. № 4. С. 9,16-17, 9,15,10, 12-13,15,13,15,18.
ваться. Марксистская критика наша очень слаба, и эта молодея ь идет по чужой нам идеологической дорожке <...> и смотришь, через три-четыре года даровитые парни становятся идеологически враждебны нам. И в силу того, что они усвоили культурный материал, они являются для нас весьма опасными» (И. Никитин)58. О поэзии Клюева как символе враждебной патриархальной России напоминает в стихотворении «Старина» (1930), напечатанном в «боевом» журнале ленинградского «штаба социалистического наступления» «Перелом», Л. Мелковская («Живет старина в куполах без крестов / Да в клюевском шепоте темных стихов»59), не скрывавшая, впрочем, и воздействия опасных чар Клюева на свое эпигонское агитационное (за колхозы и на борьбу против «врагов») стихотворчество (как и на подобную же «продукцию» соратников по борьбе): «Все мы знаем, насколько это трудно (учиться у Клюева и Есенина их уменью «подавать образы» и не заражаться их «пагубным влиянием».– А. М.) и сколько наших товарищей погибло на этом пути, уйдя в совершенно невылазную клюевщину»60. Еще дальше в преследовании Клюева со стороны «штаба» ВОКП, успешно переходящего на рельсы РОПКП, пошел один из лидеров этой организации беллетрист Н. Брыкин в повести «Стальной Мамай» (1931, журн. вариант), в которой обращение к стихам поэта носит вполне доносительный характер. Их здесь то и дело с глубоким внутренним удовлетворением цитирует в своем дневнике скрывающийся под личиной колхозного счетовода «вредитель», бывший белогвардейский полковник. В них он находит для себя явное духовное подспорье – в намеке поэта на способность русского мужика «смести... бородою» любой «татарский ясак» (понимай «социализм»), в его нетерпении «убежать в глухие овраги» от шума и грохота наступающей на деревню коллективизации. Журналу, напечатавшему стихи поэта (имеется в виду ленинградский журнал «Звезда», опубликовавший в 1927 г.
58 Пути развития крестьянской литературы. Стенограммы и материалы первого всероссийского съезда крестьянских писателей. М.; Л., 1930. С. 129-130.
59 Перелом. 1930. № 11-12. С. 18.
60 См.. Пути развития крестьянской литературы. С. 148.
крамольную поэму Клюева «Деревня») словами врага давалась в повести характеристика: «Перелистываю ежемесячник. И стараюсь внушить себе, что у меня в руках находится не большевистский журнал, а изъеденное временем, закопченное в пороховом дыму, не раз простреленное полковое знамя»в
Знаменательно, что все трое вышеприведенных представителей вездесущего ВОКП, оценивавших поэзию Клюева как глубоко чуждую и враждебную, являлись членами одного и того же его территориального отделения – ленинградского. В Ленинграде проживал в это же время и поэт. Там в 1930 г. он был исключен из писательского союза. Несомненно, именно этим массированным преследованием объясняется его переезд в 1932 г. в Москву, который, надо полагать, и обеспечил ему возможность продержаться еще около двух лет.
О конкретных обстоятельствах ареста Клюева известно на сегодня только из одного источника – из воспоминаний И. М. Тройского, (в начале 1930-х гг. председателя Оргкомитета Союза советских писателей, ответственного редактора «Известий» и главного редактора журнала «Новый мир»; ему же принадлежит и авторство термина «социалистический реализм»). По его словам, он пытался все больше и больше переходящего «на антисоветские позиции» Клюева удержать в пределах идейно выдержанной литературы и даже ходатайствовал о выдаче ему единовременного пособия. Уехавший по его получении из Москвы на лето (речь, вероятно, идет о 1933 г.) в деревню, Клюев прислал оттуда редактору правительственной газеты отнюдь не стихи, которые могли бы стать благодарным «ответом» на предоставленный ему властями аванс, а некую возмутившую того «поэму», поскольку она представляла собой «любовный гимн», предметом коего являлась не «девушка», а «мальчик» (скорее всего, это были стихи, посвященные Анатолию Яр-Кравченко).
По возвращении Клюева в Москву между ним и Тройским произошел по этому поводу разговор, в результате которого поэт будто бы наотрез отказался писать «нормальные» стихи, пока не будет-де напечатана присланная им «поэма». Это
61 Брыкин Н. Стальной Мамай. Л., 1934. С. 81.
было расценено партийным сановником как откровенный саботаж, и чаша его терпения переполнилась: «Я долго уговаривал Н. Клюева, но ничего не вышло. Мы расстались. Я позвонил Ягоде и попросил убрать Н. А. Клюева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил: "Арестовать?" – "Нет, просто выслать из Москвы". После этого я информировал И. В. Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал».
В этом объяснении все выглядит не так уж зловеще-криминально: речь идет всего лишь о высылке поэта из Москвы (с утаиванием, правда, «куда»). На самом же деле мысль Тройского о Клюеве как опасном враге, оказывающем вредное влияние на общество, особенно на творческую молодежь, все время прорывается в его воспоминаниях, где над поэтом прямо-таки тяготеет печать сократовских «преступлений»: «Н. А. Клюев усиленно тащил молодых поэтов вправо. Чем же объяснить, что молодежь тянулась к нему? Почему мы должны были воевать за молодых поэтов?.. Клюев был большим мастером стиха, и у него было чему поучиться, и он умел учить <...> Н. А. Клюев пытался увести от Советской власти поэтическую молодежь, и как можно дальше...»62
Арестованный 2 февраля 1934 г. по обвинению в антисоветской агитации («составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений» – так сформулировано в обвинительном заключении), на допросах Клюев не скрывал своего решительно неприятия «политики компартии и советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны», которое он рассматривал «как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью». Октябрьская революция, высказывается он, «повергла страну в пучину страданий и бедствий и сделала ее самой несчастной в мире». «Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей...»63
62 Гронский И. О крестьянских писателях (Выступление в ЦГАЛИ 30 сентября 1959 г.) // Минувшее. Париж, 1989. Вып. 8. С. 148, 150, 151, 154.
63 См.: Огонек. 1989. № 43. С. 10.
Сосланный поначалу в поселок Колпашево (Западная Сибирь), Клюев вскоре переводится в Томск, где в самом бедственном положении доживает до 1937 г.: «В Томске глубокая зима. Мороз под 40°. Я без валенок, и в базарные дни мне реже удается выходить за милостыней. Подают картошку, очень редко хлеб, деньгами от двух до трех рублей – в продолжение почти целого дня – от 6 утра до 4-х дня, когда базар разъезжается. Но это не каждое воскресенье, когда и бывает мой выход за пропитанием. Из поданного варю иногда похлебку, куда полагаю все: хлебные крошки, дикий чеснок, картошку, брюкву, даже немножко клеверного сена, если оно попадает в крестьянских возах. Пью кипяток с брусникой, но хлеба мало. Сахар – великая редкость. Впереди морозы до 60°, но мне страшно умереть на улице. Ах, если бы в тепле у печки! Где мое сердце, где мои песни?!» (из письма В. Н. Горбачевой конца 1934 г.)64. С весны 1937 г. связь с ним теряется, уступая место версиям и легендам о его конце. И только в 1989 г. из ставших доступными материалов томского НКВД становится известна правда о гибели «особоучетника» ссыльного Клюева. 23 марта 1936 г. его арестовывают как «участника церковной крестьянской группировки». Однако менее чем через четыре месяца выпускают по состоянию здоровья. В это время он уже крайне болен: паралич левой половины тела, порок сердца в тяжелой форме. Целый год поэта не беспокоили. Он «только должен был дважды в месяц с удостоверением личности (№ 4275) ходить отмечаться в го-ротдел НКВД. Наступило лето 1937 г. с его усилением репрессий, и тут о Клюеве вспомнили. 5 июня его арестовывают как активного, «близко стоящего к руководству» участника управляемой из-за границы «монархо-кадетской» повстанческой организации «Союз спасения России» (никогда не существовавшей). Виновным себя Клюев не признал, отказался назвать и своих «сообщников» (попросту, оклеветать знакомых ему людей). 13 октября тройкой НКВД Новосибиркой области он был приговорен к «высшей мере социальной защиты» и расстрелян, как обозначено в справке о приведе
64 Новый мир. 1988. № 8. С. 180.
нии приговора в исполнение, 23—25 октября: этот странный учет (целых 3 дня!) произведен не по индивидуальному приведению приговора в исполнение, а по времени заполнения (открытию и закрытию) ямы массового расстрела. В 1960 г. поэт был реабилитирован за отсутствием события преступления.
Последним из известных произведений Клюева является посланное с письмом к Анатолию Яр-Кравченко (25 марта 1937 г.) стихотворение «Есть две страны: одна – Больница...» В нем, как и в большинстве снов поэта,– обстоятельно переданное ощущение собственной гибели. Но как и эти сны, оно завершается беззаветной верой в то, что егого и погибшего – «как розаны в сосуде, / Блюдет Христос на Оный День!» – верой в свое воскресение для России, которая и сама в творчестве Клюева никогда не угасала.
к к "к
В поэзии Клюева и идущих вслед за ним других новокрестьянских поэтов мощно забил родник живой народной речи, чего еще не наблюдалось в общем словесно-сглаженном потоке отечественного стихотворчества конца XIX – начала XX веков и по поводу чего И. Анненский писал: «Благодаря официальному городскому характеру нашей словесности и железной централизации книжная речь мало-помалу лишалась животворного влияния местных элементов и вообще слов чисто народных...»65 Несколько позже другой современник сетовал на то, что «в русском так называемом интеллигентском сознании, которое лежит в области мышления дискурсивного, разорванного <...> образ считается чем-то чуждым», что русская интеллигенция «оторвана от народа, мыслящего образами», в то время как «народные образы – художество, музыка, литература– великолепны»66.