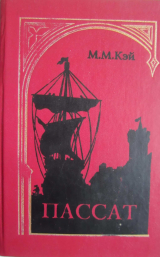
Текст книги "Пассат"
Автор книги: Мэри Кэй
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
Полковник Эдвардс потянулся за колокольчиком, стоящим возле подноса с документами, и резко позвонил.
Мистер Натаниэл Холлис, идущий по тенистой стороне улицы, придерживая шляпу от сильного ветра, испытывал гораздо меньшее самоуспокоение, чем его британский коллега. Прежнее опасение относительно «антибелого» восстания улеглось, уступив место совершенно другой, немало раздражающей его проблеме. Неприятному открытию, что Рори Фрост, как и предсказывал лейтенант Ларримор, обвел их вокруг пальца своим якобы рыцарственным предложением, чтобы спасителем Геро из водной могилы считался «Нарцисс», а не «Фурия».
Мистер Холлис, поддерживал этот замысел, видел, что другие консулы и европейская община охотно ему верят, радовался этому. Однако несколько минут назад понял, что если теперь отречется от своих слов, досадная правда вызовет гораздо более неприятные домыслы, чем если б она была известна с самого начала.
В сущности, он не мог пойти на подобный шаг и признавал, что Рори Фрост своего добился. Ни Геро, ни ее дядя теперь не могут обвинить его в том, что он принял на борт и тайком свез на берег не указанный в манифесте груз; а без прямого обвинения, исходящего от кого-то из них, британский консул, этот самодовольный солдафон, не шевельнет и пальцем.
Мистер Холлис подошел к двери своего дома в дурном настроении, снял в полутемном, прохладном коридоре широкополую шляпу, бросив ее чернокожей служанке, послал за племянницей. Но дома ее не оказалось. Жена сообщила ему, что недавно заезжали миссис Кредуэлл с мадам Тиссо и взяли Геро с Кресси покататься.
– В это время дня? – спросил раздраженный мистер Холлис. С ума сошли! Хотят получить тепловой удар?
– Да они не поедут далеко, – успокаивающе сказала тетя Эбби. – Почти все дороги непроезжие. Я удивляюсь, зачем кое-кто держит экипажи. Но Оливия хочет лишь свозить Геро к сестрам султана.
– Зачем это нужно?
– Просто из вежливости, дорогой. Геро – твоя племянница, и от нее ждут визита к царственным дамам.
– Ты хочешь сказать, к живущим во дворце Бент-эль-Тани? Можно было догадаться! – сказал вышедший из себя консул. – Опять эта девица Чоле.
– Принцесса Чоле, – мягко поправила тетя Эбби.
– Какая к черту принцесса! – возмутился мистер Холлит. – Мать ее была всего навсего одной из наложниц старого султана.
Тетя Эбби содрогнулась и закрыла глаза.
– Из «сарари», Натаниэл. Не из «наложниц». Са-рари – или сури в единственном числе, по-моему, так. Их дети считаются принцами и принцессами, дорогой. Я хочу сказать – сеидами.
Консул раздраженно отмахнулся.
– Принцессы они или нет, Кресси видится с ними слишком часто, и это пора прекратить.
– Натаниэл! – голос тети Эбби дрогнул от негодования. – Я тебя просто не понимаю. Ты ведь сам это предложил, когда мы только приехали сюда. Помню, ты сказал – как прискорбно, что люди, считающие себя вправе властвовать над цветными рабами, не считают, что с ними нужно дружески общаться, это не только вопиющая невежливость, но и непростительная близорукость…
– Не нужно повторять мне, что я говорил! – оборвал ее мистер Холлис. – Прекрасно помню и в целом до сих пор придерживаюсь того же мнения. Но все зависит от обстоятельств. Во-первых, тогда я не знал, что Тереза Тиссо и эта англичанка завяжут дружбу с целой сворой султанских сестер, во-вторых, не предполагал, что Кресси окажется у них на поводке!
– Кресси ни за что не будет на поводке у кого-то, – с дрожью в голосе заявила тетя Эбби. – Просто она молода и, вполне естественно, хочет общаться с молодыми. Тереза…
– Наверняка не моложе тридцати и к тому же прирожденная интриганка, – перебил ее консул. – Видела ты, как одно время она не давала Клею прохода? То ездила с ним верхом, то ходила в гости, то каталась на лодке – удивляюсь, что старый Тиссо терпел это. Я был очень рад, когда Клей перестал с ней видеться. А Оливия Кредуэлл просто-напросто безмозглая дурочка, муж ее, должно быть, рад был умереть, лишь бы не слышать болтовни своей благоверной. Отличные приятельницы для твоей дочери! Кресси большую часть времени проводит в их обществе, а втроем они прямо-таки пропадают во дворце. Я этим недоволен, имей в виду. Обитательницы Бейт-эль-Тани что-то затевают.
– Затевают? Мистер Холлис, что это означает?
Консул, избегая испуганного взгляда жены, хмуро поглядел на яркий букет оранжевых лилий в большой голубой вазе и кратко ответил:
– Не знаю. К сожалению!
Потом повернулся и, заложив руки за спину, стал расхаживать по комнате; резкость его шагов выдавала внутреннее беспокойство. Остановился он наконец не перед женой, а перед гравюрой с написанного Стюартом портрета Джорджа Вашингтона, она висела в рамке на дальней стене комнаты. Несколько секунд смотрел на нее, потом неторопливо заговорил с явной непоследовательностью:
– По традиции мы не вмешиваемся в управление и политическую жизнь других стран, не суемся в их внутренние дела. Нужно оставаться нейтральными; если не в мыслях, то, по крайней мере, в поступках. И не создавать впечатления, что становимся на чью-то сторону, поскольку в противном случае окажемся перед всем миром на тех же позициях, что и британцы. Позициях вмешательства в чужие дела, угнетения, подавления – и войны. Основатели Америки и многое нынешние ее храждане бежали от угнетения и бесконечных войн. Стремились к миру, свободе и, видит Бог, получили их. Однако самый надежный способ утратить полученное – это позволить себе вмешиваться в сомнительные внутренние раздоры чужих государств. Если Анри Тиссо и безмозглый Хьюберт Плэтт разрешают своим женщинам участвовать в интригах против султана, это не мое дело. Однако я не допущу, чтобы моя дочь совалась во что-то сомнительное. Или моя племянница.
– Нет, но ведь!..
Эти слова прозвучали протестующим писком. Консул резко повернулся, сверкнул на жену глазами и громко сказал:
– Или вы, миссис Холлис. Я этого не потерплю. В последнее время, послушав вашу дочь, можно подумать, что она занята агитацией перед президентскими выборами, и Баргаш – ее обожаемый кандидат. Она принимает его сторону, и ей, несомненно, это кажется очень волнующим – словно роль в пьесе о Порочном Султане и Благородном Наследнике. А на самом деле Кресси суется в личную ссору цветных людей – примитивных, необузданных, не понимающих нашего образа мыслей и жизни, готовых ради достижения своих целей пролить кровь родного человека. Что ж, ей придется найти для совместного времяпровождения кого-то еще, потому что я не позволю членам моей семьи совать нос в дела, которые их не касаются, или участвовать в разжиганий бунта против правителя той территории, куда я приехал как аккредитованный представитель своей страны. Это в, высшей степени постыдная глупость и, клянусь Богом, ей будет положен конец!
13
Сеида Салме, дочь покойного великого султана Саида, Оманского Льва, сидела, подобрав под себя ноги, на шелковом ковре в одной из верхних комнат Бейт-эль-Тани и читала вслух «Хронику имамов и сеидов Маската и Омана»:
«Тогда султан ибн аль-Имам Ахмед ибн Сади отправился в Неваз и велел верным людям ехать в эль-Матрах, ждать там в засаде Хасифа и отправить его связанным в Маскат, там запереть его в Западном форте, содержать без воды и пищи, пока не умрет, а затем вывезти тело на лодке и бросить в море подальше от берега. Они исполнили это к великой радости султана, который затем отправился в эс-Сувейк, находившийся тогда в руках его брата, Саида ибн эль-Имама, и захватил…»
Мягкий голос Салме плавно затих, большая книга сползла с ее колен на ковер, и ветерок, проникающий сквозь прорези в ставнях, резко, назойливо зашелестел пергаментными листами.
Других звуков в этой увешанной зеркалами комнате, погруженной в зеленый полумрак, не раздавалось. До Салме доносились стук сковород и кастрюль, пронзительные голоса служанок, живущих на первом этаже, плеск моря, мелодичные крики продавца кокосовых орехов и негромкий городской гул. Мирные, привычные, повседневные звуки, когда-то означавшие покой и безопасность. Когда-то…
Очевидно, думала она, в такой семье, как у отца, неизбежны ссоры, вражда и шумные разногласия; хотя у старого султана в течение многих лет была всего одна законная супруга, гарем изобиловал сарари – наложницами всех цветов и оттенков от голубоглазых, перламутрово-белых черкешенок до черных, как смоль, абиссинок – чьи дети имели право называться сеидами. Но эта огромная масса единокровных братьев и сестер, которые вместе с матерями, бабушками, тетями и дядями, племянниками, племянницами и легионами услужливых рабов обитали в занзибарских дворцах и переполняли добрый десяток загородных султанских домов, жила в общем и целом счастливо под благожелательным приглядом Оманского Льва, и лишь после его смерти все изменилось.
Как будто, горестно размышляла Салме, мир и довольство приказали долго жить и легли вместе с ним в могилу. Временами она просыпалась среди ночи и беззвучно плакала по всему утраченному – по некогда великой империи отца, теперь разделенной между его сыновьями; по веселым, беззаботным дням детства, когда ссоры жарко вспыхивали и быстро гасли, будто костер из сухой травы. Теперь же тлеющие, непримиримые распри раздирают семью, казавшуюся счастливой и дружной.
Рассеянный взгляд остановился на ее отражении в одном из больших, потускневших от муссонной влаги зеркал. При виде легкого блеска драгоценных камней в медальоне на лбу она вспомнила одно давнее утро: золотисто-голубое утро во дворце Мотони, когда она удрала от няни и побежала к отцу, впопыхах не надев усеянное драгоценными камнями украшение, схватывающее в пучок все ее двадцать косичек, и бренчащие золотые монеты, подвешивающиеся к концу каждой. Отец отругал ее за появление перед ним в неподобающем виде и пристыженную отослал к матери… То был единственный раз, когда он рассердился на нее. Единственный миг гаева на ее памяти за все эти солнечные, счастливые, невозвратные годы.
Бейт-эль-Мотони был любимым дворцом ее отца. Он стоит вдалеке от шума, вони и суеты города, в окружении пальм, зеленых рощ и садов с цветниками, высокий, беспорядочный, многоэтажный. Его обращенные к морю окна ловят сильное, прохладное дыхание пассатов. В красочных, шумных комнатах жило дружно и согласно множество сарари, окруженных детьми, служанками, рабынями, евнухами, а всеми правила единственная законная жена султана, бездетная, безобразная, властная сеида Аззебинти-сейф.
Пока старшие шили и сплетничали, навещали друг друга или проводили долгие часы в банях, дети учились читать и писать, ездить верхом на горячих арабских скакунах отца и плавать на каяках у коралловых берегов. Кроме того, там были сады для игр, бесчисленные животные, которых дети кормили и ласкали – павлины, котята, обезьяны, попугаи и ручная антилопа.
Жизнь на женской половине Мотони шла весело, беззаботно, роскошно, и не было нужды строить планы на будущее. Долгие солнечные дни с непременными пятью намазами, предписанными Священной Книгой, текли заведенным порядком, создающим приятное ощущение безопасности и постоянства. Салме даже не приходило в голову, что этот порядок может быть когда-то нарушен. Но все же это произошло. До Занзибара дошли тревожные вести о беспорядках в далеком Омане, и султан Саид с несколькими сыновьями и громадной свитой придворных, слуг и рабов отплыл в Маскат – столицу Омана, важнейшее из его владений.
Это было началом конца, и Салме поняла, что при звуке выстрела она всегда будет вспоминать прощальный салют величественным кораблям, медленно проплывающим мимо Мотони. Женщины с детьми толпились на берегу, махали руками, плакали, молились о благополучном возвращении султана. Без него большой дворец стал казаться пустым, заброшенным, словно из него вынули сердце.
Ее брат Баргаш уплыл с отцом, но принцы Халид и Маджид остались. Халиду, как старшему из родившихся на Занзибаре сыновей, предстояло в отсутствие отца править островом, Маджид следовал по старшинству за ним. А поскольку сеида Аззе уже умерла, султан отдал власть над своими женщинами и дворцами Чоле, любимой и самой красивой дочери.
После отплытия султана дни уже не были счастливыми. Красавица Чоле, несмотря на самые благие намерения, все же вызывала зависть и возмущение у менее любимых женщин, поэтому ссоры и разногласия стали прискорбно частыми. С другой стороны, Халид был чрезмерно строг, и однажды это едва не привело к трагедии. В одном из дворцов случился пожар, и женщины, крича и пытаясь выбежать, обнаружили, что Халид велел запереть все ворота и приказал страже никого не выпускать из опасения, что простые люди увидят лица женщин султана.
Мало кто по тем или другим причинам не молился о благополучном и скором возвращении султана Саида. Однако недели складывались в месяцы, месяцы в годы, вести из Омана приходили только недобрые, о возвращении Саида не было слышно. Халид заболел, умер, и Маджид – добродушный, беспечный, беспутный и малодушный – стал вместо него правителем и наследником султанского трона.
Саид не собирался уезжать надолго, он любил Занзибар и уютно там себя чувствовал. Однако проблемы родины, сорвавшие его с зеленого, благодатного острова, не давали ему покинуть бесплодные пески и суровые скалы Аравии. Давние враги, персы, на суше разгромили армию его старшего сына, Тувани, рассеяли флот, которым султан сам намеревался блокировать их с моря; британцы отвергли его просьбу о помощи, и султану осталось лишь принять суровые условия, навязанные победителями. Надломленный, униженный Саид наконец собрался в обратный путь.
Вероятно, он понимал, что может не достичь своего любимого острова, больше не увидеть Мотони, синих волн, разбивающихся белой пеной о коралловый берег, и пальм, гнущихся под пассатом. Может, чувствовал себя старым, усталым, лишенным иллюзий – и сломленным. Так или иначе, к удивлению и тревоге свиты, он взял на борт достаточно досок, чтобы сколотить гроб, и отдал строгий приказ – если в плавании кто умрет, тело не опускать по обычаю в море, а набальзамировать, доставить на Занзибар и похоронить там. Большие дау вышли из Маската и обратили резные, раскрашенные носы к югу, а пять недель спустя команда рыболовного судна, забрасывающая сети у Сейшельских островов, заметила корабли султана и понеслась под всеми парусами на Занзибар с радостной вестью, что Оманский Лев возвращается Домой.
Салме иногда казалось, что она вновь ощушаст на шеках тот ветер, вдыхает аромат тех цветов – приветственных гирлянд, сплетенных при вести о приближении кораблей ее отца. Дворцы были убраны и разукрашены, приготовлен пир, густые запахи стряпни мешались с головокружительным ароматом цветов и сильных благовоний из мускуса, сандалового и розового масла, впитавшихся в шелковые одеяния женщин. Как они смеялись и пели, надевая свои лучшие одежды и самые прекрасные драгоценности, как спешили в сад, выходили на берег, глядели во все глаза на море и ждали., ждали…
Маджид отправил на двух маленьких судах свою свиту встречать отца, сказав, что вернутся они еще до заката, а потом начнутся музыка, веселье и большой пир Однако напряженный день клонился к вечеру, а ждущие все еще не видели парусов. Когда стемнело, вдоль берега засветились фонари, замерцали огни на всех городских балконах и крышах, где толпились люди, стремящиеся увидеть своего повелителя, хотя уже похолодало, и дул резкий ветер. В ту ночь на Занзибаре никто не спал, когда рассвело, люди, молчаливые и замерзшие, все еще ждали, не сводя глаз с моря; небо, наконец, посветлело, и солнце, выйдя из-за колышущегося горизонта, заблистало золотом на парусах…
При воспоминании о том утре в ушах Салме вновь зазвучал радостный крик, вырвавшийся из множества глоток и перешедший в протяжный, безутешный, горестный вопль, когда флот приблизился, и стало видно, что на каждой дау свисает траурный флаг.
Не дано было Саиду увидеть вновь свой зеленый, пряна пахнущий остров. В тот час, когда рыбаки у Сейшел завидели его корабли, султан Саид, имам Омана и султан Занзибара скончался. Тело его омыли и завернули в саван, а после того, как над ним прочли молитвы, Баргаш уложил покойника в гроб из досок, взятых на борт в Маскате, и поспешил покинуть корабль до появления Маджида. Гроб он взял с собой и ночью тайно зарыл неподалеку от могилы своего брата Халида, умершего правителя.
Баргаш, думала Салме, всегда хотел стать султаном Занзибара и, узнав о смерти Халида, очевидно, счел ее Перстом Судьбы, так как не питал к доброму, слабому Маджиду ничего, кроме презрения, и не видел в нем серьезного препятствия на пути к заветной цели. Но Маджид обладал преимуществом старшинства, поэтому вожди, старейшины и британцы поддержали его притязания. Теперь вместо отца правил он, а Баргашу приходилось довольствоваться положением законного наследника. Но когда Баргаш бывал доволен не самым лучшим?
Салме вздохнула и подперла ладонью маленький подбородок. Мысли ее с беспокойством и обожанием обратились к любимой единокровной сестре. Она, сколько помнила себя, всегда любила красавицу Чоле, восхищалась ею и глядела на нее снизу вверх. В черные дни, когда оплакивали отца, сестра утешала ее, потом когда умерла от холеры мать, ре снова утешала Чоле, а Салмс стало одиноко, сиротливо среди сочувствующих сарарк и шумной, кишащей детворы.
Чоле взяла ее в свой маленький дворец Бейт-эль-Тани, лелеяла, баловала, превращая детское восхищение старшей сестрой в поклонение непогрешимой богине. Однако в последнее время Салме донимали приступы тревоги и сомнения, любовь ее не уменьшалась, но невольно закрадывалась мысль, не берут ли у Чоле эмоции верх над чувством справедливости, и куда заведут их все эти интриги и заговоры.
Началом послужила ссора: пустяковое несогласие между новым султаном и его своенравной единокровной сестрой. Произошло это из-за покоев в Бейт-эль-Тани, предмета вожделения Чоле, отданных Маджцдом вдове старшего брата, да изумрудного ожерелья, которое по милости нового султана досталось Меже. Чоле утверждала, что отец обещал его ей и хотел упомянуть об этом в завещании. Меже отдать ожерелье отказалась, а когда Мад-жид предложил Чоле вместо него нитку замечательных жемчужин, то швырнула жемчуг ему в лицо, ушла с гордым видом из Мотони и поклялась больше не возвращаться.
При отце подобная ссора прекратилась бы в течение нескольких часов. Но в атмосфере, создавшейся после смерти Саида, она разгоралась все сильнее, и в конце концов обида Чоле превратилась в безудержную, не знающую меры ненависть. Сжигаемая этой ненавистью, она стала искать оружие против некогда любимого брата. Нашла его в лице законного наследника – удалого, развязного красавца Баргаша, тот всегда презирал Маджида и уже дважды безуспешно пытался отнять у него трон.
Салме любила Маджида, как и Чоле, пока между ними не встали Баргаш и глупая сcopa. Но теперь, когда Чоле его возненавидела, друзьям и сторонникам приходилось разделять ее ненависть. Чоле заставила Салме выбирать – она или Маджид: полумеры были недопустимы. Салме колебалась, плакала, пыталась избежать выбора, но Чоле оставалась непреклонной и в конце концов добилась своего. Некогда счастливая, дружная семья Саида раскололась на враждующие лагеря, с интригами, заговорами.
Вражда между ними доходила до смешного: если у кого-то в одном лагере появлялся новый драгоценный камень, у кого-нибудь в другом должен был появиться не худший, а то и лучший; если проходил слух, что один из сторонников Маджида хочет купить коня, дом или участок земли, кто-то из сторонников Баргаша старался опередить его или предложить более высокую цену. Даже ночи стали уже неспокойными, так как по ночам устраивались тайные собрания, интриганы и шпионы скреблись в двери и окна, шепотом выкладывали обрывки подслушанных или вымышленных разговоров и алчно тянули руки. Золотые монеты лились в них без счета.
Деньги уходили, словно вода в пересохшую землю, а с ними и благоразумие. Всех охватила национальная страсть к интригам, словно болезнь, воспаляющая мозг и затмевающая разум, которую невозможно ни излечить, ни облегчить.
Маленький дворец Чоле, Бейт-эль-Тани, отделялся лишь узким переулком от дома, где жил Баргаш вместе со своей сестрой Меже и маленьким братом Абд-иль-Азизом. Почти так же близко стоял другой, принадлежащий племянницам Салме, Шембуа и Фаршу, примкнувшим вслед за ней к лагерю Баргаша. Близость домов способствовала интригам, но и вызывала осложнения так как Меже завидовала вниманию, которое брат уделял Чоле и, считая себя обиженной, жаловалась на нее всем и каждому, предупреждала брата и его сообщников, что они несутся к пропасти, и что из этого опасного заговора ничего хорошего не выйдет. В результате возникали новые ссоры. Однако несмотря на зависть и сомнения, Меже очень любила брата и была на его стороне. Она мешала ему, пророчила несчастья, но Оставалась верной и преданной Даже когда Баргаш и Чоле ужаснули ее, обратившись за помощью к чужеземкам.
Маленькая белая община на Занзибаре теоретически не вмешивалась в семейные распри относительно престолонаследия. Но члены ее обладали кое-каким влиянием, и Чоле с Баргашом в поисках поддержки решили привлечь на свою сторону белых доброжелателей. До сих пор Баргаш постоянно делал вид, что презирает чужеземцев, Чоле отказывалась видеться с чужеземками. Но теперь жену месье Тиссо, сестру мистера Хьюберта Плэтта и дочь мистера Натаниэла Холлиса стали принимать в Бейт-эль-Тани.
Чоле терпеть не могла их визитов и смирялась с ними ради ожидаемой победы. «Белых женщин» – хотя ее собственная кожа была не темнее – она считала невежественными и невоспитанными. Правда, две старшие сносно владели суахили и более, чем немного, арабским» но все же недостаточное знание этих языков приводило к грубым бестактностям, их приходилось оправдывать невежеством, но от этого они не становились менее противными. А мисс Крессида Холлис, американка, так плохо владела арабским, что не могла поддерживать разговор, и ее неуклюжие попытки раздражали Чоле. Но хоть для нее визиты этих чужеземок были тяжким испытанием, младшая единокровная сестра находила их очаровательными и волнующими.
Салме смотрела, слушала, робко улыбалась, завидуя свободе этих женщин, и Чоле не знала – никто не знал и не подозревал – что это не единственные белые, кому она улыбается, глядя и слушая, и кто, глядя и слушая, улыбается ей! Рядом с Бейт-эль-Тани стоял, отделенный другим переулком, принадлежащий европейцам дом, и Салме из-за своей оконной решетки часто созерцала званые обеды, которые давал герр Руете, красивый, молодой немец, служащий гамбургской торговой фирмы. Его открытые окна смотрели прямо в ее, не всегда тщательно занавешенные, и разделяла их лишь узкая полоска занзибарского переулка.
Она знала, что он иной раз мельком видел ее. Когда в Бейт-эль-Тани зажигают лампы, наблюдателю из окна напротив нетрудно углядеть сквозь резные деревянные решетки то, что они должны скрывать – женщины вполне могут забыть об этом, потому что сами ничего не видят в темноте за окном, а шторы в жаркие вечера зачастую остаются незадернутыми. Но лишь когда он стал подходить к своему окну и с улыбкой кланяться ей, глядящей на него в дневное время сквозь решетку, Салме поняла, что молодой Вильгельм Руете наблюдает за ней с не меньшим интересом, чем она за ним.
Однажды он даже высунулся из окна и бросил ей розу через разделяющее их узкое ущелье переулка. На таком близком расстоянии сумел попасть в отверстие деревянной решетки, а цветок упал к ее ногам. Набравшись смелости, Салме подобрала его и обнаружила привязанный к стебельку клочок бумаги, на котором герр Руете написал по-арабски куплет из песни, которую она часто пела под аккомпанемент мандолины, а он, должно быть, слушал:
Навещайте любимых, хоть они далеко,
Хотя путь к ним лежит через мрак и туман,
Потому что не может быть преград для друзей,
Стремящихся страстно к любимым друзьям.
Салме поставила цветок в воду, а когда он наконец увял, собрала лепестки и, завернутыми в шелковый платок, тайком высушила на дне шкатулки с драгоценностями. Они стали талисманом против страха и гнева. Временами, когда горячка интриг и ненависти, отравляющих воздух дворца Чоле становилась невыносимой, Салме доставала их из тайника и, приложив к щекам, думала о любви, покое и счастье; об откровенно восхищенных глазах и улыбающемся лице молодого человека. Добром лице. Отец ее был добрым. И Чоле тоже, и Маджид… Нет, нельзя вспоминать о достоинствах Маджида, это будет вероломно. Но отношению к Чоле, не признающей добродетелей у некогда любимого брата.
Любовь и доброта… Когда-то было так много того и другого, куда же они подевались? Из всех братьев и сестер, с кем она когда-то играла ивеселилась, друзьями ее остались те немногие, что предпочли принять сторону Баргаша. «Буду ли я когда-нибудь счастлива вновь – думала Салме. – Будет ли счастлив хоть кто-то из родных, пока Маджид занимает трон, которого жаждет Баргаш, а Чоле лелеет злобу на одного и поддерживает другого.»
Баргаш ни за что не отступит, не успокоится, пока не добьется желаемого – он всегда был таким, и Салме понимала, что перемениться он не может, как и Маджид, как и красивая, ожесточенная, непрощающая Чоле. Однако надо признать, до недавнего времени она, Салме, находила нервозную, отдающую лицедейством атмосферу заговора и контрзаговора возбуждающей и увлекательной. Баргаш с Чоле вырвали ее из тусклой, сумрачной задумчивости, открыли ей яркий, многоцветный мир заговорщицкой романтики; секреты, интриги, казавшиеся чуть ли не игрой, и захватывающее, возвышающее чувство причастности к большому делу представлялись пьянящими, головокружительными, как дым гашиша. Во всем этом ей виделось замечательное приключение, пока… пока в дом не вошли чужеземки.
Салме отвела руку от подбородка и обратилась к сестре; мягкий голос ее прозвучал в тихой комнате неожиданно громко.
– Чоле, зачем эти женщины приходят сюда? Почему ты их приглашаешь, хоть они тебе не по душе?
Чоле повернула красивую голову. Видимо, она тоже думала о чужеземках, потому что отложила вышивание и незамедлительно ответила:
– Потому что мы нуждаемся в помощи, а они могут ее оказать.
– Как? Чем они могут нам помочь?
– Гораздо большим, чем ты можешь себе представить. Во-первых, они болтают; и болтовня эта часто многое говорит о настроениях их мужей, а для нас это очень важно. К тому же, они слышат многое такое, чего не слышим мы, передают новости нашим друзьям такими способами, которые для нас были бы слишком опасны. А поскольку они поддерживают Баргаша, то…
Она заколебалась, потом покачала головой и снова взялась за вышивание.
– То что? – настойчиво спросила Салме. – Что еще они могут сделать для нас?
– Больше ничего, – лаконично ответила Чоле и заговорила с одной из служанок, но тут из дальнего конца комнаты, где Абд-иль-Азиз, лежа животом на подушке, грыз засахаренный миндаль и возился с обезьянкой, раздался озорной детский голос:.
– Могут, могут; если Чоле не скажет что, скажу я.
– Азиз!
Чоле совершенно забыла о братишке, голос ее прозвучал властно и вместе с тем умоляюще, глаза сверкнули запретом, понятным даже ребенку. Мальчик глянул на остальных пятерых женщин в комнате, пожал плечами и опять повернулся к обезьянке.
– Ладно. Только не пойму, чего ты так волнуешься, в доме брата все знают. Постоянно ведут об этом разговоры. Даже Эфемби говорит, что он пока не знает только цены; однако Карим думает…
– Азиз!
– Не волнуйся, Чоле! Я не собирался ничего говорить. А кто эта новая белая женщина, что приезжала утром с твоими подругами-чужеземками? Мы видели ее из окна, когда их экипаж подъехал к твоим дверям. Такая высокая, Карим даже подумал, что ты принимаешь – переодетого мужчину, но я сказал – сестра не посмеет при свете дня, на глазах у ребенка. И ходит она по-мужски. Вот так…
Мальчик подскочил и пошел по комнате широким шагом, вздернув подбородок и расправив плечи, потом нога его запуталась в бахроме ковра, он упал и со смехом перевернулся.
– В точности! Только не падала. А жаль. Вот бы я посмеялся!
– Тогда б она сочла тебя невоспитанным, – пожурила его Салме. – И жестоким. Нельзя смеяться над чужим несчастьем.
– Почему, если это смешно? Вот та толстая рабыня Меже на прошлой неделе скатилась по лестнице с кувшином кипятка. Слышала бы ты ее! Вся облилась кипятком, каталась, верещала, как ошпаренная кошка, и все животики надрывали со смеху. Будь ты там, тоже б смеялась.
– Нет, – содрогнувшись, ответила Салме. – Я не люблю смотреть на людей, когда им больно. Только такие, как ты…
Она умолкла и закусила губу, чтобы не сказать: «…оманские арабы, потомки имамов и сеидов Маската и Омана любят насилие, жестокость и коварство». Но ведь и она сама той же крови. Только у нее кротость матери-черкешенки возобладала над отцовой горячностью, ей не доставляют удовольствия чужие страдания.
Переведя взгляд с братишки на красивую, безжалостную сестру, Салме ощутила холодную дрожь дурного предчувствия. Уж не замышляется ли убийство Маджида? Нет, не может быть! Чоле обещала… Баргаш клялся…
Но ведь был же ужасный случай, когда Маджид, совершая вечернюю морскую прогулку, проплывал в лодке мимо дома Баргаша, и из окон, обращенных к морю, по ней открыл огонь сам Баргаш! Пули, вздымая брызги, ушли в тихую воду бухты, а законный наследник, обвиненный в попытке убить султана, клялся, что не знал, кто находится в лодке, ведь уже смеркалось, и стрелял он шутки ради, с целью попугать неизвестных людей. Поскольку никто не пострадал, этому поверили – все, кроме Маджида, он наотрез отказывался принимать Баргаша. Лишь под нажимом французского консула, поддержанного командующим французскими войсками на восточном побережье Африки, который прибыл с визитом на тридцатипушечном корабле, он несколько смягчился.
Салме до сих пор не приходило в голову усомниться в словах Баргаша или увидеть в том инциденте нечто большее, чем глупая шутка. Она считала, что ее удалой брат не промахнулся бы и полдюжины раз по такой легкой цели, если бы имел дурные намерения. Это убеждало ее больше, чем его оправдания. Но теперь она засомневалась, и ей стало страшно. Страх заставил ее подняться, подойти к окну, встать коленями на каменный подоконник и поглядеть вниз сквозь резную деревянную решетку.
Бейт-эль-Тани, как и дом Баргаша, стоял фасадом к морю; до голубой, бьющейся о берег воды можно было добросить камнем. Салме увидела проплывающую маленькую лодку. Словно бы созданную ее встревоженными мыслями, потому что Маджид плыл тогда точно в такой же. Торговец-индус сидел, развалясь, на корме, рабы сгибались над веслами, и Салме ясно видела их лица.







