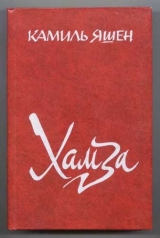
Текст книги "Хамза"
Автор книги: Камиль Яшен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 43 страниц)
Хамза вернулся в Самарканд.
Дом, в котором они жили с Зульфизар до отъезда, стоял с закрытыми ставнями. Но розы перед окнами цвели всё так же ярко и молодо.
Зульфизар, войдя во двор, наклонилась и сорвала большой красный бутон. Медленно поднесла его к лицу. Волна аромата коснулась ноздрей молодой женщины – они вздрогнули. Упали вниз ресницы, томно сузились глаза.
Хамза наблюдал за женой. И движения её ресниц вдруг передали ему на расстоянии пряный запах нежных лепестков. Он "услышал" розу.
И мгновенно возникла мелодия – ещё далёкая, слабая, еле различимая, но уже единственная, своя...
Он быстро вошёл в дом, сел к пианино и начал играть. Мелодия ускользала, таяла... он ловил её, любовался ею... она снова исчезала... он находил её и терял, сливался с ней, "видел" её сквозь слабое серебристое сияние, она кружилась перед ним и вокруг него мерцающими красными соцветиями.
Зульфизар открыла ставни. Свет хлынул в окна. Хамза, улыбнувшись свету, продолжал играть. Пальцы как бы сами касались клавиш – без его участия. Он только слушал мелодию, одобряя или не одобряя её.
Он просидел около пианино до самой темноты. И утром, едва рассвело, снова начал играть. Он стосковался по инструменту и опять до вечера не отходил от пианино. Сделал короткий перерыв на обед и снова вернулся. И всё играл, играл, играл...
Так продолжалось несколько дней. Один напев сменял другой.
Мелодии роились в голове и в сердце. Иногда он снимал руки с клавиатуры, а музыка всё звучала и звучала в нём. Слышались торжественные звуки сверкающих на солнце больших золотых труб. Серебристо вскрикивали фанфары. Потом вступали высокие голоса скрипок. Они звали за собой куда-то за облака и выше, выше...
Огромный хор поёт что-то протяжное, возвышенное, оперное.
Мелькают огни, лица, поднятые вверх руки. Бурлит человеческое море перед полицейским участком в кишлаке Катта Авган, где началось восстание мардикеров... Шеренга солдат. Залп! Удары литавр, глухой рокот барабана... Падают убитые и раненые.
Народ в гневе бросается на царских опричников, оркестр гремит во всю свою мощь – водопад, ураган, тайфун звуков, фанфары зовут на мятеж против белого царя... Вихрь скрипок перебрасывает пламя народного возмущения из уезда в уезд. Как говорит пословица: народ подует – поднимется буря!.. Бай-контрабас оказывает упорное сопротивление, толстые золотые трубы – байские прихвостни – поддерживают его... А по улицам кишлаков уже маршируют под бравые переливы флейты всё новые и новые войска... Залп! Ещё залп! Удар литавр – смертельный холод металла, рыдание барабана. Восстание подавлено – траурный плач скрипок, крики фанфар, стоны фагота...
...В дом приходили люди. Из Наркомпроса. Говорили о восстановлении театра. Хамза, сказавшийся больным, слушал невнимательно – музыка не отпускала его. Ему не хотелось возвращаться в театр – весь мир перед ним был перечеркнут пятью нотными линейками. Мир был заполнен только нотами. Не было никаких мыслей, были только мелодии. Лица людей, как круглые знаки нот, перепрыгивали с линейки на линейку. Лица "звучали" – – каждое своей нотой.
Несколько раз приезжал Рустам Пулатов. Говорили подолгу.
Вспоминали Коканд – Умара, Буранбая... Пулатов рассказал, что Алчинбек Назири выступил на партийном собрании с очень самокритичной речью, осудив методы своей работы, признав, что допустил перегиб в истории с проверкой идейного содержания репертуара театра. Но Хамзе было неинтересно даже это.
Он чувствовал себя по-настоящему хорошо только тогда, когда оставался вдвоём с Зульфизар и погружался в своё новое состояние – ожидание музыки. Зульфизар пела в саду, Хамза сидел около рояля, возникало начало мелодии, Хамза опускал руки на клавиши, повторял начало... Мелодия росла, крепла, наполнялась гармонией, вызывала в памяти картины прожитой жизни, сладко опускалась на сердце, светлой и мудрой печалью входила в душу, орошая её безбрежным половодьем чувств, безотчётной и радостной полнотой творчества.
Мелодия овладевала миром. И Хамза был счастлив.
Но иногда всё исчезало – музыка гасла. Слух обрывался, пропадал, отключался. Тишина повисала над землёй, глухая тишина. Поля превращались в пустыню, живые зелёные краски сменялись жёлтыми, песочными. Нигде не было никаких цветов.
Нигде не было Зульфизар.
В такие чёрные секунды Хамзу почему-то всегда уносило в юность... Хотелось разобраться в том, что происходило тогда, на заре его жизни, что стало причиной многих событий, вовлекавших его в водоворот бытия... иногда и против его желания и воли...
Был ли он счастлив в те годы?.. Все его мечты, все надежды молодости вдребезги были разбиты смертью Зубейды...
...Взрыв аккордов! Раскаты грома! Фанфары ударили серебристым прибоем в далёкий берег памяти. Смычки скрипок как птицы взлетели над оркестром, распахнув занавес времени. Зычно зарокотав, откликнулся друг-барабан. Широкий, протяжный народный запев возник издалека – хор пел напряжённо и страстно, но сдержанно, тихо... Восстание мардикеров подавлено, утоплено в крови. (Скорбные голоса скрипок.) Белый царь победил, муллы и баи во всех мечетях Коканда бесплатно угощают народ всевозможными яствами по случаю... победы над народом.
Пламя гнева, рванувшееся из всех наболевших сердец сразу, погашено, страсти улеглись, зачинщики вздёрнуты на виселицы. (Траурные мелодии одна за другой льются из всех духовых инструментов, и кажется, что это льются слёзы народа, что это плачет одна большая, доверчивая и добрая душа народа.) Сотни людей сидят в тюрьмах, сосланы на каторгу в Сибирь. По всему Туркестану идут публичные экзекуции – взрослых мужчин на глазах их детей секут шомполами и розгами только за то, что они не захотели как скот идти на убой в чужие холодные земли.
Везде оскорбляют и бьют бедняков. По приказу генерала Куропаткина туземному населению сельских местностей запрещено ездить в поездах. И тысячи дехкан, неся на себе свою поклажу, день и ночь бредут вдоль железнодорожного полотна.
Как простодушны были они, наивно слушая лживые слова царских чиновников о том, что стоит им только прекратить восстание – и жизнь их сразу станет похожа на рай... Вот он, рай!
Людям отказано в праве быть людьми. Вереницы сгорбленных фигур в полосатых халатах ковыляют, плетутся, ползут через пустыни и степи, не смея даже приблизиться к станциям, на которых садится в поезда только чистая публика... Какое сердце может остаться равнодушным к этой картине? Какая музыка должна выразить все эти унижения и страдания целого народа?
Восстание мардикеров подавлено, утоплено в крови. (Рыдающие голоса скрипок.) Вокзал в Коканде. Отправляют первую партию мобилизованных. В четырёх районах города отобрали ровно тысячу человек – самых сильных молодых мужчин. Под конвоем солдат пригнали на товарную станцию, к теплушкам. (Медленный, траурный, почти похоронный марш...) Огромная толпа провожает мардикеров – отцы, матери, жёны, сёстры.
В воздухе стоит плач, стоны, крики... Сотни женщин обливаются слезами. Старики с трясущимися головами прижимают к груди сыновей и внуков, может быть, в последний раз.
Зачем, зачем, зачем увозят их на север, в холода и стужу, от привычного южного солнца, от хлопковых полей и арыков, от родных домов и улиц? Никто из них никогда не был в далёкой России, никто не умеет жить ни по каким другим законам и правилам, кроме своих, мусульманских. Где они будут молиться? Что кушать, привыкшие только к своей пище? Они не знают русского языка, русских обычаев, они будут страдать и мучиться среди чужих людей, и многие наверняка уже никогда не вернутся обратно.
Какой мелодией можно передать этот разлив народного горя?
Какой гармонией соединить страдания многих тысяч людей в единый стон души всего народа?.. И, может быть, здесь уже нужна не Мелодия, а могучее симфоническое звучание огромного оркестра – десятков скрипок, альтов, виолончелей, арф, валторн, кларнетов, гобоев?.. Под силу ли ему вместить в себя весь этот океан звуков?.. Нет, здесь нужен Бетховен или Чайковский, Моцарт или Мусоргский, чтобы распахнуть настежь сердца людей, чтобы музыка извергалась как вулкан, чтобы взорвать тишину памяти, чтобы сопереживание двинулось из сегодняшнего дня в то далёкое время и наполнилось там реальностью тех чувств и тех ощущений.
Да, он не Моцарт и не Бетховен, и не Мусоргский, не Чайковский. Он подошёл впервые к фортепьяно в двадцать пять лет.
Но он Хамза.
Он всегда замахивался на невозможное. Он бросал вызов недоступному. Он никогда не боялся недостижимого.
Он попробует.
Человек должен идти дальше того, что он может осилить.
Иначе жить будет неинтересно. Иначе жизнь остановится.
В тот день мардикеров так и не посадили в теплушки. На ночь их заперли в длинную одноэтажную казарму около товарной станции. Родственники, пришедшие проводить мобилизованных, собрались перед окнами казармы. Никто не уходил. Каждому ещё раз хотелось увидеть дорогое лицо сына, мужа, брата. То и дело из толпы провожающих слышались голоса:
– Кадырджан, сынок!..
– Усманали, дитя моё, выгляни в окно!..
– Эй, Акбарали! Где ты там, родненький ты наш?.. Покажись хоть ещё разок!..
В полночь небо очистилось от туч. Высыпали все звезды.
Глядя из бездонной глубины вселенной на землю, они мигали и переливались влажными искрами, словно кто-то огромный и многоокий, охваченный всеобщей мировой скорбью за людей, пытался смахнуть слезу с глаз.
Ослепительно белая, молочная луна освещала своим пронзительным светом неподвижные лица мардикеров, припавшие к решётчатым окнам казармы. Луна висела в небе как безмолвный, безгласный, безъязыкий колокол.
И начальник конвоя – пожилой, нестроевой русский офицер в пенсне на шнурке – не выдержал.
Нарушая все уставы караульной службы, он приказал вывести мобилизованных из казармы. Солдаты были построены длинной шеренгой. По одну сторону разрешено было стоять родственникам, а по другую – уезжавшим мардикерам.
В эту минуту около казармы появился Хамза.
Днём он поругался с Алчинбеком, который в то время был редактором газеты "Голос Ферганы" (имелся в виду не город Фергана, а вся Ферганская долина). Хамза принёс в редакцию статью, в которой клеймил позором всех тех, кто откупился деньгами от мардикерства. В конце статьи он написал, что готов идти в мардикеры сам, и призывал последовать своему примеру всех молодых узбеков-интеллигентов призывного возраста, освобождённых от мобилизации царским указом.
Алчинбек печатать статью отказался. Хамза назвал его трусом.
– Я не могу советовать людям со страниц нашей газеты нарушать царский указ! – вспылил Алчинбек. – Сыновья состоятельных людей и должностные лица освобождаются от мардикерства. Вы учитель, вы просвещённый человек, царь проявил к вам снисхождение и милость. И поэтому вас тоже никто не возьмёт в мардикеры. Зачем вам это нужно?
– Я хочу быть вместе с народом! – гремел Хамза.
– Оставайтесь с народом здесь, в Коканде! – огрызался Алчинбек.
– Мардикеры едут на верную гибель!
– Так вы тоже хотите погибнуть с ними?
– Я хочу помочь им, я хочу защитить их! Я знаю русский язык, я проехал через всю Россию, возвращаясь из "хаджа"! Если я буду с ними, я смогу уберечь их от многих опасностей!
Они ругались целый день. Хамза сел переделывать статью, смягчая её тон. Поздним вечером второй вариант был готов. Но Алчинбек не принял и его.
Хамза в сердцах швырнул рукопись на стол редактора.
– И после этого вы смеете называть себя сыном своей нации?! – Сжимая кулаки, Хамза с ненавистью смотрел на Алчинбека. – Я больше не хочу вас знать!.. А все ваши слова о любви к народу были ложью! Вы любите только одно – подбирать жирные куски, которые падают с хозяйского стола!
И, выходя из редакции, так хлопнул дверью, что потолок над головой главного редактора газеты чуть было не обвалился.
Возвращаясь домой, Хамза совершенно случайно услышал на улице, что отправление мардикеров отложено до утра. И он тут же повернул к вокзалу. Ему захотелось ещё раз попрощаться с Умаром-палваном, который был мобилизован в Коканде одним из первых. Во время восстания отец Умара, Пулат-ата, был убит полицейскими в кишлаке Гандижирован.
...Хамза шёл вдоль шеренги солдат по той стороне, где стояли родственники. Он слышал разговоры прощавшихся, и сердце его сжималось от боли. Душа не могла больше выносить этого чудовищного напряжения беззащитных, безропотных человеческих чувств. Старики отцы, исходя из своего жизненного опыта, давали сыновьям последние наставления (что можно делать на чужбине, а чего нельзя, с какими людьми стоит знакомиться, а каких следует остерегаться). И у многих стариков эти наставления звучали как завещания: если вернёшься живым из мардикерства, а меня уже не будет на свете, веди домашнее хозяйство экономно, разумно, почитай мать, если застанешь её; воспитывай младших братьев, выдай замуж сестёр...
Умара Хамза нашёл в самом конце шеренги. Напротив него за солдатами стояли мать Шафоат-айи и жена Зебихон. Трое маленьких сыновей Умара держались за подолы платьев бабушки и матери.
А рядом с Умаром нетерпеливо переминался с ноги на ногу молодой широкоплечий парень – точная копия Умара. Это был его младший брат Рустамджан – будущий Рустам Пулатов. (Вот почему так отчётливо вспомнилось восстание мардикеров после возвращения в Самарканд из Коканда.) Своим резко очерченным профилем Рустамджан был похож на изображение древнего воина из рукописных исторических книг о походах Тамерлана, Темирленга – железного Тимура.
Вместе с братьями Пулатовыми уходил в мардикеры и их сосед по улице Хатамджан. Его провожали отец Кудрат-ата и сестра Тозагуль. На неё-то и бросал свои красноречивые пылкие взгляды Рустамджан.
Поговаривали, что к шестнадцатилетней Тозагуль уже приглядывается Мастура-яллачи – Мастура-сводница, постоянно обновлявшая свой "гарем на колёсах". Даже присылала доверенных людей к отцу красотки. Но бедняк Кудрат-ата выставил нечестивцев за ворота, объявив им, что нет в этом мире таких денег, за которые он продал бы свою дочь. А крепыш Хатамджан, встретив непрошеных гостей около своего дома и узнав о цели их прихода, накостылял обоим по шее, защищая честь сестры, так крепко, что "доверенные люди", подобрав халаты, мчались через всю махаллю, как призовые жеребцы на скачках.
Да, был такой эпизод. Но Рустамджану было наплевать на него. Ему давно уже надоела старая жизнь, и в том числе и все эти затянувшиеся проводы, причитания женщин, молитвы стариков. Ему хотелось поскорее уехать из Коканда, где погиб отец.
Он, может быть, вообще никогда не стал бы возвращаться обратно, если бы не Тозагуль... А мардикерства Рустамджан не боялся, – наоборот, хотелось посмотреть новые места и как живут там люди. Благодаря огромной физической силе – фамильной черте братьев Пулатовых – Рустамджан надеялся выбраться из мардикерства невредимым. Тем более что его обещает ждать Тозагуль.
Улучив минуту, младший брат Умара сделал девушке знак отойти в сторону от родителей.
– Тозагуль!..
– Рустамджан!..
– Вы всегда в моей душе, Тозагуль, всегда рядом со мной, в моих мечтах...
– И я всё время тоже думаю о вас, Рустамджан...
Они тянули друг к другу руки сквозь строй солдат, и Хамза, стоявший рядом с Умаром, увидев это, подумал: вот он, образ моей родины, – два юных существа, богатырь и красавица, два юных сердца рвутся друг к другу, но их разделяет солдатский штык и царский указ, по которому этого молодого парня с лицом римского бога увезут сейчас неизвестно куда, а красавица останется лить слезы и мучиться в разлуке...
– Тозагуль, дорогая, – шептал Рустамджан, – обещайте ждать меня...
– Обещаю, обещаю...
– Не верьте никаким слухам и разговорам, никаким чужим письмам...
– Не буду верить, не буду...
– Я вернусь, я обязательно вернусь! Ваша любовь и верность сохранят меня...
– Я буду молиться за вас, Рустамджан, дорогой...
– Я не забуду вас ни на одну секунду, пока мы будем в разлуке...
– И я не забуду...
– Вы моё счастье, Тозагуль...
– Берегите себя, Рустамджан, вы должны вернуться здоровым...
– Я вернусь таким же, каким ухожу. Мы сыграем свадьбу, у нас будут дети...
– Я верю, верю...
– Всё будет хорошо, очень хорошо.
– Я верю, верю!..
– Я украшу цветами порог вашего дома в первый день нашей встречи...
– Верю, верю...
– Навещайте иногда мою мать, она стала совсем больная после гибели отца...
– Обязательно, не беспокойтесь, я буду приходить к Шафоат-айи каждый день...
– Спасибо, Тозагуль, прощайте, до встречи...
– До встречи, Рустамджан...
У Хамзы на глаза навернулись слёзы. Ему вспомнилась Зубейда. Сколько раз уже мир был свидетелем вот таких расставаний, клятв, обещаний, надежд... И сколько их осталось неисполненными, несовершившимися... Пусть хоть у этих получится.
Мать Умара-палвана гладила сына по голове, целовала его руку, прижималась щекой к широкой груди. Старушка совсем обессилела от слёз. Умар почти держал мать на руках, и она, припав лицом к его плечу, жадно вдыхала родные запахи сына, жившие в её сердце, наверное, всю её жизнь с того самого дня, когда она родила этого огромного широкоплечего мужчину, и до сегодняшней ночи, когда она, как ей казалось, видела своего первенца в последний раз.
А рядом с ними стоял отец Тозагуль и Хатамджана Кудрат-ата. Он говорил Умару, что тот может ни о чём не беспокоиться, он, Кудрат, присмотрит по-соседски и за его матерью, и за женой, и за ребятишками. Он не оставит пулатовских женщин без мужского глаза, он поможет им обработать посевы, а когда мардикеры, даст бог, вернутся домой, все они вместе – Умар, Хатамджан и он, Кудрат, – устроят молодым, Тозагуль и Рустамджану, большой и весёлый свадебный той.
Между тем уже рассветало. Начальник конвоя, маленький толстый офицер в пенсне на шнурке, приказал солдатам загонять мардикеров обратно в казарму. На железнодорожный путь медленно втягивался паровоз с вереницей красных теплушек. С тормозных площадок вагонов соскочили несколько усатых фельдфебелей – этапная команда. Около казармы разгружали подводы с обмундированием. Из окон казармы начали доноситься лающие команды фельдфебелей, крики, матерная ругань.
Из города в нескольких экипажах и фаэтонах прикатила группа начальствующих лиц во главе с полицмейстером Медынским и Садыкджаном-байваччой, который, как человек, оказавший большие услуги царствующему дому Романовых, и как член Государственной думы всех созывов, с первого же дня мобилизации был назначен председателем Мардикерского комитета.
За это назначение байвачча через Алчинбека передал Медынскому чек на десять тысяч рублей. И сам, конечно, внакладе не остался, Везде и повсюду публично называя себя верной собакой белого царя, цепным псом его императорского величества, Садыкджан сразу же взял за горло всех крупных баев Андижана, Намангана и Маргилана, требуя от них помимо официального выкупа огромные взятки за освобождение их сыновей от мардикерства. А своему главному врагу и конкуренту Миркамилбаю Муминбаеву байвачча пообещал выколоть второй глаз, если тот не переведёт на его личный счёт за троих сыновей сто тысяч рублей. И Миркамилбай, проклиная Садыкджана последними словами, перечислил ему требуемую сумму. Байвачча торжествовал – он чувствовал себя полным повелителем Ферганской долины, почти эмиром. И, как говорится, не попортив руки, ещё и неплохо заработал на царском указе о мобилизации, положив в карман без малого полмиллиона рублей.
Мардикеров сотнями выводили из казармы и строили в походную колонну. Толпа родственников ахнула – узбекских парней было не узнать. Все они, одетые в чёрные кожаные куртки, такие же чёрные штаны и чёрные кожаные фуражки с козырьками, были похожи на могильщиков, на похоронную команду.
Теперь-то уж всем было абсолютно ясно, что их детей, братьев и мужей увозят на верную смерть. Плач, рыдания, стоны раздались с новой силой.
Но полицмейстер, полковник Медынский, встав во весь рост в открытом ландо и звеня густым завесом орденов на парадном мундире, зычно закричал, что первая тысяча отборных кокандских мардикеров должна оправдать доверие царя и смыть позорное пятно восстания со славного знамени Ферганского вилайета.
Потом кричал Садыкджан-байвачча. Он уверял мардикеров в том, что они могут быть спокойны за свои семьи: о каждой из них будет заботиться лично он сам. (Хамза, стоявший в толпе провожающих, грустно усмехнулся.) Садыкджан призывал мобилизованных честно выполнить свой долг перед белым царём и аллахом. Он поднял над головой коран в золотом переплёте, поцеловал его и приложил ко лбу. Выйдя из экипажа, байвачча приблизился к уезжающим и, увидев знакомое лицо Умара Пулатова, протянул ему священную книгу.
И Умар, растерявшись, поцеловал коран на верность государю-императору Николаю II. (Хамза, задохнувшись от неожиданности, зажмурил глаза.)
Ударил колокол. В оцеплении солдат мардикеров повели к вагонам. Кожаные куртки скрипели прощально и страшно.
И люди в них, родные и близкие ещё совсем недавно, были уже чужими. Чёрная колонна исчезла за воротами товарной станции.
И створки ворот захлопнулись, как крышка гроба.
Дурным голосом завыла какая-то женщина. Колокол ударил второй раз. Толпа забурлила, заголосила, заметалась и... прорвала оцепление.
– Ахмаджан, сынок!..
– Тунчибай, милый!..
– Кадырджан, где ты, где ты?!..
– Возвращайтесь!..
– Пусть аллах сохранит тебя!.. Помни о детях!..
И в третий раз ударил колокол. Протяжно, испуганно, как в последний раз на земле, разрывая душу на части, загудел паровоз. У-у-а-а-а!.. Дёрнулись с железным лязгом и скрежетом вагоны.
Хамза, потрясённый картиной проводов, не выдержав, бросился к поезду. Солдат с винтовкой в руках загородил ему дорогу.
Хамза оттолкнул его.
...Вот он, вот он, Умар, высунулся из дверей теплушки.
– Хамза, прощай! Не поминай лихом!
– Умар, друг, до встречи, до встречи!
Рядом бежали Шафоат-айи, жена Умара Зебихон, дети...
Шафоат уронила паранджу, седые волосы её растрепались, она рвала на себе волосы.
– Умар, сыночек, сыночек!.. Рустамджан! Не увижу вас больше никогда-а-а!..
Хамза, оглянувшись, в ужасе остановился. Сотни женщин бежали по рельсам за вагонами.
Зебихон, подхватив на руки младшего сына, бежала впереди всех.
– Умар, муж мой!.. Трое у нас!.. Что буду делать, если вы не вернётесь?!
Поезд уходил, уходил... Из теплушек кричали, махали руками.
Последний вагон, вздрогнув на стрелке, покинул территорию станции.
Зебихон, задохнувшись, остановилась, опустила на землю мальчика. К ней подбежала Шафоат.
Последний вагон делался всё меньше и меньше, всё меньше и меньше...
Рванув на груди платье, Зебихон закричала и, вскинув вверх руки, упала на рельсы.
Шафоат, пошатнувшись, опустилась на землю рядом с женой сына.
Одна за другой опускались на тёплые ещё рельсы бежавшие за вагонами женщины. Они гладили их руками, целовали пропитанные мазутом шпалы, перебирали пальцами насыпанную между шпалами мелкую гальку и щебень.
Зебихон лежала на рельсах лицом вниз. Около неё лежала Шафоат.
Вся территория товарной станции, все подъездные пути были усеяны лежавшими на рельсах женскими фигурами.
Бессильно уронив руки и опустив голову, сидел перед пианино Хамза. Далёкое, давнее воспоминание опустошило его сердце, выскребло душу.
Разве может музыка звуков, рождаемая человеком, сравниться с трагической музыкой жизни, которую создаёт само время?
Никогда не увидел больше свою Тозагуль Рустамджан. Она умерла от тифа летом девятнадцатого года, а он, закрученный вихрем войны и революции, вернулся на родину только после окончания гражданской войны, пройдя почти по всем её фронтам.
Не дождался и Кудрат-ата Хатамджана, погибшего в мардикерах.
Умар-палван пришёл из мардикерства накануне свержения царя, но через год сложил голову при подавлении Кокандского мухтариата, оставив Зебихон с тремя сыновьями, заботу о которых взял на себя Рустам Пулатов.
И Шафоат, проводив мардикеров, не увидела больше своего младшего – она не пережила гибели Умара.
Жизнь чертит свои острые нотные линейки через судьбы людей. Так стоит ли соперничать с жизнью? Даже если ты Хамза?
Доступны ли музыке звуков, создаваемой человеком, раскаты жизненных гроз, извергаемых временем?
Раздавленный воспоминаниями, сидел Хамза перед пианино, бессильно уронив руки, опустив голову.
В сердце его вошло сомнение. Надолго ли? Он этого ещё не знал.








