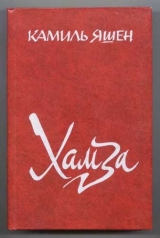
Текст книги "Хамза"
Автор книги: Камиль Яшен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц)
КНИГА ВТОРАЯ
Глава шестая. ВРАГИ И ДРУЗЬЯ
1В тумане.
Люди, деревья, дома, улицы, лица...
Всё размыто, размазано, несоединимо... Всё качается, всё колышется – водоросли между землёй и небом... Пятна, неопределённость... Всё белесо, молочно...
Кто-то плачет в тумане...
Смеётся.
Белая пелена, белая жизнь, белый мир – красные слезы...
Зелёный смех...
Белое небо упало на серую землю... Всё тонет в молочном тумане...
Очертания, контуры, облики...
Где-то зыбко мелькают огни... Кружатся, плавают, прыгают...
Хороводы огней... Вереницы оранжевых точек... Караваны костров...
Потухли.
Что-то кончилось, не начавшись...
Дым расползается в разные стороны. Мир затянут дымом. Без запаха...
Кого жгут? За что?
Всё туманно, расплывчато... Как называется время – зима? весна? осень?.. Где лето?
Смерть поднимается над горизонтом. Косматый багровый шар.
Зло взошло. Ослепительно, выпукло. Зло сияет над миром.
Висит фиолетовой радугой...
И мокрая грусть шелестит в листьях и ветках. Туманится печаль. И жёлтый солнечный плод, сорвавшись с горизонта, летит в глаза, в сердце, в душу...
Скорбь. Пустота. Тоска. Отчаяние.
Смерть Зубейды вырвала землю из-под ног Хамзы. Душа его была опрокинута, сердце – разрушено.
Он заболел.
И не так, как в первый раз, когда узнал о сватовстве Садыкджана к Зубейде, а тяжелее, страшнее, смертельнее, безнадёжнее...
Иногда, очнувшись, Хамза пытался поднять голову, сесть, открыть глаза, но тело его не подчинялось ему, всё кружилось, плавало перед ним, рушились стены, дыбился потолок, и он снова ложился ничком, падал лицом вниз. И забвение обволакивало его липким покрывалом, уходило сознание, и небытие, завывая и завихряясь, стремительно уносило в свою распахнутую настежь холодную чёрную пропасть.
Отчаяние.
Глухое, бессильное, тяжкое, бездонное.
Ночь.
Двадцать четыре часа в сутки.
Двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать семь. Тридцать.
Ночь длиною в неделю.
В две, три, четыре...
– Здравствуйте, Хамзахон...
– Здравствуйте, Зубейда... Как я рад снова видеть вас...
– А почему у вас слёзы на глазах? Вы недовольны моим возвращением?
– Я плачу от радости, Зубейда, от счастья, что вы со мной... Да будет благословенно ваше возвращение... Слава аллаху, я дождался наконец этого дня... Я так тоскую без вас, Зубейда...
– И я тоскую без вас, Хамза... Я очень одинока в своей могиле...
– И я одинок на земле, Зубейда...
– Я увидела – вы лежите в своей комнате на полу лицом вниз... И я решила навестить вас...
– Спасибо, Зубейда, дорогая... Спасибо...
– Вы чем-нибудь больны, Хамзахон?
– Я заболел душой, мне не хочется жить без вас...
– Нет, вы должны жить... Вы должны жить ради меня... Вам нужно изгнать болезнь... Я, пожалуй, закрою окна в этой комнате, во дворе холодно...
– А вам не холодно, Зубейда? Вы так легко одеты...
– Я уже привыкла к холоду за эти два месяца... Да, уже два месяца прошло...
– Два месяца? Неужели два месяца?
– В первые дни вы каждую ночь приходили ко мне с цветами... И мы до рассвета читали стихи и вместе плакали... А потом вы перестали приходить... Ваш последний букет уже завял... Почему вы больше не приходите, Хамзахон?..
– Я не могу сейчас двигаться, Зубейда... Что-то случилось со мной... Стоит мне только поднять голову, всё кружится, всё падает на меня – потолок, стены.
– Со мной тоже так было однажды...
– Не обижайтесь на меня, Зубейда...
– Я не обижаюсь, я просто тоскую... Помните, как вы пришли однажды, через неделю, и положили мне цветы...
– А потом лёг рядом с вами, обнял вашу могилу...
– И заплакал...
– Но вы не вышли ко мне в ту ночь... Почему?
За стеной в соседней комнате молилась мать Хамзы, Джахон-буви.
– О всевышний, – шептала Джахон-буви, – ниспошли исцеление моему сыну... Не посчитай его лишним для меня... Посмотри на него, он целыми днями лежит с закрытыми глазами, ничего не ест... Щёки втянулись, лицо стало серым, чёрные крути под глазами... Он совсем отрешился от жизни, не обращает внимания на людей... Ни с кем не разговаривает, отказывается от лекарств, которые приносит отец... Он всё время бредит во сне... Вот уже два месяца продолжается это... О, боже праведный, в чём мы провинились перед тобой? За что ты так жестоко караешь нас?.. Аллах великий и справедливый, заставь разговаривать моего сына... Я готова отдать тебе за него свою жизнь... Возьми её – только подними его, излечи... Сынок, ненаглядный, не терзай свою мать, не разрывай её грудь... Почему ты не хочешь съесть ни одного кусочка приготовленной мной еды? Сынок, не доставляй мне больше страданий... Если ты не будешь разговаривать со мной, ты лишишься матери... Я умру от горя на пороге твоей комнаты... О аллах милосердный, снизойди до нас, недостойных детей твоих, смилуйся, помоги...
Она внезапно замолчала – за стеной, в комнате сына, слышался голос Хамзы. Ещё не веря себе, затаив от радости дыхание, посылая слова благодарности небу, которое так быстро приняло её молитву, заглянула Джахон-буви в комнату сына.
Хамза стоял на коленях с закрытыми глазами, протягивая перед собой руки.
– Зубейда, дорогая, где вы? – шептал Хамза. – Где ваше лицо, ваши глаза, ваши брови, похожие на крылья птицы?
– О горе мне, он разговаривает с мёртвой! – в ужасе воскликнула Джахон-буви.
– Я здесь, Хамзахон, я около вас...
– Дайте мне вашу руку, Зубейда...
– Я принесла вам цветы...
– Подойдите ко мне... Садитесь рядом... Помните нашу последнюю встречу возле тополиной аллеи... Когда я вернулся в ту ночь домой, я долго не мог заснуть... Потом взял свой тамбур и вышел в сад... И вдруг слышу – в ночной тишине кто-то играет на дутаре, кто-то опередил меня... Я стал слушать мелодию и вдруг понял – это играете вы... Ваша музыка плыла через ночной город ко мне, я слушал её очень долго... Этой музыкой вы прощались со мной, я знаю... Когда ваш дутар умолк, я тоже играл очень долго, я хотел рассказать вам своей мелодией то, чего так и не сумел сказать словами за все недели и месяцы нашей недолгой любви... Потом снова играли вы, и я снова отвечал вам... Всю ночь над заснувшим городом звучала наша музыка, всю ночь мы прощались друг с другом...
– Я помню эту ночь, Хамзахон, и вашу мелодию помню... Мне оставалось тогда жить ещё несколько дней...
– Как замечательно вы играли в ту ночь, дорогая!.. Какой прекрасной была ваша музыка!..
– И вы чудесно играли, дорогой... Этот город, наверное, никогда не слышал такой музыки...
– Не слышал и не услышит...
– Почему же? Вы ещё много раз будете играть на своем тамбуре, Хамзахон...
– Нет, я не буду больше играть... Я уйду вместе с вами...
– Вы ещё будете жить много лет и напишете газели, которые хотела написать я...
– Я никогда больше не буду писать стихов и газелей!
– Тогда я не буду приходить к вам... Где же ещё нам встречаться, как не в твоих стихах?
– Зубейда, где ты?.. Подойди ко мне, сядь рядом... Мне так одиноко без тебя... Я один, совсем один на всём белом свете!..
– Вы не один. Хамзахон. С вами ваши стихи, ваша поэзия...
– Ты была моими стихами и моей поэзией... Но ты ушла от меня...
– Нет, Хамза, я не ушла от тебя... Я всегда буду с тобой, я навсегда останусь в твоей, душе... Да, я твоя поэзия, ты напишешь ещё много стихов обо мне, о нашей любви и о том, что могло бы у нас быть с тобой... Никогда не забывай обо мне, помни обо мне всю свою жизнь...
– Зубейда, где ты, где ты?.. Подойди же ко мне!..
– Мне нужно возвращаться, Хамзахон... Моё вечное пристанище зовёт меня...
– Подожди, Зубейда, уйдём вместе...
– Я ухожу одна... Надо торопиться, нельзя опаздывать...
– Не уходи, не уходи! Побудь ещё рядом!.. Я не смогу жить без тебя...
– Стихи, которые ты напишешь обо мне, будут приходить ко мне, я буду слушать их...
– Зубейда! Зубейда!..
– Меня нет здесь, я только твои слёзы, твои грёзы и мечты...
– Я уйду с тобой...
– Нет, Хамзахон, ты должен жить долго-долго... Плача и рыдая, ты будешь писать стихи обо мне... Эти стихи помогут другим людям, чтобы их счастье не оборвалось так же, как наше...
– Зубейда! Зубейда!..
– Прощай, Хамза... Прощай, дорогой, любимый... Пусть вечно будет жить в твоих стихах наша любовь...
Однажды в доме лекаря Хакима появился поэт Убайдулла Завки.
– Я принёс Хамзе стихотворное послание от моего друга Абдуллы Авлани из Ташкента, – сказал Завки.
Джахон-буви провела гостя в комнату сына.
Завки сел около Хамзы на циновку и долго молчал.
Прошло минут двадцать.
– Мужчина всегда должен оставаться мужчиной, – тихо сказал наконец Завки, – поэт всегда должен оставаться поэтом...
Ресницы Хамзы дрогнули.
– Долгое страдание – удел женщин, – продолжал Убайдулла. – Если жизнь причинила боль поэту, он обязан вложить эту боль в свои стихи. Пусть читают их люди, пусть знают, откуда приходит боль и что приносит она человеку...
Хамза открыл глаза.
– Если ты будешь всё время лежать здесь один, – сказал Завки, – как узнает мир о том, что пережил ты?.. Поэт живёт не для себя. Ты должен так выразить пережитое в своих книгах, чтобы это тронуло других. Страдания, прошедшие через сердце поэта, очищают мир...
– Здравствуйте, учитель, – тихо сказал Хамза.
– Судьба и талант положили на твои плечи тяжёлый груз, – продолжал Завки. – Он похож на перемётную суму, один мешок которой полон прошлого, второй – будущего... Не каждому дано донести эту ношу до цели. Но ты должен донести, ибо этого требует твоё призвание... Вставай и твердо иди вперёд.
– Спасибо, учитель, – прошептал Хамза, – спасибо, что вы пришли сюда...
– Я принёс тебе письмо от Абдуллы Авлани. Он написал его в стихах, узнав о твоей беде.
– Вы оба были моими учителями...
– Сможешь прочитать сам?
– Смогу...
Хамза взял письмо и, медленно шевеля губами, начал читать.
Завки молча наблюдал за ним.
– Какое великое сердце! – прошептал Хамза, окончив чтение.
– Ты должен ответить ему, – сказал Завки.
Хамза поцеловал лист бумаги и спрятал его на груди под рубашкой. Устало откинулся на подушку, закрыл глаза.
– Ты должен ответить ему стихами, – настойчиво повторил Убайдулла. – Пусть это будет первое стихотворение, в котором ты расскажешь о том, что произошло с тобой...
– Сейчас не смогу, – покачал головой Хамза.
– Напиши то, что сможешь, – горячо заговорил Завки, – остальное допишешь потом! Ты должен вернуться к стихам, пока не остыло сердце... Если ты называешь меня своим учителем, поверь мне. Я прошу тебя как старший – сделай это для меня. Тебе станет легче...
– Она каждую ночь приходит ко мне...
– Напиши об этом! Именно об этом!.. Ты обещаешь мне?
Хамза слабо кивнул.
– Ассалям алейкум, Хамзахон – гурьбой ввалились в комнату Буранбай, Умар-палван и новый их приятель Махмуд-тараша, знакомый Хамзе ещё по хлопкоочистительному заводу. – Мы проходили мимо, а тётушка Джахон подозвала нас и говорит: "Ему стало лучше..." Ну мы и решили заглянуть, просим извинить за неожиданное вторжение.
Друзья, перебивая друг друга, взахлёб начали рассказывать городские новости.
Убайдулла Завки с улыбкой слушал молодёжь. Самого Хамзу и его стихи он знал давно, а вот друзей поэта видел впервые.
Между тем Буранбай, Махмуд и Умар затеяли спор – кто из них лучше играет на тамбуре?
– Хамзахон, – обратился Буранбай к другу, – вы лучший среди нас исполнитель народных мелодий на тамбуре. Сейчас каждый сыграет свой напев, а вы оцените наши музыкальные способности по достоинству.
Буранбай бросил быстрый взгляд на Завки, как бы спрашивая у него как у старшего – правильно ли мы затеяли это состязание у кровати больного? Может быть, это развеет его, отвлечёт от печальных мыслей?
И Завки так же молча, еле заметным движением головы, ответил: всё правильно – пойте, играйте, состязайтесь, отвлекайте от печальных мыслей.
Буранбай снял висевший над головой Хамзы на стене тамбур и заиграл первым. Потом играл Махмуд, последним – Умар.
Народные напевы звучали мелодично и выразительно, струны тамбура, как волны реки, уносили слушателей куда-то далеко...
– Вы все играете очень хорошо, – сказал неожиданно посветлевший лицом Убайдулла Завки, – пожалуй, я не смог бы выделить никого... Но я не специалист. Послушаем, что скажет наш уважаемый Хамзахон...
Но Хамза, откинувшись головой на подушки, молчал. Глаза его были закрыты.
Он вдруг тревожно зашептал о чём-то, забеспокоился, начал двигать перед собой руками, словно искал что-то или кого-то...
– Бедная Зубейда, – шептал Хамза. – Как прекрасно звучали струны её голоса в ту последнюю ночь... "На паре колечек на пальце моём есть ободки, но нет жемчужин... Предсказанное счастье – одни слова! А счастья нет..." Бедная Зубейда, бедная!.. Это была её любимая песня... – Он дёрнулся и вдруг, встав на колени, вытянул перед собой руки. – Зубейда, дорогая, где вы, где вы? – свистящим шёпотом заговорил Хамза, протягивая вперёд руки. – Почему вас отняли у меня?.. Жизнь или смерть? Жизнь или смерть?.. Нет, нет, я буду жить!.. Я буду жить ради вас. Я напишу песни о загубленной любви... И вы всегда будете рядом со мной, всегда будете жить в моей памяти. Прощайте, прощайте!
...Завки, Буранбай, Умар и Махмуд стояли во дворе дома ибн Ямина.
– Мы все должны сейчас пойти туда, – сказал Убайдулла Завки.
– Куда? – не понял Буранбай.
– К Садыкджану, – нахмурился Завки.
– Зачем? – спросил Умар.
– Вы идёте со мной? – Лицо Завки покрылось красными пятнами. – Или вы боитесь?
– Нет, мы не боимся, – за всех ответил Буранбай, – мы идём с вами.
Ворота дома Садыкджана-байваччи были распахнуты настежь. Нигде никого не было видно. По всему двору валялись какие-то разломанные ящики, разорванные коробки, пустые бутылки, стояла коляска без лошади с опущенными оглоблями, прыгали воробьи по дну высохшего бассейна.
– Эй, кто-нибудь есть живой? – громко крикнул Завки.
Спустя некоторое время входная дверь приоткрылась, и на пороге показался... Алчинбек. Он был сильно пьян.
– Никого нет, уходите, – махнул рукой племянник хозяина.
В боковом окне отодвинулась занавеска, и показалась бритая, без чалмы голова Садыкджана.
– Позови байваччу, – строго сказал Убайдулла.
– Я же сказал, что он уехал, – качнулся Алчинбек.
– Он смотрит на нас из окна, – нахмурился Завки.
– Хозяин обедает, – икнул Алчинбек, – он никого не принимает...
– Тогда скажи своему хозяину, чтобы он подавился куском мяса! – зло крикнул Завки. – Если оно ещё лезет ему в горло!
Дверь с шумом распахнулась. На пороге, держась за боковой косяк, стоял Кара-Каплан. Он тоже был без чалмы. Шишкастая бритая голова была покрыта шрамами.
– Кто здесь шумит? – обвёл Кара мутным, остекленевшим взором лица пришедших, никого не узнавая. – Кто осмелился помешать нам справлять поминки?
Кто-то толкнул его в спину. Кара-Каплан посторонился.
На крыльцо, пошатываясь, вышел Садыкджан. Сзади его поддерживал Эргаш.
– Что происходит? – забормотал байвачча. – В этом доме траур... Кто вы такие?
Он тоже никого не узнавал.
Алчинбек, ткнувшись дяде носом в шею, что-то зашептал ему на ухо.
– Как, ещё один поэт? – неожиданно засмеялся Садыкджан и взгляд его стал более осмысленным, определенным. – Это становится интересным... В последнее время поэты что-то зачастили в мой дом... Но они почему-то приходят тогда, когда я не хочу их видеть... Вот, например, поэт Хамза... Он пришёл ко мне в день смерти моей жены, которая, собственно говоря, умерла из-за него... И мой калым, десять тысяч рублей золотом, – подумать только, самый большой калым, который платили когда-нибудь в Коканде! – пропал даром...
– Не по этим ли деньгам вы справляете сейчас поминки? – угрюмо спросил Завки.
Садыкджан задохнулся.
– Кто ты такой?! – завизжал он, рванувшись из рук Эргаша. – Откуда взялся, чтобы упрекать меня в моем доме?!
Алчинбек снова сунулся к уху дяди.
– Убайдулла Завки? Я знал когда-то человека по имени Убайдулла... Но он давно уехал из нашего города, он странствовал по белому свету... Это не он, это самозванец! Хватайте его, мусульмане!
– Держи вора! – рявкнул Эргаш, выхватывая из-под халата кинжал.
Но едва лишь он спустился с крыльца на одну ступеньку, как тут же потерял равновесие и покатился вниз.
– Ха-ха-ха! – разразился Кара-Каплан счастливым, пьяным хохотом. – Наш Эргаш, кажется, хочет стать птичкой! Он учится летать! Ха-ха-ха!
Завки с презрением и даже брезгливостью смотрел на окружавших хозяина дома людей. Потом перевёл взгляд на байваччу.
– Ты не узнал меня, Садыкджан... – вздохнул он, – Ну что ж, наверное, я действительно сильно изменился... Впрочем, ты изменился тоже. Когда-то я знал тебя человеком, ещё не до конца потерявшим человеческий облик... Да, я много странствовал по свету, повидал много людей, городов и стран... Но я, кажется, вовремя вернулся в Коканд, чтобы напомнить тебе о том, что мы все будем держать ответ перед аллахом за свою жизнь на земле.
Ты перестал быть мусульманином, байвачча. Ты взял на себя слишком много грехов перед аллахом. Ты можешь купить полицию, Садыкджан, но тебе никогда не купить голос народа. И я, поэт Убайдулла Завки, присоединяю свой голос к голосу народа.
Я напишу стихи о твоих злодеяниях, байвачча! И имя твоё будет проклято в веках, потому что слово поэта живёт долго...
Никто не заметил, как спустился с крыльца Кара-Каплан.
Медленно, осторожно, как змея, приближался он к Завки, пока тот говорил. И вдруг, взмахнув кулаком, бросился на поэта.
Но стоявший за спиной Завки Умар-палван, Умар-богатырь, выскочил вперёд, перехватил на лету руку бандита и сжал её, как стальными клещами.
– Ты, щенок бая! – зашипел Умар в лицо Кара-Каплана, от которого несло застойным, многодневным перегаром. – Ты что задумал, пьяная скотина? Бить поэта?
Садыкджан, казалось бы, мгновенно протрезвел от этой разыгравшейся прямо перед ним неожиданной сцены.
– Ты опять пришёл без разрешения в мой дом? – зарычал он. – Может быть, ударишь и хозяина этого щенка?
– Если у вас траур, байвачча, то утихомирьте своих собак! – зло ответил Умар. – Я никому не позволю при мне бить поэта...
И он отшвырнул от себя пьяного Кара-Каплана, кулём свалившегося около крыльца рядом с Эргашем.
– Кто поэт?! Вот этот?! – заорал Садыкджан, вытягивая палец в сторону Завки. – Это бездомный бродяга, босяк, безнравственный подстрекатель!.. Он хочет опозорить моё имя своими жалкими стишками! Да кто будет слушать его, не пожертвовавшего в своей подлой жизни даже полтаньга на мечеть?
Эргаш и Кара-Каплан карабкались по ступеням на крыльцо.
– И Хамза ваш никакой не поэт! – бесновался байвачча. – Он тоже подстрекатель и бунтовщик! За ним давно уже полиция следит!..
Алчинбек при этих словах повис на разбушевавшемся родственнике, пытаясь затолкать его в дом.
– Ваш Хамза бесстыдник! – орал Садыкджан, вырываясь из рук племянника. – Поправ шариат, он оскорбил даже труп женщины, ворвавшись в день её смерти в дом, где она умерла из-за него!.. Но эта женщина была законной женой другого человека!..
Убайдулла Завки стоял перед крыльцом дома Садыкджана опустив голову. Он понял, что его приход к байвачче не имел никакого смысла... Что можно было ожидать от этого человека, окружившего себя бандитами и наёмными убийцами и тем не менее продолжавшего взывать к законам шариата?
– Ну что замолчал, Завки? – подбоченился на крыльце байвачча. – Ты уразумел наконец, что твой Хамза, за которого ты собираешься молиться, отнял у меня законную жену? Ты убедился, что он безбожник, невер и насильник?
Убайдулла поднял голову.
– Зубейда никогда не была твоей женой, – сказал Завки. – Ты заплатил за неё калым, это верно. Но женой она тебе не была, ибо сердце её принадлежало другому человеку. Зубейда и Хамза любили друг друга – об этом знает весь Коканд и узнает весь мир... Фархад ли влюбленный или Меджнун – каждый из них мог быть на месте Хамзы. И Зубейда могла быть Лейли или Ширин... Такова сила любви. Она проносит через века имена людей, оставшихся верными ей до конца, выбирающих смерть, если быть вместе со своей любовью невозможно. Это очень древняя истина, байвачча, – любовь не умирает, когда умирают любящие друг друга люди. Любовь сильнее смерти. Ради подтверждения этой старой истины, может быть, и стоит человеку каждый раз заново жить на земле... А вы отняли у Хамзы Зубейду, вы лишили его любимой, Садыкджан... Вы сломали крылья этим двум голубям, погубили их счастье... Кто же после этого насильник – вы или поэт, безвинный и добрый поэт?
Аксинья, племянница паровозного машиниста со станции Коканд-товарная Степана Соколова, особенно часто бывал а в те дни и недели в доме ибн Ямина.
Гибель Зубейды и необычная болезнь Хамзы поразили Аксинью в самое сердце. Она была потрясена той глубиной страсти, которая не позволила Зубейде жить с нелюбимым мужем и заставила уйти из жизни. Ответное чувство Хамзы, его страдания, отчаяние и тоска надолго лишили Аксинью покоя. В бессонные ночи часами думала она о Зубейде и Хамзе. Впервые в своей жизни увидела Аксинья, что живая человеческая любовь может быть такой великой и сильной.
А часто появляться в доме ибн Ямина Аксинья начала ещё во время болезни Ачахон, сестры Хамзы. В ту ночь, когда доктор Смольников делал Ачахон операцию, медицинская сестра Аксинья Соколова стояла у изголовья больной.
Потом в течение целой недели Аксинья по просьбе доктора каждый день приходила менять Ачахон повязку. Доктор Смольников беспокоился, что напряжённые условия операции вне больницы – ночь, слабое освещение, нервная обстановка, запущенность болезни – могут вызвать нежелательные последствия.
И кроме того, он опасался Джахон-буви. Религиозно настроенная старуха могла просто сорвать бинты, наложенные урус-табибом.
Ведь это была первая операция в Коканде, сделанная русским врачом мусульманской девушке.
Но тогда Хамза ещё был здоров, и всё обошлось благополучно. Через неделю Ачахон уже сама делала себе перевязку.
Аксинья научила её обрабатывать рану, пользоваться йодом и бинтами.
Тогда-то они и подружились, Аксинья и Ачахон. И конечно, много говорили о Зубейде и Хамзе, печальная любовь которых была на устах почти у всех. И уж как было не поговорить об этом Ачахон, родной сестре поэта, и Аксинье, племяннице Степана Соколова, который с некоторых пор, внешне стараясь не подчёркивать этого, стал одним из самых близких друзей Хамзы.
А когда Хамза после похорон Зубейды заболел, Аксинья Соколова стала бывать в доме ибн Ямина по несколько раз на день. Она приносила лекарства от доктора Смольникова, выполняла поручения дяди, который просил сообщать ему о малейших изменениях состояния Хамзы, и сама почему-то всё больше и больше интересовалась здоровьем брата своей новой подруги.
Хамза от лекарств отказывался, состояние его не улучшалось, и в сердце Аксиньи с неожиданной для неё самой болью росла тревога. Она вспоминала Хамзу таким, каким он был в день операции Ачахон, когда они познакомились, – энергичного, смелого, бросившего дерзкий вызов религиозным предрассудкам соседей и родственников. Тот Хамза не шёл ни в какое сравнение с теперешним – потухшим, отключившимся от жизни, потерявшим интерес ко всему на свете.
Своими сомнениями Аксинья делилась с дядей.
– Что-то я боюсь за него, – говорила она, и голубые глаза её наполнялись слезами, – больно уж долго убивается...
– Ничего, ничего, – успокаивал племянницу Степан Петрович, – справится... Конечно, не дай бог никому такого горя, которое на него упало, но он парень крепкий, вылезет...
– Дай-то бог, – шептала Аксинья и осеняла себя троекратным крестным знамением, прося у своего русского бога скорейшего выздоровления для мусульманина Хамзы.
Хамзе стало лучше. Приход Убайдуллы Завки, стихотворное послание от Абдуллы Авлани из Ташкента, казалось, вдохнули в него свежие силы. Он начал понемногу есть. Радости Джахон-буви не было границ.
– Люди говорят, что он голодом решил себя уморить, – весело сказал однажды Степан Соколов, входя в комнату Хамзы, – а он, гляди-ка, за обе щеки наворачивает... Что, братишка, малость отпустило?
– Отпускает, – улыбнулся Хамза.
– Оно всегда так бывает, – подмигнул Соколов, усаживаясь рядом, – сперва прижмёт, а потом отпустит. На то она и живая жизнь, чтобы всё менялось. Сегодня, глядишь, горячо – мочи нет терпеть, а завтра уже остыло...
Степан развязал принесённый с собой узелок, вытащил из него небольшой чугунок, поднял крышку. Густым, наваристым мясным духом потянуло из чугунка.
– Я тут тебе щец горячих принёс. На-ка вот ложку, похлебай, полегчает... Я от всех болезней горячими щами лечусь... Бывало, в деревне у нас, в России, работаешь в поле, а дождь тебя и прихватит. Прибежишь в избу мокрый как лягушонок, аж весь трясёшься!.. А мать тебе шварк из печи полувёдерный горшок со щами. Пять минут – и дно видно. А потом на печь. И утром встаёшь как обструганный. Хоть икону на тебе рисуй... Ты хлебай, хлебай, не стесняйся... На той неделе батька твой ко мне в депо приходил. Увидел меня, заплакал. "Степан-ака, – говорит, – убивает себя сынок-то мой голодом, одни кости остались. Помогите, – говорит". А мне в рейс ехать... Сегодня утром вернулся.
"Аксинья, – говорю, – сообрази-ка чугун щей, и чтоб духовитые были. Нашего понесу кормить, пусть только попробует отказаться..." Ну, она кинулась за капустой – одна нога здесь, другая там...
– Что ещё отец говорил? – нахмурился Хамза.
– Казнил себя. "Я, – говорит, – ему всё запрещал, во всём противился, а оно видишь как получилось... Теперь, – говорит, – пускай живёт как хочет. Больше мешать ему ни в чём не буду, никаким делам его препятствовать не стану. Захочет в театр идти, пускай идёт..."
– Неужели про театр вспомнил? – улыбнулся Хамза.
– Обязательно. "Если нравится, – говорит, – ему театр, пускай ходит, что я могу сделать. Только бы здоровьем поправился. Я, – говорит, – теперь ничего для него не пожалею. А ежели кто встанет моему сыну поперек пути, так я того своей рукой сшибу..."
– Бедный отец, – откинулся на подушки Хамза, – до чего же довёл вас ваш упрямый и непокорный сын, который говорит правду в лицо каждому, не думая о том, что будет после этого... Даже вы, смиренный мусульманин, готовы сражаться с врагами своего сына... Простите мне, ата, все огорчения и неудобства, которые я вам причинил...
Степан Соколов между тем посмотрел в окно, подошёл к двери, приоткрыл её, выглянул, прислушался, вернулся на место.
– Слышь, парень, тут серьёзный разговор есть... Ты мозгами-то кумекать за это время не разучился? Книжки помнишь, которые я тебе давал?
– Помню.
– Из Ташкента один дяденька приехал. Из ваших будет, из узбеков. Очень головастый мужик. И грамотный. Одним словом, соображает... Так вот, я ему про тебя писал, и он вроде стихи твои и статьи знает... Мы с ним договорились, что он сюда зайдёт. Как бы под видом старого твоего знакомца – навестить, мол, больного... Зовут его Низамеддин-ходжа, работает в типографии газеты "Голос Туркестана", понял?
– Понял.
– Скоро должен быть...
– К нам пожаловал гость, – сказал капитан Китаев.
– Кто таков? Откуда? – наклонив голову, посмотрел на капитана поверх стёкол пенсне полковник Медынский.
– Из Ташкента, ваше превосходительство. Типографский рабочий Низамеддин Ходжаев. По данным губернского сыска, абсолютно неблагонадёжен.
– Так, так...
– В последнее время очень активен. Незаурядный агитатор.
– Состоит под надзором?
– Под негласным... Наши ташкентские коллеги, установив при его отъезде станцию, до которой он взял билет, сочли необходимым телеграфно известить нас.
– Очень любезно с их стороны. Соблаговолите, капитан, от своего и моего имени так же телеграфно поблагодарить губернский сыск.
– Будет исполнено, ваше превосходительство.
– Благополучно ли доехал господин Ходжаев до Коканда?
– Вполне.
– И сошёл именно там, куда взял билет?
– Да.
– Какая простота нравов у нынешних господ революционеров... Я как-то читал в старых полицейских обзорах, что народовольцы перед совершением своих акций по три-четыре раза меняли маршрут, прежде чем добирались до нужного места.
– Социалист нынче странный пошёл, ваше превосходительство. Если уж у них туземцы в серьёзных агитаторах ходят...
– Кстати, какой он ориентации, этот ваш Низамеддинов? Эсер?
– Ходжаев, господин полковник.
– Да, да, извините. Вечно я путаю эти местные фамилии... Так как же?
– Предположительно он социал-демократ.
– Взяли под наблюдение прямо с поезда?
– Разумеется.
– И где же изволит сейчас находиться дорогой гость?
– Два часа назад отправился на приём к нашему почтенному эскулапу доктору Смольникову.
– Как это мило с его стороны! И я без всякого наружного наблюдения мог бы предсказать, что он, оказавшись в Коканде, в первую очередь пойдёт именно туда... Эти социалисты, капитан, всех наших филёров безработными сделают.
– Час назад, выйдя из больницы, Ходжаев нанёс визит Хамзе. В настоящее время находится там. Вместе с поднадзорным Соколовым, который к моменту прихода Ходжаева уже находился в доме Хамзы.
– А ведь чешутся руки прихлопнуть сразу всю троицу, не правда ли?.. Этот типографский рабочий мог, наверное, привезти с собой какую-нибудь свежую литературу, не так ли?
– Не исключается.
– Я вот иногда думаю, что в доме поэта Хамзы среди всяких там рукописей, книг, черновиков наверняка должна находиться какая-нибудь нелегальщина...
– Совершенно справедливо, ваше превосходительство.
– Вообще архив всякого литератора или журналиста – это же идеальное место для хранения сочинений, интересующих наше ведомство... Вы бы как-нибудь выбрали, капитан, удобный момент да и посмотрели бы внимательно, что там почитывает и что пописывает господин Хамза.
– После самоубийства младшей жены Садыкджана-байваччи мой человек не может работать с Хамзой – тот уже третий месяц не встаёт с постели. И я считал бы в такое время неудобным... вернее, нецелесообразным...
– Э-э, бросьте вы церемониться, капитан!... То, что неудобно для других, удобно для нас с вами и для той службы, которую мы представляем. Диалектика, как говорят господа марксисты... Можете рассматривать моё предложение о необходимости обыска в доме Хамзы как приказ.
– Слушаюсь, ваше превосходительство.
– Если будете лично участвовать в обыске, постарайтесь принять соответствующие меры предосторожности...
– Меры предосторожности? От кого?.. Не понял...
– Экий вы, батенька мой, несообразительный... Ну, используйте штатский костюм, грим, косметику. Мне бы не хотелось, чтобы вашу внешность раньше времени...
– Я вас понял, господин полковник. Перекрашусь – родная мать не узнает.
– Ну вот и чудесно.








