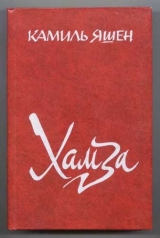
Текст книги "Хамза"
Автор книги: Камиль Яшен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 43 страниц)
Ротмистр Пересветов был прав.
На широком горном пастбище стояла большая круглая юрта чабанов-киргизов. Около юрты сидел Степан Соколов. Голова Степана была повязана окровавленной тряпкой – шашка ротмистра задела его. Рядом, накрытый тёплым халатом, лежал на толстой кошме Хамза.
– Вот тебе и просвещение, – грустно сказал Соколов. – Набили сопли по первое число, еле ноги унесли. А ты хотел этих миршабов, которые в нас стреляли, от невежества спасать.
– – У них невежества больше, чем у других, – дрожащим голосом ответил из-под халата Хамза. Его бил озноб.
– А когда они станут образованными, то сами поймут, что с царём или ханом им не по пути, так, что ли?
– У них не будет другого выхода.
– Зато у нас есть другой выход, – потрогал Степан голову, – отнять у врага оружие и вооружить народ. Будет у нас оружие, будут они нас бояться, а не мы их. Тогда уж побегают они от нас. Рабочие должны вооружаться. Вот к чему ты должен звать людей в своих стихах. Учёба – дело хорошее, это само собой, но революцию одной учёбой не сделаешь. Надо вооружаться. Если не отвечать насилием на насилие, то ещё не один раз придётся нам в речке купаться.
– Значит, опять рабочие, дехкане и бедняки будут падать под царскими пулями? – с трудом выдавливал из себя слова Хамза. – Снова повторится пятый год? Тысячи лет уже льётся человеческая кровь. Земля и небо стонут от насилия...
– А ты отчего стонешь? От царских милостей?.. То-то и оно... Без боёв и баррикад нам не обойтись. Только не надо повторять ошибки пятого года. Сделать выводы – это тоже знание и просвещение. Сейчас тебе мои слова не нравятся, но придёт время, и ты сам эти же слова будешь говорить другим... Слышь, Хамза, ты мне когда-то рассказывал о поэте Яссави. Что он сказал о тирании?
– "Если тиран тиранит – говори: это всё от аллаха..."
– Во-во... А ты должен говорить в своих стихах совсем другое: если тиран тиранит – дай ему в морду!
К юрте подошла Аксинья.
– Всё ругаетесь? – присела она рядом с Хамзой. – Пора бы уж помириться.
Хамза с нежностью смотрел на Аксинью, на её светлые волосы, пушистые завитки на шее... Смутившись, опустил глаза, но Степан Петрович Соколов, перехватив этот взгляд, удивлённо уставился на племянницу. "Вот оно в чём дело, – подумал он. – А я-то, дурак, раньше ничего и не замечал".
– Я тебе воды из родника принесла, – сказала Аксинья и протянула Хамзе наполненную до краёв кружку. – Выпей, легче станет.
Степан Петрович Соколов, улыбнувшись, отвернулся.
...Уже вечерело, лучи заходящего солнца играли на травах, на всей беспредельной зелени пастбища, на рыжих спинах лошадей, пасшихся вокруг юрты, на металлических украшениях женщин, хлопотавших возле костра. Запах дымка смешивался с ароматом степи...
Вай-буй, как прекрасна была панорама неоглядных, уходящих к горизонту просторов!.. Сын хозяина юрты, молодой киргиз Хайдар, богатырского сложения чабан, покрикивая обычное: "Хаит, чек, чек, чибич, чек!" – заводил в загон отару овец. Тишина степи нарушалась иногда топотом коней, далёкими криками табунщиков. Сиреневые сумерки опускались над горами. Кобылицы лизали жеребят, а те с озорным тонким ржанием носились вокруг матерей, взбрыкивали, валялись на траве, убегали к горизонту. Матери тревожно ржали, подзывая к себе детей, – за каждым камнем в степи мог притаиться матёрый волк... Но могучие псы-волкодавы, сидевшие около костра, поглядывали на кобылиц снисходительно, как бы давая понять, что, пока они здесь сидят, для тревоги нет никаких оснований. Не нравились псам только необычно пахнущие гости. Но хозяева дали понять, что к этим неожиданно появившимся на пастбище людям надо относиться сдержанно. И псы терпели.
Из юрты вышел глава семьи чабанов Сулейман-аксакал.
Вместе с сыновьями Хайдаром и Джамшидом он был на маёвке.
Сулейман давно знал Степана Соколова – когда-то он приходил на заработки на железную дорогу, но пробыл там недолго. Своё, кровное позвало назад, и Сулейман вернулся в степь пасти лошадей... Когда раненый Соколов вместе с Аксиньей, поддерживая с двух сторон Хамзу, переплыли реку, аксакал увёл старого знакомого в горы, на свое становище.
– Степан-ака! – позвал Сулейман. – Зайди в юрту, надо поговорить.
Степан ушёл.
Аксинья некоторое время сидела около Хамзы, потом встала и, сделав несколько шагов, остановилась.
Высокая и статная её фигура чётко рисовалась на фоне пепельного закатного неба. И Хамза, лежавший на кошме и смотревший на Аксинью снизу вверх, невольно залюбовался ею. Он думал о том, что Степан и Аксинья спасли ему жизнь, что без них он, конечно, утонул бы, и ещё о том, что в его душе давно уже происходит некий странный процесс... Он как бы всё время сопротивлялся какой-то неведомой силе, какому-то незримому влиянию, какому-то далёкому и увлекающему за собой зову, который он всем своим существом всегда слышал в те минуты, когда Аксинья была рядом с ним.
Придавленный своим горем и жизненными заботами, Хамза старался приглушить этот зов, но он звучал всё сильнее и сильнее, тревожил, смущал и вместе с тем вносил в душу новые ощущения – туманил воспоминания, изгонял печаль и уныние, испепелял прошлое, рождал энергию и желание быть молодым, сильным, уверенным в себе... Аксинья уводила из вчерашнего дня, звала в будущее, и Хамза всё чаще и чаще понимал, что он больше не может противиться, что её женская сила, властно забирая в плен его сердце, шире и глубже его сопротивления и всех тех препятствий и ограничений, которые он старался искусственно возвести между собой и Аксиньей.
Это был зов самой жизни, зов человеческой природы, зов естества отношений между людьми – всепобеждающего естества, древнее которого по своей непобедимости ничего нет на белом свете.
И Хамза поднялся с кошмы и пошёл к Аксинье.
Сумерки накрыли степь, земля дышала свежестью и покоем.
А у подножья горы, как светлячки, зажглись вдруг алые "глаза" алайских тюльпанов... И неожиданно Хамза произнёс две поэтические строчки, словно нашёл какое-то чудо в природе: "Багрянец горизонта – это отражение сияния тюльпанов в зеркале небес? Или же вот этот алый блеск на просторах земли есть отражение зарева заходящего солнца?"
– Что ты сказал? – повернулась к нему Аксинья.
– Пойдёмте собирать тюльпаны, – тихо сказал Хамза.
– Догоняй! – засмеялась Аксинья и побежала вперёд.
Аксинья мчалась будто на крыльях и, оказавшись среди тюльпанов, упала в траву. Хамза, подоспевший к ней, повалился рядом. Оба дышали тяжело, запыхавшись то ли от бега, то ли от волнения...
Аксинья отдышалась первой и, взглянув на Хамзу, улыбнулась. И в следующий миг захохотала...
Потом поднялась и пошла собирать тюльпаны.
Хамза, зажав между зубами травинку, лежал на спине, глядя в небо.
Караваны последних светлых облаков плыли куда-то в неведомую даль. Вокруг царило таинственное и прекрасное безмолвие, которое, казалось, заключило в свои объятия всё сущее.
Только иногда в небесной выси возникали какие-то ярко освещённые точки – это парили степные жаворонки. Провожая заходившее солнце и стараясь как можно дольше оставаться в его лучах, они залетали всё выше и выше, всё выше и выше...
Вечерними голосами перекликались перепёлки, но даже их щебет не нарушал очарование безмолвия, более того – придавал ему какую-то необъяснимую прелесть.
"Джайляу!" – вдруг вспомнил Хамза, глядя на собирающую тюльпаны Аксинью, киргизское слово, обозначавшее степь, покрытую цветами и травами. И неожиданно он ощутил себя необходимой частицей всего огромного и восторженно торжествующего вокруг него живого земного мира.
"Ведь человек – это целый мир, – глядя на степь, на зелёный купол небес, подумал Хамза. – Человек сам чудо из чудес этого прекрасного мира... Есть ли что-либо более великое, чем мысль и фантазия человека?.. И абсолютно ошибаются те, кто говорит, что человек есть раб природы, что он слаб, ничтожен, точно букашка какая-то... Нет, скорее человек – это звено великой цепи, то нечто могучее, что придаёт смысл всему сущему. Философия о ничтожности человека просто кому-то выгодна и, возможно, даже служит на пользу... Но именно человек есть самое великое чудо природы..."
Мысли его прервал голос Аксиньи. С букетом ярко-алых тюльпанов в руках она появилась внезапно – будто вышла из заката.
– Вставай, хватит мечтать, – улыбнулась Аксинья, – уже темнеет. Нам надо идти, а то Степан будет беспокоиться.
– Если я с тобой, о чём ему беспокоиться?
– Но ты же болен...
– Я уже поправился...
Аксинья подняла свой букет над лежащим на земле Хамзой и начала сыпать на него цветы.
Хамза закрыл глаза...
Аксинья сыпала на него цветы.
...Он не помнил, как оказался на ногах. Взял Аксинью за руку.
Поднял на неё глаза. Она тоже смотрела на него... Никто из них не знал, сколько они смотрели друг на друга...
Всё остальное произошло вне их сознания и воли – он наклонился к ней и поцеловал её. И она ответила ему долгим-долгим поцелуем...
Они были опьянены степью, ночью, своей молодостью. Ничего не было в мире до них и после них. Никого не было в мире, кроме них.
Наконец она высвободилась из его объятий и... заплакала.
Они долго сидели молча. Трудно было говорить о чём-нибудь... Но вот Хамза, будто чувствуя за собой какую-то вину, сказал:
– Не смог я сдержаться, заставил тебя плакать, прости, Аксинья... – И он густо покраснел.
Аксинья грустно улыбнулась.
Бедный Хамза! Что он мог поделать с собой! Жестокая судьба с молодости мучила его. Лишив его Зубейды, она хотела обречь его на одиночество, которое стало вдруг нестерпимым для него.
Он тосковал по ласковому слову, по нежности. Неужто всю жизнь страдать? Все девушки, все молодые женщины сторонились его, избегали общения с ним. Но свет все ещё не без добрых людей, не без добрых душ... И одной из них была светлая душа Аксиньи...
Нет, нет! В её образе ему явилась Зубейда, вернулась старая любовь.
Бедный Хамза! Столько дней и ночей посещали его какие-то видения и наваждения... Казалось, что неприступные горы преграждают ему дорогу к жизни, что какие-то злые бураны и ураганы, которым, конечно, недоступно чувство милосердия, заметают перед ним путь к счастью.
Бедный Хамза! Даже на пороге перемены судьбы условности и ограничения воспитания продолжали терзать его сердце, пытаясь отдалить счастье. "Почему я не сдержался? – горестно думал он. – Почему пошёл на поводу своего чувства, проявил слабость?! Я, глупец, довёл дело до поцелуя... Неужели я так сильно полюбил её?.. О боже, ты столь воспламенил мою душу, что я, не вытерпев её жара и пыла, поддался чувству, – прости же меня за это!.. Но, великий аллах, если кто и заменит Зубейду, то, наверное, только вот эта чистая душой девушка... Весь пламень своего сердца, клянусь тебе, о аллах, я отдам Аксинье..."
Аксинья посмотрела на Хамзу печально, невесело.
– Плохо кончится всё это, – вздохнула она.
– Зачем ты так говоришь?
– У нас всё разное, а главное – вера наша разная...
– Моя вера – ты, Аксинья!
– И я бы хотела сказать такие слова, но... Нам не дадут быть вместе.
– Кто не даст?
– А кто обвенчает нас? Ведь без венца нельзя жить вместе...
– Да, никто... Ну и пусть! Нам достаточно нашей любви... Моё решение твердо, бесповоротно. Начиная с этого дня, я ради тебя готов на всё! Скажешь "пойдём", и я готов ради тебя пойти в русскую церковь. Ведь ты спасла меня там, на реке, подарила мне жизнь. Потерять тебя – всё равно что найти смерть...
Аксинья слушала Хамзу и думала:
"И я тоже ради него готова на всё... Если он хочет идти в церковь, то и я смогу пойти в мечеть, принять мусульманство и отказаться от своей веры".
Она встала и потянула Хамзу за руку.
– Пойдём и всё расскажем дяде...
Хамза поднялся.
И, может быть, для того чтобы он забыл все свои невесёлые думы, Аксинья сказала озорно:
– Я буду бежать до самой юрты... Если догонишь, поцелуешь ещё раз... А не догонишь...
И, помахав тюльпанами, побежала.
И Хамза, забыв обо всём, побежал за ней.
Степан Петрович Соколов после разговора с Сулейманом-аксакалом решил ещё на несколько дней остаться в степи. В очередной рейс ему нужно было отправляться только через неделю...
А если вызовут в полицию и спросят, где был? Не на маёвке ли? – ответит: возил племянницу на кумыс к киргизам поправить здоровье. А Сулейман-аксакал подтвердит это.
А вообще-то Степану было уже наплевать, вызовут его в полицию или нет. Злость против властей после разгона маёвки, горечь оттого, что из-за чьего-то предательства погибло несколько человек, переполняли сердце. Соколов готов был уволиться из депо и перейти на нелегальное положение. Вот только Аксинья...
Чабаны из уважения к гостям зарезали овцу, заложили тушу в казан. Вкусный запах киргизской шурпы щекотал ноздри.
Накрыли дастархан. Старший сын аксакала Хайдар с кувшином и тазиком в руках обошёл всех. После этого вытерли руки новым полотенцем. Две невестки Сулеймана внесли огромные блюда, на которых возвышались горой мослы, печёнка, мякоть, ножки, голова... Невестки торжественно поставили мясо на дастархан.
Сулейман-аксакал взял белое блюдо, наполнил его мягкими кусками, протянул младшему сыну Джамшиду.
– Это для женщин. Отнеси, сынок, – сказал он.
Блюдо унесли в белую юрту.
Сулейман начал нарезать мясо для гостей. Нетерпеливый Хайдар вытащил свой нож и проворно начал помогать отцу.
Наконец всё было готово. Сулейман кивнул, и началась еда.
Ели молча. Овца постепенно убывала. Степан уже был сыт по горло, но хозяева и не думали останавливаться.
– Степан-ака, почему ничего не кушаешь? – повернулся Сулейман-аксакал к Соколову.
– Как не кушаю?.. Рахмат, я уже сыт.
– Хамзахон, тут у нас на воздухе надо кушать много, не отставайте, – угощал гостеприимный хозяин.
– Больше не могу, – поблагодарил Хамза, вытирая руки полотенцем.
Но не тут-то было! Джамшид, придвинув к себе блюдо, наполнил свою ладонь кусками мяса и начал кормить гостей с руки. Хамза кое-как справился со своей порцией, но когда очередь дошла до Соколова, тот, глядя на пальцы Джамшида, сквозь которые стекало масло, побледнел...
Чабаны громко засмеялись: "Не бойтесь, Степан-ага! Такой обычай киргизов! Преподносят только дорогим гостям!"
Степан, как бы спрашивая совета, глянул на Хамзу, который молча показал, что можно и отказаться.
– У нас есть пословица, – сказал аксакал. – "Очутишься у котла – ешь дотла!"
И Степан решился...
Широко открыв рот и закрыв глаза, он вытянул вперёд шею.
И тут же почувствовал, что рот его битком набит мясом. На глазах Степана выступили слёзы. Но, уважая народный обычай, он яростно начал жевать, закрыв рот обеими руками. Хозяева юрты хохотали навзрыд, довольные, что Степан-ака не пренебрёг обычаем.
– Хвала вам, живите долго. Степан-ака! Теперь вы самый что ни на есть настоящий киргиз! – крикнул Хайдар, когда Соколов наконец проглотил всё мясо. – Можете приезжать к нам в любое время и жить сколько захотите!
– А вот этим запей для облегчения, – сказал Сулейман и подал Степану почти литровую чашу с кумысом.
Соколов, войдя во вкус местных нравов, не отрываясь выпил весь кумыс из деревянной чаши. На лице у него было отчаянное выражение – съесть ещё хоть целую овцу, но не сдаваться.
Один из чабанов взял кубыз – киргизский национальный инструмент. Полилась грустная мелодия, сопровождаемая песней. Второй чабан запел.
Голос звучал высоко, с надрывом. О чём пел певец? Может быть, о боли разлуки, о суетных делах этого тленного мира, о мятежных душах, не мирящихся с тиранией... Из белой юрты вышли женщины. Даже Степан и Аксинья, хотя они и не понимали многих киргизских слов, догадывались по мимике исполнителя, а больше всего по мелодии, что певец поёт о чём-то сокровенном...
Чабан пел до тех пор, пока не устал. И тут же кубыз попросил Хамза и начал повторять мелодию. Сначала тихо, робко, а потом всё громче и громче.
Когда Хамза закончил, к нему подошла Аксинья.
– Очень понравилось...
– В последнее время что бы ни делал Хамза, тебе всё нравится, – сказал сидевший рядом Степан.
– Мне тоже, – покраснел Хамза.
– Что тоже? – не понял Соколов.
– Что бы ни делала Аксиния, мне всё нравится...
– Эй вы, шайтаны! – подмигнул обоим Степан. – Никак через меня друг другу в любви объясняетесь, а?
– Мы уже объяснились, – опустила глаза Аксинья. – Хотим обвенчаться...
– Что-о?.. – изумился Соколов.
– Мы уже дали друг другу слово, – твердо сказал Хамза.
– Значит, в Россию собрался ехать? – строго посмотрел Степан на Хамзу.
– Зачем в Россию, нам и здесь хорошо.
– Ты, парень, видать, и впрямь мозгами рехнулся, – нахмурился Соколов. – То тебе подавай революцию без жертв, то на русской бабе вздумал жениться... Да где ты с ней будешь жить здесь? Тебя же свои мусульмане камнями закидают...
– Я не трус! – выпрямился Хамза.
– Ты-то не трус, а она что будет делать? – начал злиться Степан. – Вдовой после тебя останется? С дитём на руках? Об этом подумал?
– А мы в мечеть пойдём или в церковь...
– Ну ладно, хватит шутить! – сделал резкий жест рукой Соколов. – Ни ислам, ни православная церковь ваш брак не разрешат – понимать надо, не маленькие. Если серьёзно хотите жить вместе, будьте готовы к тому, чтобы каждый день защищаться. Фанатики вас в покое не оставят..
– А мне наплевать на фанатиков, – презрительно усмехнулась Аксинья.
– И мне наплевать! – повторил Хамза.
3
Вопреки всем ожиданиям, никто ни разу не напомнил ни Хамзе, ни Соколову, ни Аксинье об их участии в маёвке, когда они вернулись от киргизов. Степан уехал в очередной рейс на своём паровозе. Аксинья дежурила в больнице. А Хамза через месяц после возвращения с помощью Алчинбека снова поступил на хлопкоочистительный завод Садыкджана-байваччи.
Хамза и Аксинья виделись каждый день, и главным образом в те дни, когда Степан Петрович уезжал в рейсы.
Иногда Хамза встречался с доктором Смольниковым, выполняя некоторые его поручения.
По совету доктора Хамза восстановил рукопись своей пьесы "Отравленная жизнь". Сначала её сыграли в самодеятельном мусульманском театре в здании городского военного собрания.
Хамза, исполнявший одну из главных ролей, нарисовал к премьере несколько афиш.
Спектакль наделал шума в городе. Особенно ярилось духовенство. "Во имя шариата, во имя религии уходите отсюда прочь!" – кричали муллы по вечерам около дома военного собрания. Но мусульмане шли в театр.
Менялись времена. Духовники уже не могли так сильно влиять на верующих, как это было совсем недавно. Атмосфера становилась демократичнее. И этому немало способствовали русские власти, которые, зная о том, что в центральной России нарастает новый революционный подъём, советовали местной духовной знати ослабить кое-какие религиозные запреты и ограничения.
И поэтому мусульмане шли в театр.
В такой обстановке доктор Смольников посоветовал Хамзе возобновить свое ходатайство об открытии новометодной воскресной школы.
– Деньги на это дело найдём, – сказал Смольников, – но только чтобы никто не знал, откуда они.
Разрешение было получено. Хамза сам сочинил рукописный учебник-азбуку. И теперь по воскресеньям в доме своего друга Махмуда-тараша он учил читать и писать детей бедняков.
Приближался Новый год. По инициативе русской администрации в здании военного собрания решено было устроить нечто вроде приёма для туземной интеллигенции. В списки приглашённых включили и Хамзу.
В тот день с утра на окраине города проводился улак-козлодрание. Неожиданно для всех в состязании всадников, которые должны были овладеть козлом – лаком, победу одержал приехавший из алайских предгорий довольно немолодой киргиз-табунщик Сулейман-аксакал. Правда, ему помогали два сына-богатыря, Хайдар и Джамшид, на бешеном скаку отгонявшие плётками от лошади отца всех других претендентов на улак. Не повезло даже самому Садыкджану-байвачче, который решил участием в козлодрании закончить наконец свой затянувшийся и уже всем порядком надоевший траур по молодой жене. В былые годы байвачча неоднократно захватывал козла и уносил его на своём самом резвом в Коканде коне от преследователей.
Но на этот раз широкоплечий Сулейман с такой силой рванул из рук Садыкджана улак, что байвачча чуть было сам не вылетел из седла. А могучие молодые пастухи-киргизы Хайдар и Джамшид так исхлестали садыкджановских прихлебателей, пытавшихся окружить Сулеймана и обеспечить байвачче лёгкую победу, что выход из старого траура чуть было не обернулся трауром новым.
– Но ведь это ужасно! – воскликнула находившаяся среди зрителей улака и наблюдавшая за состязанием наездников в бинокль жена полковника Медынского. – Они же буквально убивают плётками друг друга!.. Так и глаза недолго выхлестнуть!
– Ничего, ничего, – снисходительно улыбнулся стоявший рядом полицмейстер, – улак закаляет. В будущих войнах России надо будет иметь в своей кавалерии вот таких суровых всадников.
– Ваше превосходительство, – потянулся к уху полицмейстера один из чиновников местной администрации, – про этого Сулеймана говорят, что он точит нож против своих баев, ведёт агитацию среди кочевников...
– Вот как? – улыбнулся Медынский. – Современный Пугачев?
– Вообще, ваше превосходительство, – продолжал чиновник, – просматривая список приглашённых мусульман, я встретил несколько имён, которые вызвали у меня, мягко говоря, удивление. Например, Хамза... Ведь он же общается с нашими ссыльными.
– Ну так что же? – простодушно пожал плечами Медынский. – Расстрелять его за это прикажете?
– Да уж во всяком случае не приглашать туда, где будут многие уважаемые люди и настоящие друзья центральной власти.
– Вы хотите сказать, – снова улыбнулся полицмейстер, – что мы отпустили вожжи?.. Считаете, что их и дальше надо было бы натягивать сильнее?.. Нет, это сейчас не в духе времени. Мода на строгости прошла. Определённый демократизм теперь просто необходим... Нужно прислушиваться к либерально настроенной интеллигенции, искать с ней контакты...
Ёлка была украшена разноцветными гирляндами. Традиционный Дед Мороз осыпал гостей блёстками. Снегурочка – одна из самых красивых женщин Коканда, актриса татарского театра Ольга Яруллина – активно помогала Деду Морозу.
Полковник Медынский приступил к осуществлению своей новой программы – налаживанию контактов с местной интеллигенцией – буквально с первой же минуты. Едва только Хамза вместе с Завки вошёл в главный зал военного собрания, как полицмейстер подошёл к нему.
– Я очень рад, что вы пришли, – радушно приветствовал Хамзу Медынский. – Вы хороший поэт, а теперь ещё и драматург. К сожалению, я не видел вашей пьесы, но слышал о ней много лестных слов. Поздравляю!
– Рахмат, ваше превосходительство, – учтиво наклонил Хамза голову. – Рахмат за ваши тёплые слова о моём скромном сочинении.
Завки с удивлением посмотрел на своего обычно вспыльчивого, строптивого ученика – Хамза держался сегодня как заправский дипломат.
– Кстати, хочу познакомить вас с одним человеком... Уважаемый Каримбай! – позвал полковник стоявшего неподалёку низкорослого толстяка в европейском костюме. – Прошу, господа поэты, любить и жаловать будущего редактора и одновременно хозяина новой газеты, которая после первого января начнёт выходить в Маргилане на узбекском языке.
Толстяк, приложив правую руку к сердцу, поклонился.
– Господин Каримбай, – журчал Медынский, – расскажите нам о планах вашей газеты. Кого вы будете ругать, кого хвалить?.. Перед вами, возможно, ваши будущие сотрудники.
– Моя газета предполагает уделять внимание прежде всего вопросам торговли, – густым басом сказал Каримбай. – Мы хотим оживить деловые связи наших узбекских предпринимателей и сделать их известными всему Туркестанскому краю. Торговля – двигатель прогресса. Тот, кто хорошо торгует, обогащает себя и способствует процветанию своего народа.
– Ну, а просвещение, знания? Надеюсь, об этом вы тоже не будете забывать?.. Взять хотя бы новометодные школы. Я думаю, что они принесут огромную пользу. И в первую очередь детям, молодёжи... Не так ли, господин Хамза?
– Вы совершенно правы, господин полковник, – согласился Хамза. – Новометодные школы ускорят образование в несколько раз.
– Скажите, почтенный, – вступил в разговор Завки, обращаясь к Каримбаю, – собираетесь ли вы показывать своим читателям некоторые неблаговидные дела людей торговли – обман, например, взяточничество или какие-то другие злоупотребления?
– Я бы, конечно, мог печатать в своей газете и такие статьи, – загудел толстяк, – но зачем они мне?.. Если я буду высмеивать торговцев и купцов, они не станут печатать у меня рекламу своих товаров. И доходы мои начнут уменьшаться, а потом и вовсе придётся газету закрывать... Я, господа, смотрю на газету прежде всего как на прибыльное коммерческое предприятие. А коммерция убытков не любит, она требует только дохода, причём постоянно растущего. Иначе не стоит и дело начинать... Так что ни о каких злоупотреблениях я в своей газете писать не собираюсь, зачем же заранее намечать себе убытки? Это невыгодно. Я хочу издавать газету, продавать её читателям и за это получать прибыль. Другое меня не интересует.
– Вот видите, господин полковник, – усмехнулся Хамза, – а вы говорили о пропаганде знаний... Новая газета в Маргилане замышляется её будущим издателем только как торговое дело... Но почему бы вам тогда не купить себе завод и не начать торговать хлопком? С газетой много хлопот...
– Завод или газета – какая разница? Был бы хороший доход...
– Ну что уж вы так всё измеряете только деньгами! – с неподдельным возмущением воскликнул Медынский. – Есть же идеалы, высокие цели и помыслы, есть прекрасное служение делу народного просвещения!
Полицмейстер говорил с таким пафосом, что Завки даже отвёл в сторону взгляд.
– Вся наша беда заключается в том, – серьёзно сказал Хамза, – что дело просвещения находится в руках людей, для которых, кроме прибыли, ничего больше не существует на свете... Нет, видно, не дождаться нам от новой газеты защиты наук и знаний... Что ж, придётся продолжать бороться за просвещение там, где это даёт конкретный результат, – в школах для детей бедняков и неимущих.
– Кстати, о вашей воскресной школе, – элегантно, по-светски переменил неприятную тему полицмейстер. – До меня дошли слухи, что против неё строят какие-то козни, хотят закрыть... Почему? Отчего?
– Наверное, потому, что я обучаю вместе мальчиков и девочек.
– Вместе? – удивился Каримбай. – Ну, это уж слишком... Как правило, наши женщины редко используют образование, если даже получают его. Выучилась читать и писать – и слава аллаху!.. Вот, скажем, живёт у вас в Коканде грамотная женщина. Но разве книги у неё на уме? Совсем нет. Да ведь это и естественно! Женщина создана для продолжения рода человеческого, а не для того, чтобы двигать вперёд науки. Это занятие для мужчин.
Завки вдруг увидел, как лицо Хамзы начало покрываться красными пятнами. Он взял Хамзу под руку, как бы говоря ему: успокойся, успокойся...
Но Хамза весь уже был во власти своего нового настроения.
– И вы хотите, чтобы так было всегда? – впился Хамза своими ставшими острыми как иголки зрачками в лицо Каримбая. – И с такими идеями вы собираетесь издавать серьёзную газету?.. Вот вам уровень просвещения, господин Медынский! Деньги, деньги, только деньги, и ничего больше!.. Но вы, Каримбай, конечно, никогда не осмелитесь написать об этом в своей газете...
– А кому это интересно знать? – нахмурился Каримбай.
– Большинству нашего народа!.. – взорвался Хамза. – Тем, кого вы считаете людьми низкого происхождения!!
– Но они не будут читать мою газету! Они неграмотны!
– Сейчас не будут, сейчас неграмотны, но уже близок день, когда они избавятся от своей темноты...
– Не знаю, чему уж вы там учите детей в своей школе, – воинственно надулся Каримбай, – но ни один уважающий себя мусульманин не отдаст своего ребёнка вам на обучение...
– Вы-то, конечно, не отдадите!
– А зачем? Я человек богатый. Мои дети учатся в других школах. Им нечего делать среди детей босяков и нищих!
Хамза побледнел. Лицо его заострилось. Ненависть душила.
Он сдерживался из последних сил.
– Да, двери моей школы и моей души всегда будут открыты только для детей бедняков, потому что им нет места там, где учатся ваши дети! – Он обернулся к Медынскому. – Вы напрасно меня пригласили сюда, ваше превосходительство... Мне нечего здесь делать. Я рабочий! Я работаю на заводе, а не торгую хлопком, газетами, мыслями, людьми! У всех ваших гостей один бог – нажива! Я же верую в других богов – в правду, в справедливость, в честность, в народ! И поэтому мне нечего здесь делать... Извините за резкий тон.
И, круто повернувшись, Хамим пошёл к выходу.
Завки поспешил за ним. Теперь это был его ученик – тот самый поэт Хамза, через сердце которого проходили все беды, вся боль мира.








