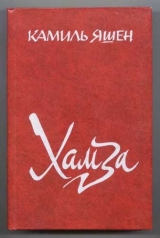
Текст книги "Хамза"
Автор книги: Камиль Яшен
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 43 страниц)
Садыкджан-байвачча после неудачи на улаке снова впал в тяжёлый запой. Но теперь он пил не дома, а ездил из ресторана в ресторан, занимал отдельные номера, заказывал ящиками шампанское, шумел, бушевал, бил посуду, плакал, забывался хмельным сном, чтобы утром всё повторялось сначала.
Байвачча боялся оставаться один – он ни на шаг не отпускал от себя Алчинбека. Что-то сломалось в его натуре после смерти Зубейды, какая-то глубокая трещина расколола мозг и волю.
Мозг стал тупым, воля – дряблой. Байвачче ничего не хотелось.
У него было только одно желание – пить, пить как можно больше, заливать водопадом алкоголя непрерывно нарастающий в голове огненный, звериный вой, душить спиртным возникающую каждую минуту в душе истерику.
Садыкджан никого не мог видеть. Сошедшая с ума Шахзода была удалена из города. Под присмотром старших жён и специально выписанного из Ташкента врача она сидела в далёком деревенском поместье.
Где-то ещё жила Зульфизар, но где? Байвачча не мог вспомнить. Её прятали в одном из пригородов Коканда Эргаш и Кара-Каплан, которым была выделена значительная сумма денег, чтобы они держали контроль и за любовницей, прелестей которой хозяин так и не успел оценить, и за повредившейся умом женой, спасая её от судебных инстанций, и за всеми остальными жёнами, караулившими Шахзоду.
Эргаш и Кара-Каплан всё время разъезжали из Коканда в далёкое деревенское поместье и обратно, буквально разрываясь от своих новых обязанностей. Пили оба, несмотря на высокую миссию телохранителей садыкджановских жён, возложенную на них вместе с предоставлением большой финансовой свободы, тоже вмёртвую.
Смерть Зубейды надломила байваччу, он всё забросил, дела шли вкривь и вкось, и только усилиями Алчинбека удавалось сохранить относительный порядок на заводе и в конторе.
Правда, иногда на Садыкджана нападало просветление, и он, опухший, разбитый, с чугунной головой, мающийся от похмелья, с отвращением читал и подписывал деловые бумаги и снова погружался в застойное пьяное небытие.
В ресторане было многолюдно. Все столики были заняты.
Байвачча и Алчинбек сидели в углу. Напротив них пыхтел сигарой старый партнёр Садыкджана, известный английский торговец хлопком мистер Уиллкинс.
– Я прошу снять с каждого пуда ещё пятьдесят копеек, – сказал англичанин.
Алчинбек перевёл.
– Гривенник, – мрачно сказал байвачча.
– Ноу, ноу! – замахал руками мистер Уиллкинс. – Это немилосердно!
– Налей, – приказал Садыкджан Алчинбеку.
Чокнулись. Выпили.
– Пятнадцать копеек, – буркнул байвачча.
– Сорок пять, – выпустил англичанин облако дыма.
– Двадцать.
– Сорок.
– Двадцать пять и ни копейки меньше! И выпьем за хлопок, который был моим, а стал твоим.
– Я уезжаю, – насупился мистер Уиллкинс.
– Уезжай! – стукнул байвачча кулаком по столу. – Русские купят!
– Я не понимаю, – лицо английского купца выражало обиду, – почему мы не можем договориться? Столько лет мы честно вели деловые отношения... Что случилось?
Алчинбек перевёл.
– Удержите мою цену, – шепнул ему Уиллкинс, – и будете иметь от меля презент. Тысячу фунтов.
– Вы чего там шепчетесь? – подозрительно наклонился вперёд Садыкджан. – Обмануть меня хотите? Не выйдет... Официант, шампанского!
– Мой хозяин пережил сильную душевную травму, – ответил англичанину Алчинбек. – Войдите в его положение... Я беру пятьсот фунтов, а вы соглашайтесь на тридцать копеек. Больше он не уступит.
Мистер Уиллкинс взял карандаш и быстро произвёл подсчёт.
– Хорошо, я согласен на тридцать копеек. Но вы получаете не пятьсот, а четыреста фунтов.
– Почему же четыреста? – возмутился Алчинбек. – Я и так сбросил вам из своей доли ровно половину.
– Четыреста пятьдесят, – горячо заговорил Уиллкинс, – и я подарю вам фамильный портсигар моего дедушки, который был с ним во время Трафальгарской битвы, когда великий Нельсон утопил весь флот Наполеона!
Байвачча с ненавистью смотрел на англичанина и Алчинбека.
Ему казалось, что оба они что-то затевают против него. Просветление кончалось. На байваччу надвигалась чёрная гора.
– Долго вы будете шептаться! – заорал Садыкджан, и половина ресторана оглянулась на их столик. – Мне противно на вас смотреть! Меня тошнит от ваших секретов!
– Он согласен на тридцать копеек, – пытался успокоить байваччу Алчинбек. – Он берёт всю партию и на следующий год приедет опять.
– Мой друг, – положил англичанин руку на плечо Садыкджана, – я торгую с вами только из-за своей искренней любви к вам... Каждая поездка сюда, в Туркестан, через всю Россию отнимает у меня два года жизни. Легче добраться до края света, чем преодолеть чудовищные расстояния русской империи. Пожалейте меня! Пойдите мне навстречу, мой друг. Тридцать копеек – это моя последняя цена. Я стану нищим, если добавлю ещё хоть одну копейку. Я не смогу больше торговать хлопком...
– Да чёрт с ним, с этим хлопком! – дёрнул на себя скатерть Садыкджан. – Хлопок, хлопок!.. Провались он в преисподню!.. Согласен на тридцать копеек, но ещё полдюжины шампанского пусть берёт за свой счёт!
– Дюжину! – благодарно затряс Уиллкинс руку байваччи. – И ужин за мой счёт!.. Но только, друзья, мы должны сейчас же поехать на завод и посмотреть хлопок. Летом у вас шли сильные дожди...
– Не хочу на завод! – капризно надул губы байвачча. – Провались он в преисподню!.. Ненавижу все заводы, весь хлопок, всех баб, людей, рабочих, собак, Эргаша ненавижу!..
– Но, не посмотрев хлопок, я не подпишу чек...
– Хочу на завод! – вдруг встал Садыкджан. – Пора навести порядок!.. Я люблю рабочих!.. И женщин люблю... Где Эргаш?
Чёрная гора отодвигалась. Байвачча тряхнул головой.
– Едемте, господа, – сказал он уже нормальным голосом. – Алчинбек, где машина?
– У подъезда.
Гора снова придвинулась.
– Ну, пошли, Британия... У-у, колонизатор проклятый! Почему индусов из пушек расстреливали? Привязали к пушкам... и – пополам!..
– Хелло, Туркестан! Хелло, Россия!
– Слушай, Джон Буль-Буль... Ты папуасов любишь?
– Люблю, мистер Садыкджан, очень люблю!
– А их – тоже из пушек?.. А потом меня к пушке привяжешь? Я ведь тоже туземец...
– О сэр, как можно?
– Знаю я вас!.. И королеву вашу знаю!.. Она кумыс любит?
– Очень любит. Каждый день пьёт чай с кумысом.
– А у вас в Англии кумыс есть?.. Приезжай на следующий год вместе с королевой. Прокачу на верблюде, шашлык будем жарить, плов сделаем...
– Благодарю, сэр...
– А ты попугаев любишь?
– Обожаю.
– Алчинбек, где машина?
– Сюда, сюда...
Висевший в воздухе хлопковый пух напоминал хлопья снега.
Оседая, он накрывал собой тюки и грузчиков. Людей почти не было видно, слышны были только их выкрики.
Хамза работал вместе с казахом Сабитом. Вместе они непрерывно загружали арбы, подъезжавшие одна за другой.
Сегодня выдавали зарплату. Из-за неё-то и разгорелся весь сыр-бор. Слово за слово, разговорились, и Сабит спросил у Хамзы:
– Хамза-ака, мне хочется узнать у вас... Почему нам, узбекам и казахам, платят в три раза меньше, чем русским? Что мы, хуже работаем?
– Эх, Сабит... – похлопал его по плечу Хамза. – По-моему, делают это нарочно. Всё дело в том, что нас хотят поссорить с русскими.
– Какая от этого польза хозяевам?
– Они считают, что если мы будем получать меньше, а русские больше, то в конце концов мы должны возненавидеть их. Ибо они народ, разбирающийся в своих правах, а мы – смирные, тёмные и послушные, подобные баранам.
Молча продолжали работать. Пока нагружали одну арбу, вторая стояла уже наготове... Сабит, вытирая пот со лба, снова спросил:
– Нам с вами по полтаньга, а им по полтора таньга. Чем же они лучше нас?
– Ничем не лучше, но я же сказал тебе – они разбираются в своих правах, а мы нет. Конечно, хозяевам завода выгодно иметь дело с такими дешёвыми в цене рабочими, как мы с тобой. Была бы их воля, они вместо русских нанимали бы только нас.
Неожиданно он опустил на землю очередной тюк – от заводских ворот к нему шёл доктор Смольников. Рядом с ним семенил какой-то мальчик.
– В чём дело? – спросил Сабит.
– Отдохнём немного, – тревожно сказал Хамза и пошёл навстречу доктору.
– Здравствуйте, Хамза, что вы тут делаете? Грузчиком работаете?
Доктор делал вид; что и в мыслях не допускал встретить здесь Хамзу, что он очень удивлён.
Хамза, поняв игру, ответил, потупясь:
– Семья у меня, жить надо... А здесь заработки хорошие.
– И давно вы здесь уже работаете? – говорил Смольников явно для чьих-то ушей, слушавших их разговор.
– Нет, недавно.
– А я и не знал...
– Что случилось, доктор? – почти не шевеля губами, спросил Хамза.
– К больному вызвали...
– А я испугался, подумал, что произошло что-нибудь со Степаном...
– Нет, нет, у нас всё в порядке, а здесь одному из рабочих стало плохо...
Доктор пошёл за мальчиком.
– Пойдём-ка, Сабит, узнаем, что там, – сказал Хамза.
В цехе очистки плясала настоящая белая метель. С верхнего люка хлопок падал так густо, что сразу вспомнилась поговорка:
"Снег, кружащийся аистом". Работа была остановлена, все растерянно стояли над рабочим, который, чувствовалось, задыхаясь от нехватки воздуха, лежал обессиленный на куче хлопка.
Когда в цех вошёл доктор, кто-то крикнул: "Да остановите же пока!" Люк закрыли, хлопковый поток прервался, но пыль, будто густой туман, долго ещё висела в воздухе. Рабочие, уши и ноздри которых были забиты пылью, словно рыбы, оказавшиеся на суше, дышали, широко раскрыв рты.
Мальчик, приведший Смольникова, опустился около больного. Это был его отец. Хлопок вокруг его головы был заплёван кровью.
– Папа, папа! Ты слышишь меня? Я нашёл, я привёл доктора...
Но отец не издавал ни звука.
Все, кто работал на заводе Садыкджана, знали, что эта работа равносильна медленному умиранию. Но люди вынуждены были идти сюда – не камни же грызть...
Большинство выдерживало не более года, а то и полгода.
Астма была обеспечена всем. Месяц назад умер совсем молодой парень. Не прошло и двух недель – второй.
Доктор Смольников, зная об этом, молча стоял над больным.
– Да, всё то же самое, – сказал он наконец. – Лёгкие его забиты пылью. – Он приложил ухо к груди рабочего. – Не может дышать... Вынесите на воздух, подальше отсюда.
И в этот момент в ворота завода въехала машина, в которой сидели Садыкджан-байвачча, купец-англичанин и Алчинбек.
Навстречу им толпа вынесла из цеха потерявшего сознание рабочего.
– Что это? – спросил англичанин.
– Нас встречают, – пьяно ухмыльнулся байвачча. – Так происходит всегда, когда я приезжаю сюда.
Рабочие расступились.
Алчинбек первый всё понял. Выскочив из машины, он побежал за управляющим.
– Что тут происходит? – тяжело ступил на землю Садыкджан. – Почему никто не работает? Почему лежит этот человек?
– Его лёгкие забиты пылью, он задыхается, – объяснил доктор Смольников.
Байвачча, пытаясь наклониться, еле удержался на ногах.
– А он не пьяный? – Хозяин завода покачнулся.
– Нет, не пьяный.
– Откуда вы всё знаете?
– Я работал врачом в рудниках на каторге и много раз видел людей в таком состоянии.
– Напрасно вы вернулись с каторги...
– Там людям жилось намного легче.
Во двор вбежал управляющий.
– Что делает здесь русский табиб? – накинулся на него байвачча. – Как он попал сюда, разве тут больница?
Хамза, будучи не в силах больше сдерживаться, вышел вперёд:
– Это я позвал врача...
Увидев Хамзу, Садыкджан задохнулся от злости.
– Что ты здесь делаешь, негодяй?
– Работаю, – глядя в ненавистное лицо, сказал Хамза. – А если тут есть негодяй, то...
– Спокойно, – сказал сзади доктор Смольников.
– Зачем ты взял на завод этого смутьяна? – заорал байвачча на управляющего, хватая его за халат.
– За него просил ваш племянник...
– Какой ещё племянник? – продолжал орать Садыкджан и, обернувшись к машине, увидел совсем забытого им Уиллкинса.
Англичанин с ужасом смотрел на всё происходящее.
Чёрная гора отодвинулась от Садыкджана – он вспомнил, что Джон Буль-Буль ещё не подписал чек.
– Послушайте, Смольников, – нервно заговорил байвачча, – вы можете что-нибудь сделать, чтобы этот человек поднялся? Не изувечила же его машина до такой степени, что нельзя стоять на ногах? У меня в машине сидит покупатель из Европы, весь хлопок ему продан... Если поднимете, плачу сразу.
Хамза слышал слова Садыкджана.
– Мне ваши деньги не нужны, – сказал доктор. – Обещаете уравнять зарплату рабочим?
– Обещаю!! – рявкнул байвачча.
Доктор приказал вскипятить воду.
Сын лежавшего на хлопке рабочего развёл костёр из пропитанных мазутом тряпок. Смольников склонился над его отцом.
Управляющий уговаривал рабочих вернуться в цех, грозил привести полицию. Рабочие не двигались с места.
Байвачча подошёл к машине.
– Непредвиденные обстоятельства, – объяснил он, – человек отравился несвежей дыней...
– Да, да, я понимаю, – бормотал англичанин.
Мальчик, вскипятив воду, принёс доктору, вытирая слёзы, дымящуюся банку.
– Уже не надо, – глухо сказал Смольников и, поднявшись, снял с головы белую шапочку.
– Вы не сделали то, что обещали, – сказал доктору Садыкджан, чувствуя, что гора опять нависает над ним. – Поэтому и я не стану выполнять своё обещание. Никакого уравнения зарплаты не будет...
Эти слова будто плеснули на сердце Хамзы небывалую, ещё ни разу им в жизни не испытанную ярость. Схватив горевший ком тряпок, пропитанных мазутом, он, обжигаясь, обмотал ими длинную палку и побежал к тюкам хлопка, сложенным огромной пирамидой в углу заводского двора. Управляющий, увидев это, закрыл лицо руками. Англичанин, открыв рот и вытаращив глаза, как завороженный смотрел на Хамзу.
– Что ты делаешь, глупец! – завизжал байвачча.
– Если сейчас же не заплатите всем поровну за последние полгода, сожгу хлопок! – срывая голос, закричал Хамза, размахивая факелом.
Рабочие придвинулись к Хамзе.
– Сам сгоришь! – взвизгнул байвачча.
– Сгорю, но сожгу!
И Садыкджан поверил, что Хамза не шутит.
Послали в контору за деньгами.
Хамза стоял около пирамиды хлопка, держа факел над головой. Лицо его было неистово.
Пламя бросало отблески на толпу рабочих. Около их ног лежал только что умерший товарищ.
Принесли деньги. Расчёт был произведён всем поровну, за полгода.
Впервые хозяин завода подчинился требованию рабочих. Это была победа.
Ночью Степан привёл Аксинью в тополиную рощу на окраине города. Это было то самое место, где Хамза в последний раз видел Зубейду.
Из-за дерева вышел Хамза.
– Прощайтесь, – сказал Степан и отошёл в сторону.
Хамза обнял Аксинью, она заплакала.
– Прости, – сказал Хамза.
– Береги себя, – всхлипнула Аксинья.
Подошёл Степан.
– Всё, идти надо. А то не ровен час...
Аксинья перекрестила Хамзу.
– Жди меня завтра на мельнице, – сказал Степан Хамзе. – К утру буду.
5
Прошло несколько месяцев после случая на заводе. Хамза не показывался в Коканде. Он ездил в Ташкент, встречался на железнодорожных станциях со Степаном Соколовым, возил в Бухару и Самарканд запрещённую литературу.
Последние две недели пришлось жить на мельнице неподалёку от Коканда, где была оборудована подпольная типография. Надо было помогать Степану печатать листовки.
...Большое колесо вращалось тяжело, медленно, словно нехотя. Журчала падающая с лопастей вода.
Хозяин мельницы помог пожилому дехканину погрузить на ишака мешок с мукой.
– Пусть будет добрым твой путь, – прощаясь, сказал мельник. – Привози ещё.
– Нечего больше привозить, – вздохнул дехканин. – И это зерно взял взаймы.
В комнате на втором этаже мельницы сидели Хамза и только что приехавшие из города Соколов и Умид – служащий одной из кокандских типографий. Умид был ещё молод и хрупок, как юноша, но пенсне и маленькая бородка придавали ему солидный вид.
Около него лежала на полу наборная касса.
Степан снял сапог, поддел ножом подмётку, вытащил мелко сложенный листок бумаги. Это была страница из "Рабочей газеты".
– Вот статья Ленина, – сказал Степан, – нужно срочно перевести на узбекский язык. Сколько тебе понадобится времени?
– Я ещё никогда не переводил Ленина, – улыбнулся Хамза, – но постараюсь сделать побыстрее.
И он сел за перевод.
Через три часа всё было готово.
Ночью спустились в подвал мельницы. Степан открыл тайник в стене – в маленькой нише стоял печатный станок.
– Начинаем, – сказал Соколов.
– Завтра Ленина будут читать в Коканде. – Умид поплевал на руки. – Да поможет нам аллах сделать узбекские листовки не хуже русских.
Быстро росла стопка оттисков. Умид работал сноровисто, быстро. Степан и Хамза проверяли текст.
Вдруг в дверцу подвала постучали.
– Это я, – раздался снаружи голос хозяина мельницы, – прячьте всё скорее!
– Что там? – напружинился Соколов.
– На том берегу солдаты...
– Живо! – скомандовал Степан.
Умид засунул в нишу станок и наборную кассу.
– Что с листовками делать? – шёпотом спросил Хамза.
– В муке зарыть! – зашептал Степан. – Вон ларь у стены стоит...
Открыли потайной люк и вылезли из подвала возле самой воды. Хозяин мельницы уже стоял на берегу, около камышей.
– Тихо, тихо, – приложил он палец к губам, входя в камыши. – Идите сюда...
Хамза, Соколов и Умид сползли за ним. Вода была всем по горло.
– Где солдаты?
– Вон они...
На противоположном берегу реки на широкой поляне выстроилась шеренга солдат с винтовками. Перед ними сбились в кучу несколько изломанных фигур. Все были босы, в изорванных нижних рубахах, в кальсонах. Двое еле стояли на ногах. Их поддерживали под руки.
Чуть поодаль расхаживал грузный человек в рясе с большим крестом на груди.
– Это из гарнизона, которые бунтовали, офицера убили, – зашептал Степан. – Неужто солдаты своих же солдат будут расстреливать?
– Тише, тише, – просил мельник.
– Раздать лопаты! – донёсся с поляны властный голос.
– Пересветов! – узнал Степан. – Палач, сучья лапа...
– Мельницу осмотрели? – спросил у кого-то ротмистр. – Нам свидетели не нужны.
– Там ночью, ваше благородие, никого не бывает.
– Осуждённым рыть могилы, – приказал Пересветов.
– Не будем рыть! – крикнули из группы людей в нижнем белье.
– Незакопанными будете валяться, непогребенными...
– Закопаешь, сволочь, если свидетели не нужны!
– Ну что ж, логично. – Ротмистр закурил. – Батюшка, приступайте.
Священник подошёл к приговоренным.
– Исповедуйтесь, братцы... Просите у бога прощения... Спасите души словом Христовым...
– Какой ещё бог, если ты, падаль бородатая, землю топчешь, мозги дуракам вкручиваешь!
– Не раскаявшись уходите из мира сего! – повысил поп голос. – Господь не простит... В геенне огненной гореть будете!
– Вместе с тобой, с жуликом!
Священник вернулся к ротмистру.
– Бесполезно. Неисправимы.
Пересветов бросил папиросу.
– Взво-од, слушай мою команду-у...
– Стреляйте скорее!.. Эх вы, темнота!.. Пусть совесть вам всю жизнь душу жгёт... Кого убиваете? Своих!..
– За бунт, за измену присяге и государю императору... Огонь!!!
Залп. Долгое эхо в ночи.
– Ваше благородие, один, кажись, шевелится...
– Кто там ещё шевелится?
– Голубенко. Он завсегда живучий был...
– Добить! – Ротмистр закуривает. – Никому шевелиться уже не положено.
Выстрел. Одинокий. Последняя душа отлетела на небо.
Хамза почувствовал, как стоявший рядом в воде Умид сотрясается от беззвучных рыданий.
– Тише, тише, – просит хозяин мельницы.
– Могилу копайте одну! – рычит на другом берегу ротмистр. – И поглубже... Батюшка, коньяку не желаете? Что-то ночь сегодня холодная...
Все вернулись в подвал.
– Как? Как они могли оказаться здесь? – горестно посмотрел на мельника Соколов. – На волоске же всё висело... Типографию могли погубить, листовки готовые...
– Не знаю, – растерянно пожал плечами мельник, – ума не приложу... Знают, что ночью на мельнице никого не бывает, вот и выбрали пустынное место.
Степан снял мокрую одежду, начал выжимать воду. Хамза ссутулясь, сидел на груде пустых мешков. Умид горбился в углу.
– Что, Хамзахон, – жёстко сказал Степан, – видел революцию без жертв?
Хамза молчал.
– В одной казарме небось солдатики жили, – продолжал Степан. – И как мясники... Голубенку, видать, в упор добивали... Эх, Пересветов, висеть тебе когда-нибудь на хорошем суку! Своими руками петлю затяну, не поленюсь, душа с тебя вон...
– Нет, нет, нет! – вскочил вдруг в углу Умид. – Они могли прийти сюда!.. Нас тоже могли расстрелять... и в общую яму!.. А я не хочу, не хочу! У меня семья, дети!
– Речная вода охлаждает, а ты что-то разогрелся, – угрюмо сказал мельник.
– К чёрту! Все листовки в огонь! – бесновался Умид. – Надо уничтожить улики!.. С меня хватит!.. За нами придут, нас расстреляют!.. Я не могу!.. – С неожиданной силой он рванул на себя крышку тайника, схватил наборную кассу со шрифтами и потащил её к люку. – Утопить всё это железо! На дно! Я не переживу больше такого страха!..
Степан Соколов – в нижней рубашке, в кальсонах – оторопело смотрел на Умида, ничего не понимая, не двигаясь с места.
– Стой! – вскочил с места Хамза. – Перестань! Положи кассу на место!
Мельник кинулся наперерез Умиду, но тот толкнул его железным ящиком в грудь, сбил с ног.
Хамза схватился за ящик с другой стороны.
– Отдай шрифты!
– Отойди! Убью!
Вырвал кассу...
Хамза одним прыжком настиг его. И, размахнувшись, ударил.
Упало пенсне, посыпались металлические буквы.
– Ты, ты, мусульманин, ударил меня, мусульманина! – корчился на полу Умид. – Это они, русские, жестоки и беспощадны, готовы расстреливать друг друга, вешать!.. А ты, ты!..
Степан брезгливо перешагнул через Умида.
– Не скули, размазня! – Показал на Хамзу: – У него мёртвую мать обыскивали... И мусульмане, и русские!.. Нету мусульман одинаковых, и русских нету...
Мельник, потирая ушибленную грудь, собирал шрифты.
– Слабый ты оказался, гражданин типографский работник... Куда мы только смотрели, когда тебя в партию принимали... Подвинься, буквы под тобой лежат...
Умид отполз в угол.
– Мне не нужна такая революция, где льются реки крови... Я против насилия... Это вульгаризация революционных идей!
– Если ты не замолчишь, – дрогнувшим голосом сказал Хамза, – я ударю тебя ещё раз.
– Бей, бей, – всхлипнул Умид, – но я всё равно буду искать другую дорогу в революцию. Без жертв, без крови, без убийств...
– Где-то я уже слышал однажды такие слова, – усмехнулся Степан, одеваясь.
– Больше не услышишь, – заскрипел зубами Хамза.
Соколов подошёл к Умиду, ткнул в него пальцем.
– Вот, Хамзахон, смотри и запоминай. Узнаёшь портрет?
– От него ничего не осталось, – отвернулся Хамза.
– А теперь плюнь и забудь. И разотри. Навсегда.
Степан рывком поднял с пола Умида.
– Шрифт, говоришь, хотел в реку высыпать, улики спрятать? А не за этот ли шрифт людей на том берегу только что закопали?
– Я честный человек, – дёрнулся Умид.
– Но жидкий, – выпустил его Степан, – а нам таких не надо. Уходи!.. И если будешь другую дорогу в революцию искать, делай это где-нибудь подальше отсюда.
Умид ушёл.
– Вот и поговорили, ребятушки, по душам, – покрутил головой мельник. – Э-хе-хе, чего только страх с человеком не делает...
В доме святого Мияна Кудрата собрались все высшие духовные лица Коканда – ишаны, муфтии, мудариссы, имамы больших мечетей. Рядом с хазратом Мияном расположились Камол-кази и шейх Исмаил. Чуть в стороне облокотился о пуховые подушки Садыкджан-байвачча. (После испытанного перед собственными рабочими унижения байвачча, бросив пить, ударился в другую крайность – регулярно посещал мечеть и усердно молился аллаху.)
А в дальнем углу комнаты, около дверей, одиноко сидел с поникшей головой лекарь Хаким, отец Хамзы.
– Ибн Ямин! – громко произнёс святой, сумрачно поглядывая из-под густых бровей.
– Слушаю вас, мой хазрат.
– Мы, преисполненные жалости к вам, призвали вас сегодня к себе, чтобы помочь вам и дать наш совет.
– Направьте на путь истины грешного человека, мой хазрат.
– Говорите, Камол-кази, – сказал хазрат и сделал знак судье. – Говорите всё.
Камол-кази кашлянул. Даже кашель его был похож на угрозу.
Ибн Ямин вздрогнул, бросил быстрый взгляд на судью и, робко приложив руку к груди, опустил глаза.
– Слушаю вас, кази.
– Вы мусульманин, ибн Ямин, – начал Камол, – вы испытали много горького на этом бренном свете. Говорить много об установлениях шариата вам не приходится – вы их соблюдаете. Но вот ваш сын Хамза... Он причиняет слишком много мук вашей душе, не так ли? И мы не можем позволить, чтобы вы, мусульманин, страдали. Недавно ваш сын ещё в одной газете высмеял рамазан...
– Мой сын никогда не посмел бы высмеять рамазан, таксыр. Хамза не посещает мечеть, но он молится дома... Спросите у его близкого друга Алчинбека, и он подтвердит вам это. А кроме того, могу ли я говорить неправду около нашего великого хазрата?..
О своём благочестии мой сын написал даже стихи, вот они:
Видят все, от благ мирских отказавшись, молитвам предаюсь.
Чтоб грехов избежать. Спасение души даруй, о боже!..
Все переглянулись. Стихи были действительно благочестивые, что уж там говорить.
– Но я прочитаю вам совсем другие стихи вашего сына, – продолжал судья. – Известно, что славный рамазан все приверженцы ислама встречают с великой гордостью. Наши баи открывают двери щедрости. Самый уважаемый, самый богатый и самый народолюбивый человек Коканда наш Садыкджан-байвачча выделил зякет – денежный дар для всего народа Коканда.
И вот какое стихотворение написал об этом ваш сын:
Не думай, что ликуют бедняги от зякета,
Все они от гнёта бая стонут...
Но не думай, что обречены они вечно на унижение,
Придёт день, и станут шахи нищими, а нищие шахами!
– Вздор! Ложь! Кощунство! – замахал руками самый народолюбивый человек Коканда. – Это слова, направленные против воли аллаха! Вместо того чтобы превозносить день и ночь его величество русского императора, ваш сын смеет говорить такие неподобающие слова!.. Не хочет ли он сказать этим, что его величество падёт завтра с трона и станет нищим, а его трон займут какие-нибудь нищие?
– Кощунство! Кощунство! Грех великий! Человеку, написавшему эти мерзостные слова, быть в преисподней! – закричали, потрясая кулаками, имамы, ишаны, муфтии и мудариссы.
– Сам аллах раздаёт милости своим рабам божьим, – продолжал Садыкджан. – Ваш сын взялся заботиться о бедняках, но его собственные дела, насколько я знаю, не так уж хороши. Он сейчас ничего не зарабатывает, а у него жена и ребёнок. А ведь, работая у меня на заводе, он получал хорошие деньги. Сам шайтан, русские мастеровые и еретические книги сбили его с пути, и он куда-то исчез... Сейчас ваш сын снова появился в Коканде – семья потянула к себе. Но честные мусульмане не могут спокойно спать, зная, что Хамза в городе... Я скажу о себе. Перед своим уходом из Коканда ваш сын чуть было не причинил мне колоссальные убытки. Он хотел поджечь огромную партию хлопка стоимостью в несколько сот тысяч рублей. Я спрашиваю вас, ибн Ямин, могу я сейчас спокойно спать, зная, что Хамза в городе? Ведь он снова может поджечь мой хлопок или ещё хуже – весь мой завод!
– Бай-эфенди, простите меня, ничтожного человека, – повернулся к Садыкджану ибн Ямин, – но я не верю, что мой сын может поджечь ваш завод. И кроме того, пользуясь присутствием нашего великого хазрата, мне хочется внести ясность в одну загадку мира сего... Мы знаем, что и на земле, и на небе всё от бога. Ну, а если так – как знать, может быть, в один день по воле божьей какой-нибудь дровосек действительно станет царём? Ведь всевышний всесилен... Мой сын ещё молод, а в молодости всё кажется доступным и лёгким. Молодому хочется сказать что-то новое, хочется искать новые авторитеты. На нравы и обычаи, оставшиеся от предков, молодость смотрит как на предрассудки. А в чём же тут наша вина, родителей? Мы состарились, а в старости сил становится меньше, а печали больше, лишаешься также ума-разума. Ни в чём не везёт тебе, даже дети выходят из повиновения... Вот такое случилось и со мной. Сын не идёт по моему пути, не слушается меня, что же мне делать?
Наступила тяжёлая тишина. Все ждали, что скажет задумавшийся Миян Кудрат.
– Кощунство! Кощунство! – произнёс наконец хазрат и поднял голову. – Слушайте меня внимательно, ибн Ямин... Народ Коканда не в силах больше терпеть негодных дел вашего сына. Лучшие люди города обратились к нам с письмом, в котором пишут, что ваш сын, выражая свое пренебрежение к муллам, ишанам и многим другим великим духовным санам нашей религии, неоднократно оскорблял в газетах наши обычаи и веру... Вы, будучи отцом Хамзы, не положили конец его отвратительным поступкам, и выходит, что сами руководили его делами, несовместимыми с шариатом. Наконец, вы же, презрев законы ислама, позволили своему сыну взять в жёны женщину другой веры. Вы пустили её жить к себе в мусульманский дом вместе с ребёнком.
Весь верующий народ Коканда требует, чтобы по отношению к вам, табибу ибн Ямину, а также по отношению к вашим детям и ко всем родственникам были приняты самые суровые меры. Чтобы вас изгоняли из каждой махалли, в каком бы кишлаке и в каком бы городе вы ни жили. Чтобы из-под вас вырывали подстилки даже в мечетях. Чтобы вас вообще не допускали в мечети и медресе, не звали ни на праздники, ни на поминки, ни на разговенье после поста и вообще ни на какие торжества. Народ требует, чтобы вас немедленно изгнали из Коканда, не давая даже временного жилища ни в одном квартале, а ваш осквернённый дом сожгли... Если же ибн Ямин, покаявшись в содеянном, перед всем народом проклянёт своего сына, откажется от него, прогонит из дома вместе с русской женой, даст перед народом клятву никогда больше не видеть его и напишет верховному судье письмо, то в таком случае его можно оставить в своем доме и разрешить посещать свою мечеть... В противном случае, написано в письме, если наши власти и блюстители шариата не примут мер, мы сами, закидав ибн Ямина камнями, истребим весь его род...
Вот это письмо, можете прочитать... Его подписали все преподаватели и учащиеся всех медресе, старшины всех кварталов города, имамы всех мечетей...
Снова воцарилась тишина.
Ибн Ямин, не поднимая головы, погрузился в глубокое раздумье... Он вспоминал свою молодость, тяжкие дни своей жизни... Его бедный отец Халбай, находясь в полной зависимости от главного бая кишлака Аввал, похожего вот на этого самого Садыкджана, какие только не претерпел муки... Лишился дома и земли и, будучи не в силах расплатиться с долгами баю, провёл остаток жизни в нищенстве. Бессильный кормить и содержать своего заболевшего сына, вынужден был отдать ребёнка чужим людям, которые увезли его в Самарканд, и отец и сын были разлучены навеки... Отец Халбай прожил свою жизнь, вечно терпя унижения и оскорбления, тоскуя по сыну... Ах, бедный мой отец, так и не дождался он той поры, когда его сын, став табибом, начал зарабатывать немного... Вечно тосковать мне по нему...
Хош, ну ладно, что же всё-таки хочет от него, ибн Ямина, этот Садыкджан – несправедливый, злобный, не имеющий никакой веры, готовый ради золота кинуться с крыши, всю жизнь набивающий мошну, этот дьявол, принявший облик святого, опухший от пьянства, толстомордый обжора с большими кровожадными глазами, которые могут напугать даже лошадь? Он ведь уже отнял у сына Зубейду и погубил её. Чуть было не лишил жизни и самого Хамзу, и если бы это случилось – обрёк бы меня на вечные страдания... Что затеяли теперь эти собаки? Неужели и я, подобно своему отцу, лишившись сына, навек буду разлучён с ним?..








