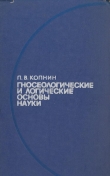Текст книги "Новая философская энциклопедия. Том первый. А - Д."
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 61 (всего у книги 146 страниц)
БОШКОВИЧ(BoSkovic) Руджер Иосип (18 мая 1711, Рагуза, ныне Дубровник, Хорватия – 13 февраля 1787, Милан) – хорватский философ, физик, математик, астроном, дипломат; почетный член Петербургской Академии наук (1760). В главном сочинении «Теория натуральной философии, приведенная к единому закону сил, существующих в природе» (Philosophiae naturalis theoria redueta ad unicam legem virium in natura existentium, 1758), опираясь на идеи Лейбница о монадах и учение Ньютона о силах, развивает учение о динамическом атомизме. Из теории Лейбница заимствует представление о первичных элементах как простых и совершенно непротяженных, а из концепции Ньютона – представление о притяжении и отталкивании как взаимодействующих силах. Первичной основой всех тел, по мнению Бошковича, является существование своеобразного центра сил. Силы, центром которых являются
303
БОЭТ первичные элементы, трактуются как стремление любых двух точек взаимно сблизиться или разойтись. Эти силы изменяются так, что на сравнительно больших расстояниях атомы и тела притягиваются друг к другу, а на малых расстояниях существует только одно отталкивание, которое не дает атомам сливаться друг с другом. Идеи Бошковича о динамическом атомизме и центрах сил, не встретившие поддержки среди современников, предвосхитили достижения науки 19—20 вв.; они получили высокую оценку в работах Д. И. Менделеева и В. И. Вернадского. Соч.: О zakonu konbinuiteta i njegovim posledicama u odnosu na osnovne clemete materije i njihove sue. В., 1975. Лит.: Годыцкий-Цвирко A. M. Научные идеи Р. И. Бошковича. М, 1959; Supek J. Ruder BoSkovic: Vizionar u prijelomima fUozofije, znonosti i druStva. Z., 1989. M. А. Кузнецов
БОЭТ(BoM9oc) Сидонский (2 в. до н. э.) – греческий философ, один из последних представителей Ранней Стой; считался учеником Диогена Вавилонского. Занимался в основном физикой: «О природе», «О судьбе» (Diog. L. VII 148—149), метеорологический комментарий к поэме Арата в 4 книгах (Gernin. Intr. in Phaen. p. 61 А). Испытал заметное влияние перипатетической школы (что не всегда позволяет отличать его от одноименного перипатетика), в частности, не считал мир живым существом (Diog. L. VII 143), представляя божество как нечто запредельное миру (ibid. 148), и отвергал школьную догму о «воспламенении» мира: до «воспламенения» творческий логос оставался бы бездеятельным, что невозможно (Philo Al. De aetern. mundi 16 sq.). В гносеологии разделял «критерий истины» на составные части – ум, ощущение, влечение и знание (Diog. L. VIT 54). Вероятно, занимался мантикой (Cic. De div. I 13; II 47). В позиции Боэта, т. о., уже отчетливо намечается синкретическая тенденция, столь характерная впоследствии для Средней Стой. Фрапи.: SVFIII, 1-11. Лит.: Столяров А. А. Стоя и стоицизм. М., 1995; Moraux Р Der Aristotelismus bei den Griechen, Bd. 1. B.-N.Y, 1973. S. 143, 172 f. А. А. Столяров
БОЭТ(Bor|9oc о ' IiOevioc) Сидонский (1 в. до н. э.) – греческий философ-перипатетик. Упоминается Симпликием как автор комментария на «Категории». В отличие от Андроника Родосского Боэт более консервативен и менее проникнут симпатиями к древнеакадемической и стоической традициям; был известен как критик стоицизма. Лит.: Moraux R Der Aristotelismus bei den Griechen, Bd. l. В., 1973. S. 143—172; Huby P. An excerpt from Boethus of Sidon's commentary on the Categories? – «Classical Quarterly», 1981, 31, p. 398-409. M. А. Солопова
БОЭЦИЙ(Boethius) Аниций Манлий Торкват Северин (ок. 480, Рим – ок. 525, Павия) – римский философ, государственный деятель, христианский богослов. Как философ видел свою задачу в том, чтобы латинизировать и привести к единству греческую философию – Платона, Аристотеля в неоплатоников, укрепив тем самым римскую культуру и государственность перед лицом варварского завоевания. Как богослов стремился перенести на латинскую почву тонкие различения греческого богословия (никейского и халкидонского) в учениях о Троице и об ипостаси и природах Христа. На латинском Западе почитается как отец Церкви; вплоть до 14 в. считался «summus philosophus» – «главным философом». Для латинского средневековья Боэций – один из главных наставников в античной философии и логике, а также в специальных науках (арифметике, геометрии, музыке, астрономии, риторике); один из создателей схоластического метода. ЖИЗНЬ. Боэций происходил из знатного римского рода Анициев. Осиротев в детстве, был усыновлен Квинтом Симмахом, консулом, затем главой сената и префектом Рима. Учился предположительно или в Александрии, или в Риме, или в Равенне – с 493 столице остготского короля Теодориха, завоевавшего Италию. Женился на дочери Симмаха. Сделал при Теодорихе блестящую карьеру: в 510 консул, затем принцепс римского сената; в 522 Теодорих назначает его на должность magister officiorum – уже не только почетный, но реальный пост первого министра королевства. Тогда же почетными консулами назначаются два его малолетних сына. К этому времени он —знаменитейший ритор (писатель) и философ Италии. В 523/524 по обвинению в государственной измене приговаривается к тюремному заключению, затем к смерти. В тюрьме пишет самое известное свое сочинение – «Утешение философией». Казнен в Павии в 524 или 526 (до конца 19 в. в Павии сохранялся местный культ св. мученика Боэция). Обвинялся в том, что 1) стремился вернуть Риму утраченную свободу; 2) пытался защитить сенаторов путем сокрытия документов, уличающих их в «оскорблении величества» Теодориха; 3) занимался магией и осквернял святыни. Первые два пункта сам Боэций признал справедливыми. Вскоре был казнен и единственный его защитник Симмах. СОЧИНЕНИЯ. 1. «Утешение философией». 2. Богословские трактаты (ок. 520): «Каким образом Троица есть единый Бог, а не три бога» («О Троице» 1); «Могут ли Отец, Сын и Святой дух сказываться о Божестве субстанциально» («О Троице» II); «Каким образом субстанции могут быть благими в силу того, что они существуют, не будучи субстанциальными благами» («О Троице» III, или «О гебдомадах»); «О католической вере»; «Против Евтихия и Нестория» (или «О лице и двух природах»). 3. Науки квадривиума (ранние работы, ок. 505—510): «Наставление в арифметике»; «Наставление в музыке»; «Наставление в геометрии» (сохранились отрывки); «Наставление в астрономии» (не сохранилось). 4. Философские работы: а) переводы: «Введения» Порфирия, «Об истолковании» и «Категорий» Аристотеля (переводы обеих «Аналитик», «Топики» и «Софистических опровержений» не сохранились; неизвестно, были ли сделаны переводы «Метафизики», «Физики» и «Этики»); б) комментарии ко «Введению» Порфирия (два: для новичков и для получивших философское образование), к «Категориям» и к «Об истолковании» (два – большой и малый), к «Топике» Цицерона (не сохранились комментарии к аристотелевским «Аналитикам», «Топике» и «Физике»); в) трактаты: «Введение в категорические силлогизмы» («Antipraedicamenta»); «О гипотетических силлогизмах»; «О [логическом] делении»; «Об отличительных признаках в топике» (сохранились фрагменты). Из сочинений Боэция более всего читалось «Утешение», в особенности после эпохи Возрождения; в Средние века больше всего изучались и комментировались богослов– скяе трактаты, особенно «О Троице» I и «О гебдомадах» (известны комментарии Ремигия, Беды Достопочтенного,
304
БОЭЦИЙ Гильберта Порретанского, Кларенбальда Аррасского и Фомы Аквинского). Наибольшее же влияние на формирование латинской средневековой культуры и философии оказали переводы, комментарии и учебники Боэция, в первую очередь по логике. ФИЛОСОФИЯ. Боэция трудно классифицировать, отнеся к определенной философской школе. Сам он, видимо, считал себя платоником – но нельзя забывать, что и Аристотеля он считал несомненным платоником (странно, что он не перевел ни одного диалога Платона; только в «Утешении» заметно влияние «Тимея» и «Горгия»). Он объявляет, что не приемлет учения стоиков и эпикурейцев, но влияние на него Цицерона и в меньшей степени Сенеки очевидно. Он не просто христианин – он признанный Учитель католической Церкви; но по поводу его «Утешения философией» до сих пор идут споры, не язычник ли его написал – там нет ни единого намека на христианский образ мыслей; так что одно время допускалось даже существование двух Боэциев – автора «Богословских трактатов» и автора всего остального (на сегодня единство Боэция более или менее доказано и общепринято). Его комментарии по манере и методу близки к традиционным школьным комментариям греков– неоплатоников и настолько же далеки от римского стиля философствования, насколько близко к нему «Утешение». Отчасти трудность классификации Боэция связана с тем, что он четко различал жанры философствования, строго придерживаясь манеры изложения, языка, строя аргументаций и метода, принятого для протрептика или римского «утешения», комментария, учебника или богословского исследования. По сравнению с Августином Боэций ввел христианскую латинскую философию в русло большей научной и терминологической строгости, одновременно внеся в решение собственно философских проблем значительную долю умеренного аристотелизма. Он первым разработал по-латыни терминологию бытия, что требовалось для изложения тринитарных и христологических проблем, обсуждавшихся на Вселенских соборах, а также для комментирования аристотелевских трактатов. В существующей вещи Боэции различает «бытие» (esse) и «то, что есть» (id quod est). Чистое («простое») бытие = благо, благодаря причастности которому существует все, что существует, – это Бог; только в Боге бытие и то, что есть, тождественны. Самостоятельно существующая вещь как носитель акциденций называется субстанцией, а собственно как самостоятельно (т. е. безотносительно к акциденциям) существующая – субсистен– цией (subsistentia – этим термином Боэций передает два греческих понятия – огхисооц и шооштс). То, чем является данная вещь, суть ее бытия, или на аристотелевском языке форма, обозначается у Боэция неологизмом (единожды, но не в строгом смысле употребленным Августином) essentia – сущность (или, чаще, калькой с греческого то xi fv ervai – id quod est ei esse). Синоним сущности-эссенции – «природа» («природа есть видовое отличие, образующее всякую вещь»). В логическом дискурсе природой, формой, или сущностью вещи будет ее «последний вид», или видовой отличительный признак (differentia specifica); в словесном раскрытии это – определение; правильный ответ на вопрос «Что есть данная вещь?» заключается в указании ближайшего рода и видообразующего отличительного признака (definitio est genus proximum per dinerentiam specificam); так, на вопрос о сущности или природе Сократа, следует ответить «Человек» (последний вид) и дать определение: «Человек есть животное (ближайший род) разумное смертное (отличительные признаки)». Субсистенциями могут быть только индивидуумы, т.е. далее логически неделимые субстанции, как данный человек или данная лошадь. Эссенциями (сущностями) могут быть только последние виды (т. е. такие виды, которые делятся только на индивидуумы, но не на другие, более мелкие виды). К числу субстанций, те. носителей привходящих признаков (акциденций) относятся как самостоятельно существующие субсистенции-индивиды, так и обшие понятия, роды и виды, которые Боэций назвал «универсалиями» – общностями или целостностями. Они существуют, сказываясь об индивидах, только как единичные, в мышлении же существуют только как общие. Боэций четко формулирует вопрос об онтологическом статусе универсалий, указывает все связанные с ним трудности и оставляет его нерешенным; впоследствии именно сформулированная Боэцием проблема положит начало спору реалистов и номиналистов: реальные ли вещи (res) универсалии или только имена (nomina)? Наконец, Боэций выделяет еще один способ бытия: личный. Если некое сущее относится к классу субстанций, если его формальное бытие (essentia), или природа, включает отличительный признак разума (intellectus et ratio) и если оно существует самостоятельно (subsistentia), то оно называется «лицом». Такой способ бытия присущ Богу, ангелам и людям. В Боге, единственном и абсолютно едином (простом), все модусы бытия совпадают: в нем бытие тождественно тому, что есть, и тому, что он есть, т.е. сущности, или природе; он – субсистенция и лицо. Такая всесовершенная полнота бытия во всех его отношениях, целокупность бытия без ущерба и частичности есть вечность. Вслед за Плотиком Боэций трактует вечность как особый модус бытия. «Вечность есть совершенное обладание безграничной жизнью в целом и одновременно» (aeternitas est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio – «Утешение философией» V, 6; ср. у Плотина, «Эннеады» III 7). Для обозначения бесконечного времени Боэций вводит латинский неологизм sempiternitas – «всегдашность». (впоследствии Плотинов– ско-Боэциевское определение вечности полностью принимается и развивается Фомой Аквинским). Множество сформулированных Боэцием тезисов стали фундаментом латинской схоластики: «бытие и благо обратимы» (ens et bonum convertuntur); «личность есть неделимая сущность разумной природы» (persona est naturae rationalis individua substantia); «следует соединять, где можно, веру с разумом» и «божественных вещей следует касаться разумом»; «отношение умножает Троицу»(ге1аио multiplicat trinitatem). Соч.: MPL, t. 63—64; Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 47,1906 (комментарий к Порфирию); 67,1934 («Утешение»); «Утешение философией» и богословские трактаты: ed. Peiper R. L., 1871; ed. and transi. Stewart H. F., Rand E. K. L., 1918-26; transi. Fortescue A. L., 1925; в рус. пер. – «Утешение философией» и другие трактаты, послесловие Г. Г. Майорова. М., 1990. Лит.: Уколова В. И. «Последний римлянин» Боэций. М, 1987; Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в Средние века. М., 1989; Bruder К. Die philosophischen Elemente in den Opuscula sacra. Lpz., 1928; Cooper L. A. Concordance of Boethius. Mass., 1928; Brosch G. J. Der Seinsbegriff bei Boethius. В., 1931;
305
БОЭЦИЙ Patch H. R. The Tradition of Boethius. N.Y., 1935; Schurr V. Die Tinitatslehre des Boethius. Paderborn, 1935; Barret H. M. Boethius: Some Aspects of his Time and Work. Cambr., 1940. Т. Ю. Бородай
БОЭЦИЙ(Boetius) Дакийский, Датский (1-я пол. 13 в., Дания —ум. до 1284) – средневековый логик, магистр искусств (философии) Парижского университета. Автор сочинений «О способах обозначения» (De modis significandi), «О вечности мира» (De aeternitati mundi) и др., комментарии («Вопросы», «Quaestiones») к аристотелевским «Герменевтике», «Аналитикам», «Топике», «О возникновении и уничтожении», «О сне и бодрствовании», возможно также к «Физике». В онтологической логике Боэция всеобщее (универсальное) погружено в конкретное (частное) как его истина, в которой Боэций видит не соответствие понятию, а излучение сущностной силы (энергии) вещи. Познание истины вещей, созерцание начал бытия, высшее (умное) блаженство и исполнение человеческого предназначения по-аристотелевски сливаются у Боэция в одно; философия, сладостное познание истины, и добродетельная практика – это «лучшее возможное для человека состояние, подготовляющее его к блаженству будущей жизни». Все, что не ведет к наибольшему благу, есть тем самым грех. «Все люди отдалены сегодня беспорядочным вожделением от своего высшего блага, за исключением редчайших достойных мужей». Знание широко понятого естества строго отграничивается от веры в чудо. В своих сферах наука и вера автономны и правы; «закон веры не вынуждает христианина разрушать принципы философии». Опережая Канта, Боэций выстраивает два ряда одинаково убедительных доводов в пользу невечности («новизны») и вечности мира. Естественный разум не может выйти из этого тупика, чем пользуются всевозможные путаники. Вера не противоречит разуму и не удваивает истину, когда вводит недоступное для разума сверхприродное измерение «божественного творчества». Непостижимый догмат о начале мира должен быть принят поступком доверия. Подчеркивая свое расхождение с Аверроэсом (Ибн Рушдом), Боэций требует от всякого человека признать над собой закон (lex) божественной воли, чья «форма для разума в принципе непрояснима». Разум, которому должна быть предоставлена неограниченная свобода исследования, постигает вечность мира и человека, сплошную закономерность природы, невозможность личного бессмертия и наслаждается в этом мире познанием истины и деланием добра. Вера открывает тварность мира, историчность человека, возможность чуда, бессмертие души и богообщение как высшее блаженство. Истины разума и веры, различные до противоположности, полноправны и взаимно дополнительны (simul stant). Осуждение тезисов Боэция и Сигера Брабантского в 1277 епископом Парижа Этьеном Тампье за «аверроизм» (по сути последовательный аристотелизм) и учение о двойственной истине, после чего Боэций уехал в Италию искать защиты у папы и по-видимому вступил там в орден доминиканцев, признается теперь недоразумением. Оно было защитной реакцией церковного истеблишмента на угрозу своей мирской власти: поскольку в сфере религии оставлялось только сверхприродное (чудо), гражданское общество могло самостоятельно устраиваться по своей правде согласно нормам аристотелевской «Политики», а церковь призывалась ограничиться проповедью и духов– ничеством в опоре на моральный авторитет при добровольной нищете и полном безвластии, чего вскоре потребовали Данте и Марсилий Падуанский. Соч.: Opera, ed. J. Pinborg et H. Roos adjuvame S. S. Jensen, Hauniae. 1969—; De summo bono, sive De vita philosophi; De somniis. – Grabmann M. Mittelalterliches Geistesleben, Bd. IL Munch., 1936, S. 200—224; в рус. пер.: О высшем благе, или О жизни философа; О вечности мира. – «ВФ», 1994, 5, с. 122—142. Лит.: Steenberghen F. van. Boece de Dacie. – Idem: La philosophie au XI siecle. Louvain-R, 1966, p. 402—411; Wilpert P. Boetius von Dacien. Die Autonomie des Philosophen. In: Miscellanea Medievalia, 3. В., 1964; Schrodter H. Boetius von Dacia und die Autonomie des Wissens: Ein Fund und seme Bedeutung. – «Theologie und Philosophie», 1972,47. В. В. Бибихин
БРАЙТМЕН(Brightman) Эдгар Шеффилд (20 сентября 1884, Хомбрук – 25 февраля 1953) – американский философ, представитель персонализма. Доктор философии (1912), доктор права (1929), доктор теологии (1942). В 1906—08 ассистент преподавателя философии в университете Брауна, в 1912—17 профессор философии, психологии, религии в университете Веслеян в Небраске. С 1919 профессор Бостонского университета, в 1925—51 лектор Гарвардского и Бостонского университетов. Президент Американской философской ассоциации (1936) и Американского теологического общества (1933—34). В религиозно-философской концепции Брайтмена личность рассматривается как самотворческое начало, благодаря ей мир приобретает содержательность, связность и познаваемость. В отличие от своего учителя Б. П. Боуна (1847—1910), в основе персонализма которого лежат религиозно-космологические принципы, Брайтмен строит философию, опираясь на теорию ценностей, философию жизни, проблему соотношения религиозной этики и природных инстинктов человека. Мир личностей, являясь местопребыванием всех ценностей, выступает, по Брайтмену, эмпирической реальностью «личности личностей» – Бога (и в определенной мере его ограничением). В практической жизни свобода личности ограничена и только в стремлении к божественной цели и совершенству достигает своей полноты. Соч.: A Philosophy of Ideals. N.Y., 1928; The Problem of God. N.Y., 1930; Moral Laws. N.Y., 1933; Personality and Religion. N.Y., 1934; A Philosophy of Religion. N.Y, 1940; The Spiritual Life. N.Y, 1942. Лит.: Contemporary Idealism in America. Ed. by С Barrett. N.Y, 1932. H. С. Юлина «БРАТЬЯ ЧИСТОТЬЬ, «Чистые братья» (араб. Ихван ас-сафа') – группа арабо-мусульманских мыслителей, об– разо-вавших в г. Басра (Ирак) в 10 в. близкое к исмаилизму тайное научно-философское общество, от имени которого была написана своего рода энциклопедия из 51 трактата, суммированных в отдельном, 52 трактате (количество и имена авторов остаются невыясненными). Энциклопедия «Братьев чистоты» предназначалась для тех их последователей, которые, поднявшись со ступени слепого доверия религиозной традиции, вступили на путь к высшему, эзотерическому знанию, стоящему над различиями между богооткровенными религиями. Свою задачу «Братья чистоты» видели в том, чтобы с помощью философии очи-
306
БРАУЭР стить позитивный божественный закон (шари'а) от «запятнавших его новшеств и ошибок». Саму философию «Братья чистоты» восприняли эклектически, сочетая в своей системе аристотелизм, неоплатонизм, неопифагореизм и герметизм. Трактаты «Братьев чистоты» охватывают все современные им науки. Вначале излагается математика (свойства чисел, геометрия, астрономия), география, музыка; затем логика и физика и, наконец, теология, окрашенная эзо– теризмом и мистицизмом. Специфическим элементом философских построений «Братьев чистоты», отличающим их от представителей арабоязычного перипатетизма, является широкое использование пифагорейских идей, особенно символики чисел, вследствие чего их систему исследователи нередко квалифицируют как мусульманский неопифагореизм. В логике, физике и метафизике «Братья чистоты» следуют во многом Аристотелю, онтологию которого они дополняют неоплатонической концепцией эманации (схема которой у «Братьев чистоты» отлична от восточно– перипатетической): из Единого (Творца, Бога) проистекает деятельный разум, затем универсальная душа, затем первоматерия.. Эти четыре сущности образуют высшую ступень иерархии бытия. Среднюю ступень составляют «природа» И абсолютное тело («универсальная», или «вторая», материя), способное принимать три измерения. Низшую ступень представляют небесные сферы с семью светилами, четыре элемента (земля, вода, воздух, огонь) и состоящие из них «порождения» – минералы, растения и животные. Мир в целом «Братья чистоты» рассматривают как макроантропос, подробно иллюстрируя параллелизм между строением Вселенной и человеческим телом. В стремлении согласовать религию и философию «Братья чистоты» рационализируют позитивную религию, освобождая ее от антропоморфистских представлений и усматривая во многих концепциях лишь символы и сказания, обращенные к непосвященной, «широкой публике». Так, воскресение следует относить не к телу, а к душе; воскресение последней в свою очередь есть ее окончательное разлучение с телом. Вера в Ад иррациональна, а следовательно, недоступна мудрецу: грешные души находят свой Ад в мире дольнем, в своем собственном теле. Точно также день Большого Воскресения, или Последний День, есть не что иное, как разлучение универсальной души с этим миром и ее возвращение к Богу. Такое возвращение представляет собой цель всякого сущего. Согласно этике «Братьев чистоты», человек в своей сущности добр. Действуя в соответствии со своей природой, он творит благое. Наивысшая из добродетелей – любовь, вдохновляющая на соединение с Богом. Трактаты «Братьев чистоты» оказали большое влияние на последующую арабо-мусульманскую мысль. Особой популярностью они пользовались среди приверженцев исмаилизма. Лит.: Закуев Л. К. Философия «Братьев чистоты». Баку, 1961; Nation I. R. Muslim Neoplatonists. An Introduction to the Thought of the Brethren of Purity. L., 1982. Т. Ибрагим
БРАУЭР(Brouwer) Люйтцен Эгбертус Ян (27 февраля 1881, Оверсхи, Нидерланды – 2 декабря 1966, Бларикум, Нидерланды) – голландский математик, логик, философ, основоположник интуиционизма и один из идейных предшественников и вдохновителей математического конструктивизма. Окончил Амстердамский университет (1903), там же защитил докторскую диссертацию ( 1907) и был старшим преподавателем с 1909 по 1951. На философию Брауэра оказали большое влияние восточные философские учения (буддизм и даосизм) и европейская школа интуитивизма. В свою очередь он сам способствовал развитию европейского интуитивизма, показав громадную роль интуиции даже в самых точных науках. В 1908 в работе «О недостоверности логических принципов» (De onbetrouwbaarheid der logische principes) Брауэр обосновывал тезис, что классическая логика является результатом неправомерного обобщения на бесконечные совокупности тех законов, которые были получены на небольших конечных множествах. Там же он впервые рассмотрел класс контрпримеров, зависящих от нынешнего состояния человеческого знания, а не от «принципиальных возможностей». Напр., мы не можем принимать закон A v 1 А, поскольку мы для многих точно сформулированных утверждений не знаем их истинности и ложности и даже не имеем мысленного процесса, который с гарантией приводил бы к решению данной проблемы. До 1912 Брауэр интенсивно занимался топологией и получил ряд результатов, давших начало современной топологии. Этими работами и своим личным участием Брауэр способствовал становлению российской топологической школы. Затем в течение 15 лет он пытался перестроить классическую математику на основе другой логики и другой интерпретации формул как задач на мысленные построения. Брауэр отрицательно отнесся к огульному принятию тезиса Черча, считая, что алгоритмическая вычислимость не исчерпывает умственных построений, и в ходе полемики с теми, кто безоговорочно принял данный принцип, выдвинул ряд идей, ставших популярными в современной логике, в частности, идею последовательностей, зависящих от решения проблем (прообраз моделей Крипке) и «беззаконных последовательностей». Брауэр впервые показал, что математика и соответственно точные науки могут опираться не только на «позитивные» знания, но и на осознанное незнание, обосновав, т. о., альтернативу позитивной методологии науки в рамках точных наук. Он же в статье «Пространство и точки» (Points and Spaces) наметил новый путь решения парадоксов Зенона на базе бесконечной делимости пространства, не состоящего из точек. Личность Брауэра отличалась глубиной, сложностью и противоречивостью. Он субъективно' характеризовал работы по классической математике как не имеющие никакого смысла, но объективно оценивал их и поддерживал, будучи редактором ведущего математического журнала. Брауэр не допускал вопросов студентов, но вместе с тем терпимо относился к «различиям во взглядах» внутри интуиционистской школы и внимательно выслушивал критику противников. Он высоко оценивал программу Гильберта и, однако, подчеркивал те ее стороны и следствия, о которых предпочитал умалчивать Гильберт. Когда мировая научная и философская общественность расценила теорему Гёделя как провал программы Гильберта, Брауэр выступил в защиту Гильберта, подчеркнув, что эта теорема никак не касается существа программы и означает лишь неудачу одной из попыток реализовать ее. Брауэр еще до
307
БРАХМАН Гёделя подчеркивал неформализуемость любого нетривиального человеческого знания, доводя это до идеи неформализуемости интуиционистской логики, и сам же инициировал работы по ее формализации. Он выдвигал радикальнейшие возражения против классической математики и вместе с тем максимально осторожно подходил к задаче ее перестройки, пытаясь сохранить все, что можно переинтерпретировать на новой основе (это стало ясно сейчас; современники воспринимали любые изменения в привычном математическом мире столь же враждебно, как в свое время неевклидову геометрию). Брауэр отличался глубоким радикальным критическим мышлением и формулировал свои идеи в столь острой форме, что они стимулировали развитие альтернативных концепций. Он отдал дань радикальным политическим увлечениям, поддерживая нацистов вплоть до момента, когда они предательски оккупировали его родину. Брауэр подготовил ряд учеников, положивших начало голландской школе в логике и в неклассической математике. Наиболее известны из них А. Гейтинг, давший первую формализацию интуиционистской логики, и Э. Бет, создавший семантические (аналитические) таблицы и первый пример конструкций, названных впоследствии моделями Крипки. Соч.: Collected works, v. 1. Amst., 1975. Лит.: Newman Я. A., Kreisel G, Luitzen Egbertus Yan Brouwer. – Biographical Memoirs of Fellocos of the Royal Society of London, 15,1959; Панов M. И. Л. Э. Я. Брауэр и советская математика. – В кн.: Тенденции развития современной математики. М., 1987. Я. Я Непейвода
БРАХМАН(санскр. brahman, первоначально – молитва) – одно из системообразующих понятий индийской мысли, означающее абсолютное первоначало бытия и глубинное содержание всех мировых феноменов, структурировавшее мифологические (Брахман персонифицируемый в виде божества Брахмы), ритуалистические и мистические парадигмы всей «ортодоксальной» религиозной традиции Индии, начиная с Брахман, Араньяк и Упанишад (см. Веды). Брахман, отождествляемый (согласно этим текстам) с Атманом как духовным ядром индивида, «обеспечивает» панентеис– тическую картину мира в индуизме, а в философских школах веданты претворяется в Абсолют как универсальное мировое сознание, онтологически трансцендентное и одновременно имманентное миру. Показательно, что парадигма Брахмана как общеиндийская «универсалия мысли» воспроизводится и в махаянском буддизме, который оппонировал ей на доктринальном уровне (ср. шунъята, татхата – «таковость», татхагатагарбха – «зародыш» вселенского Будды). В. К. Шохин «БРАХМА-СУТРА-БХАШЬЯ»—основное сочинение Шан– кары, его комментарий на один из теоретических источников веданты —«Брахма-сутры». См. в ст. «Брахма-сутры» и Адвайта-веданта. «БРАХМА-СУТРЫ» (санскр. Brahma-sutra – «Сутры о Брахмане») – сочинение, традиционно приписываемое легендарному мудрецу Бадараяне, наряду с Упанишадами и «Бхагавадгитой» является частью «тройственного канона» веданты. «Брахма-сутры» рассматриваются как «ньяя– прастхана», т.е. «основание рассуждения», и представляют собой афористически сжатую сводку основных идей Упанишад. Другие названия текста– «Веданта-сутры» (или «Сутры веданты»), «Шарирака-сутры» («Сутры о воплощенной душе»), «Бхикшу-сутры» («Сутры для монахов-бхикшу»), а также «Уттара-миманса-сутры» («Сутры второй мимансы»). Индийская традиция, склонная завышать возраст авторитетных источников, относит появление «Брахма-сутр» к 500—200 до н. э. Современные же исследователи полагают наиболее вероятной датой создания текста временной интервал между 2 в. до н. э. и 2 в. н. э. Хотя «Брахма-сугры» – это признанный теоретический источник веданты, сами по себе они не обладают таким значением, как дальнейшие пояснения комментаторов. Произведение отличается крайней лаконичностью, каждая сутра состоит из двух– трех слов (по большей части существительных, связанных между собой падежной зависимостью), которые непонятны без некоторого развертывания содержания, а, значит, и истолкования. По-видимому, «Брахма-сутры», рассчитанные на запоминание, служили ученикам своего рода опорными точками или мнемоническими ориентирами, на которые нанизывалась развернутая проповедь учителя, обраставшая в свою очередь толкованиями и полемической аргументацией. Все комментаторы «Брахма-сутры» сохраняют композиционную структуру исходного текста: он делится на четыре главы (адхьяя), каждая из которых содержит четыре раздела (пада). В тексте Бадараяны в общей сложности 555 сутр; их нумерации придерживаются, как правило, все комментарии (бхашья). Менее единообразно деление на адхикараны (сообразно обсуждаемым вопросам) (Шан– кара, напр., в комментарии на «Брахма-сутры» выделяет 192 адхикараны). Первая глава «Брахма-сутр» носит название «Саманвая» («Гармонизация»); ее главная цель – показать, что все речения Упанишад, относящиеся к высшей реальности, подразумевают Брахман как источник и основу мира. Вторая глава «Авиродха» («Отсутствие противоречий») посвящена преимущественно опровержению взглядов противников на природу мира и воплощенные души. В ней последовательно опровергаются представления санкхьи о «первоматерии» (Пракрити) как источнике мира, учение вайшешиков об атомах, неортодоксальные учения джайнов и буддистов, а также воззрения некоторых теистических школ, в частности «Панчаратры». В третьей главе «Садхана» («Средство») излагаются способы достижения освобождения (мокша) и обсуждаются характеристики отшельничества. В четвертой главе «Пхала» («Плод») рассматриваются преимущественно теологические вопросы, связанные с освобождением: различие между «путем богов» и «путем предков», которыми может идти душа после смерти и т. п. Хотя краткость «Брахма-сутр» не позволяет однозначно судить о позиции их автора, последняя, по-видимому, сводилась к теистическому варианту бхеда– абхеды (тождества-и-различия). Согласно этому учению, Брахман, пребывающий в мире как его внутренняя сущность, вместе с тем и трансцендентен этому миру, оставаясь его верховным управителем и всемогущим Господом – Ишварой. При этом мир явлений рассматривается как реальная эманация Брахмана, его собственное развертывание (паринама). По ряду вопросов, напр., при обсуждении сущности и характеристик души, Бадараяна просто ограничивается перечислением нескольких точек зрения