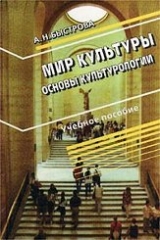
Текст книги "Мир культуры. Основы культурологии"
Автор книги: Анна Быстрова
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 53 страниц)
возможности. Он считал, что царь должен заботиться не только о вельможах, но и о
крестьянах, кормильцах общества: “Вся земля от царя и до простых людей тех труды
питаема”.
510

Писатель-публицист Иван Пересветов ратует за “воинников” – дворян,
состоящих на царской службе. Выделять их, говорил автор, нужно не по знатности, а
по их личным качествам ума и характера, поскольку “воинником царь силен и
славен” [282, с. 177]. Его острый взгляд на современность вылился в горькую
критику вельмож, которые за взятки освобождали “татей и разбойников”, обирали
государство, не заботились о войске и доносили друг на друга (“сипели друг на
друга яко змии”). Пересветов рисует образ государя, который должен быть грозен и
справедлив: “Не мочно царю без грозы быти; как конь под царем без узды, тако и
царство без грозы” [там же, с. 153]. (Заметим в скобках, что истинная личность
Ивана Пересветова неизвестна до сих пор, историческая наука располагает лишь
разного рода предположениями, вплоть до того, что под этим псевдонимом
скрывался сам царь Иван Васильевич).
Особое место в письменных памятниках того
времени занимает переписка князя Андрея Курбского
(1528—1583) с Иваном Грозным, в которой сила и
независимость характеров этих людей проявились во
всей непосредственности и полноте. Курбский
упрекает царя в том, что он “воевод, от бога данных”,
“различным смертем предал” “и победоносную,
святую кровь их во церквах божиих, во владыческих
торжествах, пролиял еси и мученическими их
кровьми праги церковные обагрил”,
“и на
доброхотных твоих и душу за тя полагающих
Неизвестный художник.
неслыханныя мучения, и гонения, и смерти умыслил
Иван IV.
еси”. Он говорит и о собственных обидах: “Коего зла
Портрет на дереве.
и гонения от тебя не претерпех! И коих бед и напастей
XVI—нач. XVII века
на мя не подвига еси! и коих лжеплетений презлых на
мя не возвел еси! А приключившимися от тебя разные беды по ряду, за множеством
их, не могу ныне изрещи, и понеже горестию еще души моей объят бых” [102, с.
258, 259]. Отповедь Ивана Грозного столь же гневна, сколь жестока: “И еже воевод
своих различными смертьми расторгали есмя, – а божию помощью имеем у себя
воевод множество и опричь вас, изменников. А жаловати есмя своих холопей
вольны, а и казнить вольны же есмя... А мук и гонений и смертей многообразных ни
на кого не умышливали есмя; а еже о изменах и черодействе воспомянул еси,– ино
таких собак везде казнят...” [там же]. Уже в этих коротких цитатах даже без перевода
можно уловить накал страстей, значительность столкновения людей, каждый из
которых чувствует себя сильной личностью, независимо от того, облечен он властью
или нет. Вера Курбского в силу разума, силу убеждения соответствуют
возрожденческому пониманию роли и места человека в мире, его личного
достоинства.
Наиболее заметно гуманистические тенденции Возрождения проявляются в
искусстве XV—XVI веков.
511

§ 3 Искусство и гуманизм
Новый взгляд на человека и его место в мире породил и новый стиль в разных
видах искусства. Лихачев выделяет в литературе того времени два стиля: один,
экспрессивный, он связывает с динамичным творчеством Феофана Грека, другой —
“стиль сдержанной эмоциональности” – с Андреем Рублевым и Дионисием (ок.
1440 – после 1502/1503), последователем рублевской
школы.
Экспрессивный стиль, насыщенный сильными
страстями, крайностями, в которых добро и зло
взаимоисключают друг друга, представлен Епифанием
Премудрым (? – между 1418/1422), описавшим житие
Сергия Радонежского. В его изложении святой настолько
благочестив, что еще будучи младенцем не хотел вкушать
материнского молока, если мать перед этим ела мясную
пищу. Крещение младенца, его каждое действие
сопровождаются разными чудесами, а его жизнь полна
смирения, забот о ближних своих. “Преподобный Сергий
всякую нужду, тесноту и скудость терпел с благодарением,
ожидая от Бога богатых милостей. И случалось иногда
Феофан Грек. Ной.
искушение, поскольку с искушением бывает и милость
Фреска церкви Спаса-
Божия: иногда не доставало хлеба и соли у игумена, да и
Преображения на
Ильине улице в
во всем монастыре было мало еды. Но заповедь
Новгороде. 1378 год
преподобного игумена ко всей братии была такова: если
получится такое искушение, что хлеба не хватит и мало
будет еды, то не ходить ради этого из монастыря в деревню или в село и не просить
у мирян телесных потреб, а терпеливо сидеть в монастыре, просить и ожидать
милости от Бога” [311, с. 116]. Экспрессивный стиль изложения не
знает полутонов, он категоричен и откровенно тенденциозен.
Второе направление можно понять, читая “Повесть о Петре и Февронии
Муромских”, историю любви князя и простой крестьянской девушки,
заканчивающейся тем, что умирающий Петр по просьбе своей жены ждет, когда она
закончит церковное вышивание, чтобы умереть вместе. Уже в этом несложном по
форме, но очень глубоком по смыслу произведении заметен интерес к духовной
жизни человека вне религиозных обстоятельств, к цельности человеческой натуры,
при которой нет разлада между чувствами, разумом и волей, той самой цельности,
что предстает перед нами на полотнах великих мастеров итальянского Возрождения.
Этот период времени ознаменован созданием многих архитектурных
512

памятииков, каждый из которых может составить славу любого народа. Русское
архитектурное искусство, отойдя от прежних византийских норм и правил, обрело
свободу выражения и свою особую неповторимость.
Общий вид ансамбля Московского Кремля
Иван III (1440—1505), вступив на престол, принял официальный титул —
великий князь “всея Руси”. “Присоединив к своей отчине обширные земли, перестав
быть ханским данником и женившись на греческой принцессе..., Иоанн считал
необходимым окружить себя подобающим величием...” [262, с. 655]. Из
Италии были выписаны мастера: Фиораванти, которого за искусство прозвали
Аристотелем, Алевиза, Марко Руфа, Солари. Они перестроили и создали главные
соборы Кремля: Успенский, Архангельский (усыпальницу московских князей) и
Благовещенский, соорудили уникальную Грановитую палату с пятисотметровым
квадратным залом, перекрытым четырьмя крестовыми сводами с мощным опорным
столбом посередине [23, с. 58]. Мастера приступили к делу, изучив местные вкусы и
обычаи, и научили русских мастеров более высокой технике, значительной свободе в
выражении своих идей. Вершиной слияния итальянского и русского мастерства стал
московский Кремль, сооруженный Пьетро Солари (после 1450—1493). Однако дело
здесь не только в итальянском влиянии и мастерстве. Не последнюю роль сыграло
объединение Руси, пробуждение национального самосознания и гордость победы
над иноземным владычеством.
Особенно явственно это проявилось в сооружении Покровского собора в
Москве, который известен как храм Василия Блаженного. Вопрос об авторстве этого
сооружения до сих пор остается непроясненным. Называются имена Бармы и
Постника, но существует версия, что это был один человек: Барма по прозвищу
Постник. На эту тему сушествует множество легенд, одна из которых легла в основу
прекрасной поэмы современного поэта Дмитрия Кедрина “Зодчие”. Он живописует
историю о том, как по приказу Ивана Грозного двое “безвестных владимирских
зодчих” взялись сложить церковь, “чтоб была иноземных пригожей”:
513

Мастера выплетали
Узоры из каменных кружев,
Выводили столбы
И, работой своею горды,—
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли кусочки слюды.
И уже потянулись
Стрельчатые башенки кверху,
Переходы, балкончики.
Луковки да купола.
И дивились ученые люди,—
Зане эта церковь
Краше вилл италийских
И пагод индийских была.
[294, с. 670]
Храм Василия Блаженного представляет
собой девятикупольное сооружение с башнями
разной высоты, украшенными луковичными
главами разного цвета и различного декора. Это
скорее не один храм, а девять храмов различной
высоты, сообщающихся между собой и носящих
различные названия, соответствующие различным
казанским событиям. Он отразил тот уровень
самосознания, который стал характерен для
русской культуры XVI века, когда вполне
оформилась русская народность и стала более
явственна специфика ее культуры.
Храм Василия Блаженного
ВЫДЕЛИМ ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
1. Российская государственность, определявшая практически все стороны
жизни общества, в этот период стала самодержавной, еще более приблизив тип
своей политической системы к византийскому. Период реформ этого времени был
тяжелым для общества в целом, отразившись в духовной и художественной жизни.
2. Духовная жизнь общества двигалась несколькими путями. Во-первых, это
514

был путь углубленной религиозности, единения с богом, выразившийся в
распространении исихазма. Во-вторых, это был путь реформаторства в области
церковных установлений, вызвавший к жизни ереси и столкновения различных
взглядов на место и положение церкви. В-третьих, это был путь государственных
реформ, которые воспринимались неоднозначно в разных кругах русского общества.
3. Особенно явственно новое мироощущение проявилось в искусстве, где одни
в экспрессивной манере, другие – в сдержанной – воспевали глубокий и богатый
внутренний мир незаурядного человека.
Глава XXVI
ОТ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ
§ 1 Смута: от политики до религии
Объединение Руси, появление первых царей и новых форм подчинения
515

всколыхнули практически все слои русского общества. Идея единства рождала
горделивую мысль о Москве как о “третьем Риме”, о наследовании Москвой
традиций Византии и религиозном православном владычестве Москвы на Востоке.
В 1492 году митрополит Зосима провозглашает Ивана III “государем и самодержцем
всея Руси, новым царем Константином, в новом граде Константина Москве, всей
Русской земли и иных многих земель государем” [262, с. 455]. Этого взгляда крепко
держались все преемники Ивана III и особенно Иван Грозный (1530—1584),
принявший царский титул.
Перед первыми русскими царями по-прежнему стояла задача обороны Руси от
врагов, грозивших с востока (золотоордынские ханства) и с запада (Литва, а затем
поляки и шведы). Решение этой задачи потребовало мобилизации всех сил общества
и в отношении создания армии, и в финансовом смысле. Появляются “служилые
люди” (дворянство), несшие ратную службу, и “люди тяглые”, на чьих плечах лежала
денежная поддержка государства. Уже в этом разделении обязанностей заложена
идея организации общества “по чинам”, каждый из которых состоит с государством
в самых различных, но обязательных отношениях. До этого различные социальные
слои имели всевозможные “вольности”, но теперь были их лишены: крестьян
пожизненно закрепили за своими владельцами; на купцов и ремесленников
наложили тягло – финансовую повинность, на дворян – ратную. Даже бояр
заставили работать над созданием нового
законодательства.
Реформируются государственная служба и
местное самоуправление (создаются приказы, ведавшие
различными сторонами повседневной жизни общества;
начинается избрание губных старост и других
должностных лиц – “выборные “излюбленные” люди
ведали не местные общественные интересы, а
отбывали под личной ответственностью и под
ответственностью избирателей возложенные на них
казенные поручения” [там же, с. 459]). В конце XVI
века появляется высший сословно-представительный
орган, соединявший интересы государства и общества,
Князь М. Скопин-
–
Шуйский. Парсуна
земские соборы.
И административные реформы, и преобразование войска требовали
увеличения налогов. Эти новшества шли вразрез с привычными формами жизни, не
только меняя их внешние стороны, но и затрагивая святая святых – мышление,
способы отношений людей друг с другом, все, что было традиционным, а потому
казалось незыблемым. Еще при жизни Ивана Грозного реформы, а затем опричнина,
не ведающая устали и сострадания, вызвали разделение и верхних слоев, и народа
по политическим взглядам. После смерти царя все разногласия сошлись как в
фокусе в смуте, захлестнувшей российское общество.
Зачинщиками смуты были бояре, разделившиеся в борьбе за власть на
различные группировки и пускавшие в ход все мыслимые и немыслимые приемы. С
516

усилением московских князей и возникновением царской власти бояре все больше
теряли свое влияние и значение в государстве и свою независимость. На протяжении
предыдущего периода они не высказывали прямо своих претензий к государю, но со
времен Ивана Грозного противостояние русской государственности и боярства стало
приобретать все более угрожающий характер. Длительные столкновения привели,
наконец, к избранию Бориса Годунова на царствование, не принесшее русскому
обществу желанного покоя.
Период смуты вызвал к жизни еще одно явление русской политической
борьбы – самозванство. Среди самозванцев были: “...кроме Гришки Отрепьева,
“второлживый” Тушинский вор, “царевичи” Петр, Иван-Август, Клементин,
Савелий, Василий, Ерофей, Гаврила, Мартын, Лаврентий и другие, выдававшие себя
за сыновей и внуков Грозного. На знамени Болотникова было начертано имя
“истинного царя Димитрия Ивановича” [236, с. 15]. Автор цитированной работы
разделяет всех самозванцев на две категории: тех, кто принимает облик
реформатора, нарушителя канонов, как, например, Лжедимитрий I, и тех, кто выдает
себя за “истинного” царя, который чудесным образом спасся от всяких бед и теперь
выступает “за народ” и с народом. Ключевский считает, что смута закончилась с
восшествием на российский престол Алексея Михайловича Романова (1629—1676),
но и при нем, и в более позднее время не прекратились попытки очередных
самозванцев смутить народ надеждами на некую общественную справедливость.
Смутное время не ограничивается политическими битвами и
противостояниями, оно связано и с расколом церкви. Критика церкви, в различной
форме прозвучавшая в XV—XVII веках, свидетельствовала, что и в православии
было далеко не все идеально. С. М. Соловьев в многотомной истории России
обращает внимание на застойные явления, возникшие в лоне церкви, на пороки
служителей Господа, и цитирует письмо царя Алексея Михайловича (1636): “Ведомо
нам учинилось, что в Павлове монастыре многое нестроение, пьянство и
самовольство, в монастыре держат питье пьяное и табак, близ монастыря поделали
харчевни, и бани, брагу продают; старцы в бани и харчевни и в волости к
крестьянам по пирам и по братчинам к пиву ходят беспрестанно, бражничают и
бесчинствуют, и всякое нестроение чинится...” [280, т. 5, с. 306].
Поэтому царь и его ближайший соратник Никон
провели реформу в обрядах православной церкви: в
церковной службе появляется проповедь, доселе
нестройное пение (“В одно время в церквах пели и
читали в два, три и несколько голосов, так что ничего
нельзя было разобрать” [280, т. 6, с. 196]) было
заменено на единогласное, выверяются с греческими
тексты церковных книг, двуперстие при крещении
сменилось троеперстием. Многие верующее были
возмущены: “Заводите вы, ханжи, ересь новую,
единогласное пение, да людей в церкви учить, а мы
Грешники, влекомые
517
демонами под горку в
ад. Миниатюра конца
XVIII – начала XIX века

прежде людей в церкви не учивали, а учивали их втайне, беса вы имате в себе, все
ханжи...” [там же]. Эти несогласия были не единственной причиной раскола. Раскол
вовлек в свое движение всех, кто был сколько-нибудь недоволен существующими
порядками и новшествами: служителей церкви, которых не устраивало усиление
власти энергичного, но жестокого и претендующего на единовластие патриарха
Никона, присвоившего себе титул “великого государя” (имея в виду религиозное,
духовное господство), бояр, тяготившихся зависимостью от самодержца, стрельцов,
на смену которым шли воинские организации западного типа, крестьян, городской и
посадский люд. “Идеология раскола включала сложный спектр идей и требований:
от проповеди национальной замкнутости и враждебного отношения к светскому
знанию до отрицания крепостного строя с присущим ему закабалением личности и
посягательством государства на духовный мир человека и борьбу за демократизацию
церкви” [23, с. 72].
В. И. Суриков. Боярыня Морозова
“Крушение авторитета светской власти сопровождалось падением власти
духовной” [236, с. 23]. Разочарование вызывало самые разные реакции как в
церковной среде, так и в мирской. Многие видели выход из кризиса в
самоубийственном пренебрежении к своей жизни и к жизни других людей и
призывали к уничтожению (“умерщвлению”) плоти: носить на себе железные цепи с
крючьями, тяжелые камни, а затем, соблюдая самый суровый пост, уморить себя
голодом. Невероятно, но эти призывы находили отклик у множества людей,
уходивших в тайные скиты для выполнения обряда, кажущегося им единственным
способом спасения от скверны земной.
В расколе выделились две главные противостоящие друг другу силы:
жаждущие перемен реформаторы и сторонники патриархального уклада,
представлявшегося им освященным временем. Политический деятель и историк П.
Н. Милюков (1859—1943) в “Очерках по истории русской культуры” [196, т.
2, ч. 1], рассматривая причины раскола, отметил, что к концу XV века религиозные
правила закрепились в сознании большинства не слишком грамотных людей как
непреложные законы, касающиеся и обрядовой стороны, и текста молебнов, и
518

образа жизни. Переписываемые церковные книги стали к этому времени несколько
отличаться от греческих источников, как и обряды, завезенные из Византии.
Летописи отразили новое отношение к этим различиям следующим образом: “Греки
отступили от чистого православия, русские сохранили его от отцов нерушимо.
Естественно, что при разнице церковных форм и обрядов – все предпочтение
должно принадлежать национальным русским формам. Они должны считаться
истинно православными” [там же. с. 45]. Когда на Руси возникло
книгопечатание и стали издаваться церковные книги (первой из них была книга
“Апостол” в 1564 году), появилась возможность сличить тексты и увидеть
расхождения с греческим оригиналом. Но ревнители старины не собирались менять
вековые традиции. Так сложились две партии: с одной стороны – патриарх Никон
(1605—1681), властный, упрямый, претендующий на особое, церковное
самодержавие, с другой – старообрядцы, не менее уверенные в своей правоте,
страстные, одержимые, такие, как протопоп Аввакум (1620 или 1621—1682),
боярыня Морозова, та самая, которую изобразил В. И. Суриков (1848—1916). Вот как
писал Аввакум, обращаясь к царю, Алексею Михайловичу: “Вздохни-ка по-
старому... Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком;
не унижай его ни в церкви, ни в дому, ни в простой речи... Любит нас Бог не меньше
греков... Чего ж нам еще хочется лучше того? Разве языка ангельского? Да нет, ныне
не дадут – до общего воскресения” [там же, с. 53].
Страшными оказались судьбы первых старообрядцев. Протопопа Аввакума
многократно ссылали, затем продержали в выгребной яме в городе Пустозерске 15
лет и по приказу царя сожгли в 1682 году. Боярыню Морозову в ссылке уморили
голодом. Сохранился письменный текст, свидетельствующий о страшных муках этой
женщины, умолявшей своего стража дать ей хлебца или сухарика, или яблочка [244].
Сторонники же новаторства, не связанные с религиозными спорами,
потянулись к знанию, просвещению и образованности.
§ 2 Развитие образования и образованности
Несмотря на смуту и неспокойствие, множество перемен и событий далеко не
радостного свойства, происходит постепенный переход к новому времени с его
устремлением к знанию и развитию разума.
Большинство авторов отмечают печальное состояние образования и развития
наук в России вплоть до XVII века. В прошлом веке одно из постановлений
церковного собора предписывало “устроить в домах лучших городских священников
училища, в которых бы проходились “грамота, книжное письмо, церковное пение и
налойное чтение” [262, с. 382]. Но это были, во-первых,
не систематические школы, во-вторых, в школы
принимались дети священников, в-третьих, такие
школы могли существовать только в городе. В этом же
519
источнике процитированы слова, сказанные в начале XVII века:
“невежество русского народа есть мать его благочестия; он не знает ни школ, ни
университетов: одни священники наставляют юношество чтению и письму, и этим
занимаются немногие” [там же]. Напомним, что книжники понесли большой урон в
период иноземного владычества, когда многие книги, да и книжники были
уничтожены. Конечно, в некоторых семьях детей обучали грамоте, но делалось это
без системы, иногда случайными домашними учителями, да и методы обучения
были довольно жестокими. Писатель и проповедник Симеон Полоцкий (1629– 1680)
и поэт и переводчик Карион Истомин (конец 40-х гг. XVII в. – после 1717) создали
учебники, буквари, содержавшие также богословские, педагогические и просто
нравоучительные рассказы. Издавались различные азбуковники, носившие название
“Сказание о неудобопознаваемых речах” (аналог энциклопедических словарей). Их
справочные статьи были чаще всего связаны со священным писанием, а иногда были
фантастически невежестенными: в статье о медведе, например, говорилось, что
медведица рожает медвежат бесформенными, а затем уже вылизывает их, придавая
“приличную медведю форму”; или о львятах говорится, что они рождаются
бездыханными, а затем приходит лев-отец и оживляет их своим дыханием [230, с.
41].
Первые школы, появившиеся в Москве, были чаще всего частными или
сословными, но дело образования уже было начато. В 1682 году в Заиконоспасском
монастыре открылась школа, на основе которой в 1685 году возникло первое высшее
учебное заведение России – Славяно-греко-латинская академия, созданная греками,
братьями Лиху-дами – Иоанникием (1633—1717) и Софронием (1652—1730).
Карион Истомин, обращаясь к царевне Софье, просил ее:
Азбука Василия Бурцева.
Письменные
Умоли бо самодержцев сущих.
принадлежности.
Да государи они на то изволят,
1634 год
Обще господа о том да помолят,
Наукам велят быти совершенным
И учителем людем извещенным.
[280, т. 7, с, 420]
Такими “извещенными” (хорошо образованными) учителями и стали
Иоанникий и Софроний Лихуды, которые открыли курсы для представителей
разного звания и возраста: священников, княжеских сыновей, стольников, людей
простого звания. И науки стали “совершенны” (полны для своего времени, серьезны
и многообразны): изучались грамматика, риторика (ораторское искусство), пиитика
(правила стихосложения), логика, физика; часть наук преподавалась на греческом
языке, часть – на латинском.
§ 3 Книгопечатание, книги и зачатки научного знания
520
С. М. Соловьев считал, что русское общество того времени явственно
осознавало свое отставание от западных соседей и поэтому стремилось преодолеть
это отставание, “сблизиться с теми народами, которые показали свое превосходство,
позаимствовать у них то, чем они явились сильнее; сильнее западные народы
оказывались своим знанием, искусством, и потому надобно было у них выучиться”
[280, т. 7, с. 109]. Этому учению способствовало и развитие книгопечатания, которое
по личному указанию Ивана Грозного организовали в Москве Иван Федоров (ок.
1510—1583) и Петр Мстиславец. Сначала печатались только священные книги.
Только таким образом можно было оградить от искажения их тексты при
переписывании вручную. До 1600 года в Москве вышло всего 11 книг.
Позже печатное дело быстро распространилось по России, и к концу XVII века было
издано довольно много книг, в том числе и светского содержания.
Вместе с книгами по ратному делу, разного рода государственными
установлениями, например “Грамотой о таможенных пошлинах”, появляются и
переводные книги приключенческого характера (“Повесть о Еруслане Лазаревиче”,
“Повесть о Василии королевиче Златовласом Чешския земли”, “История о храбром
рыцаре Петре Златых Ключей”), жизнеописания, героями которых становятся
благочестивые и трудолюбивые люди (“Повесть об Ульянии Осоргиной”). Кроме
того, появляется – и это самое удивительное – демократическая литература. Сам
народ начинает создавать произведения, описывающие в иносказательной, а иногда
и в самой прямой форме реалии российской жизни: в озорной “Повести о Ерше
Ершовиче, сыне Щетинникове” описана тяжба (суд) между ершом и лещом,
жителями Ростовского озера; колкая сатира на суды и судей составляет сюжет
“Повести о Шемякином суде”; пародии и небылицы в “Сказании о роскошном
житии и веселии” рассказывают о бедняцком житье и несбывшихся мечтах, а
“Калязинская челобитная”– о пьянстве монахов. Появляется приключенческая
литература, где вымышленный герой предстает перед читателем в горе и радости, в
неоднозначности своего поведения. В этих произведениях настоящей русской
литературы, не подражающей никаким образцам, а вынесенной из самой середины
русской действительности, изображены люди, ищущие благ. В “Повести о Горе и
Злосчастии, как Горе-Злосчастье довело молодца во иноческий чин”, отражена
сущность психологии обездоленного человека: “Когда у меня нет ничего, и тужить
мне не о чем” [102, с. 450]. Появляется и первая плутовская новелла “Повесть о
Фроле Скобееве”, рассказывающая о том, как ретивый молодец обманом женился на
дочери стольника. Старые истории о душе, проданной дьяволу, находят свое новое
развитие в “Повести о Савве Грудцыне”: здесь множество бытовых детатей, да и сам
бес умен, франтоват, пошловат. Здесь “чудесное имеет обыденный вид” [121, т. 4, с.
355], а герой раскрывается перед читателем в своей психологической сути.
521

В русской литературе XVII века впервые
появляется рифмованная поэзия. Нельзя сказать, что
русская культура не знала до сих пор рифмы вообще. В
некоторых прозаических произведениях отдельные
слова рифмовались друг с другом, поскольку русская
литература и русская речь вообще тяготеют к
созвучиям. В прошлом веке сложился особый стиль,
называемый
“плетением словес”, которому
свойственны повторы, ритм и рифма. Но стихов в
известном нам смысле этого слова не было. Теперь
стараниями Симеона Полоцкого, его ученика
Сильвестра Медведева и Кариона Истомина является
миру русское стихотворство. Это были в большинстве
своем поучительные вирши, где авторы излагали свои
взгляды на всевозможные предметы. Вот, например,
Шемякин суд. Лубок
как должен вести себя монах с точки зрения Симеона
Полоцкого:
Монаху подобает в келии седети,
Во посте молитися, нищету терпети,
Искушения врагов силно побеждати
И похоти плотския труды умерщвляти...
...Пагубно же оному по граде ходити,
Из едина в другий дом переходите пити.
[102, с. 367]
Просветительским духом, желанием научить, передать знания другим
проникнута вся поэзия этего периода. Во многом она связана со стилем барокко,
свойственным не только европейской культуре. Но европейское барокко, связанное с
Контрреформацией, носило характер не столько художественного стиля, сколько
мировоззрения. Русское же барокко существовало только в искусстве и было
вызвано идеями просветительства. В русской культуре этот стиль представлен
стихами поэтов, которые вносили в поэзию логику, превращая их в своего рода
энциклопедии. Карион Истомин так писал об Америке:
Америка часть четверга
Ново земля в знань отперта.
Вольнохищна Америка
людьми, в нравах, в царствах дика.
Тысящьми лет бысть незнанна, морем зело отлиянна.
Веры разны в балвохвальстве33
33 В язычестве.– Прим. авт.
522

наги люди там в недбальстве34
Царства имут без разума,
не знав бога, худа дума.
Никто же бо что успеет,
где глупость, сквернь и грех деет.
[Там же, с. 377]
Богатство тематики, масса описаний людей, зверей, птиц, деревьев, камней,
украшений, изысканный стиль стихов, разнообразные знания – все это составляло
традицию барокко в литературе, театре, который в России начал складываться лишь
в XVII веке.
До 1672 года лишь скоморохи разыгрывали на
площадях сценки из жизни, театральные действа, в
которых сохранялись древнейшие традиции народных
игрищ в честь урожая, прихода весны или свадебных
обрядов. Уже в “Повести временных лет” рассказывается
о
скоморохах, а в киевском Софийском соборе есть фрески,
их изображающие. Скоморохи бродили из поселения в
поселение и давали свои представления на улицах и
площадях, потешая народ прибаутками. Вот типичная
присказка такого потешника: “Зовут меня зовуткой,
Плясун и скоморох.
величают уткой. Живу промеж Лебедями и старой
Лубок
Казани. Всего у нас восемь дворов бобыльих, в них
полтора человека с четвертью, четверо в бегах, да двое в бедах” [206, кн. 1, с. 14]. В
скоморошьем же театре сложились и главные персонажи кукольного театра. Но
официальное отношение к ним оставалось весьма негативным. Была даже издана
грамота царя Алексея Михайловича в 1648 году о том, чтобы “скоморохов и ворожей
в домы к себе не призывать”, “на свадьбах песен бесовских не петь”, “личин на себя
не надевать” [там же, с. 18]. За ослушание грозило телесное наказание, равно как и
за игру в шахматы, игру на музыкальных инструментах (домрах, гуслях, гудках). Но
менее чем через 30 лет царь переменил свое решение, и пастор Грегори из Немецкой
слободы поставил при дворе царя пьесу “Эсфирь”, или “Артаксерксово действо” на
тему библейской истории. Позднее было поставлено еще несколько переводных пьес
– уже не только нравоучительных, но и комедийных. Так впервые появился
настоящий театр со сценой, декорациями, бутафорией, зрительным залом и даже с
фойе. Правда, после смерти Алексея Михайловича постановки прекратились и
возобновились лишь при Петре I.
Обзор культуры XVII века будет неполон, если не упоминать об удивительных
достижениях русских умельцев, первопроходцев, географов и медиков. Их деяния
обеспечивали становление и одновременно представляли собой удивительный
прорыв русской культуры, обусловивший блестящие достижения будущего. В этот
34 Заброшены.– Прим. авт.
523
период, начавшийся развалом и смутой, наполненный бесконечными войнами не
всегда победоносного характера, были предприняты знаменитые путешествия.
Семен Дежнев (1605—1673) достиг восточной оконечности Азии – Большого
Каменного Носа, который впоследствии назвали мысом Дежнева; Ерофей Хабаров
(1610—1667), путешествуя по Амурскому краю, составил “Чертеж по реке Амуру”
(его имя носят город Хабаровск и железнодорожная станция “Ерофей Павлович”);
сибирский казак Владимир Атласов (1661/64—1711) исследовал Камчатку и
Курильские острова. В короткий промежуток времени землепроходцы пешком и на
конях, на кочах (парусно-гребных суднах) и ладьях обошли и описали земли от
Иртыша до Берингова пролива, от моря Лаптевых до Амура. Остатки поселений на
Новой Земле и Шпицбергене говорят о том, что и туда добирались в эти времена
отважные путешественники.








