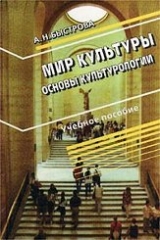
Текст книги "Мир культуры. Основы культурологии"
Автор книги: Анна Быстрова
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 53 страниц)
Лютера, любой верующий может быть пастором, и община
может выбирать пастора из своей среды. Эти взгляды Лютера
заложили основы протестантизма – нового направления
христианства. Отказ от католической традиции вызвал к жизни
и отказ от поклонения иконам, мощам, кресту. Добавим, что не
только Лютер, но и Томас Мюнцер (ок. 1490—1525) – идеолог
немецких беднейших слоев населения, и позже Кальвин (1509
–1564) – в Швейцарии – дополнили Реформацию иными
идеями, довольно далеко отстоящими и от католичества, и от
гуманизма. Был и еще один момент, который способствовал
развитию реформаторских идей в Европе. Католическая
церковь претендовала не только на непререкаемый авторитет в
Лукас Кранах
области веры, но и на самое Священное писание.
Старший.
Богослужение совершалось на латинском языке, а в то время,
Мартин Лютер
когда уже вполне оформились национальные языки народов
Европы, довлеющая сила церковной латыни представлялась посягательством на
свободу не только отдельного человека, но и государства. Библия также была лишь
на латинском языке и не могла стать доступной не только широкой публике, но и
некоторым священникам. Даже Лютер познакомился с латинским текстом только
после того, как изучил древнегреческий и латинский в университете и стал монахом
одного из монастырей. Именно он осуществил наиболее полный перевод Библии на
немецкий язык. Другими словами, Реформация стремилась устранить посредников
между человеком и Богом, делая тем самым только самого человека ответственным
за все свои деяния.
Естественно, что церковь не могла оставаться безучастной к Реформации и к
отходу от католичества многих государей и верующих. Ее действия, направленные
на то, чтобы укрепить свои позиции, вылились в. противоположное идеологическое
течение – Контрреформацию. Начало ему было положено Тридентским собором
(собирался в городе Тридент в центре Европы с 1545 по 1563 год), на котором все
направления Реформации были названы еретическими, критикуемые Лютером и
другими представителями Реформации догматы объявлены священными, а папа
утвержден главным религиозным авторитетом. Со времени Тридентского собора
начинается беспощадная борьба со всем, что противоречит церковным
установлениям.
Это направление многократно усилилось и реализовалось в деятельности
ордена иезуитов, образованного Игнатием Лойолой (1491—1556) с 1534 года и
утвержденного официально в 1540 году. Его главный принцип “цель оправдывает
средства” руководил жизнью и деятельностью членов ордена. Они, в отличие от всех
384
прежних монахов, жили в миру, должны были заниматься воспитанием школьников,
проповедовать католические взгляды во всех общественных слоях, заниматься
миссионерской деятельностью. Ведя мирской образ жизни, иезуиты, связанные
жесткой дисциплиной, выискивали и предавали церковному суду еретиков;
подкупом, взятками, а если нужно было, и “бескорыстной” помощью немощным и
слабым привлекали или возвращали в лоно католической церкви все большее число
людей.
Тридентский собор учредил “вселенскую” инквизицию, действующую в
большинстве стран Западной Европы, составил Индекс (список) запрещенных книг,
куда попали труды средневекового ученого Пьера Абеляра, сочинения Эразма
Роттердамского (1469—1536), “Декамерон” Джованни Боккаччо (1313—1375),
книги Макиавелли и другие. Противостояние гуманизма Ренессанса и Реформации
католической церкви постепенно превращалось в трагедию. Духовные противоречия
протестантизма и католичества вылились в 1572 году в ужас Варфоломеевской ночи
и резню во Франции, когда в течение одной недели было уничтожено почти 30 тысяч
протестантов.
Эпоха Возрождения стала временем глубокого перелома в обшей картине
мира. Новую картину мира создавали гуманисты своим обращением к ценностям
античности, она задевает и религиозное сознание, вызывая мощные процессы
реформаторства и не менее мощные процессы противодействия ему. Все эти
тенденции не могли не быть взаимосвязанными с художественной и научной
жизнью эпохи.
§ 5 Особенности искусства и науки Ренессанса
Невозможно в одной главе учебного пособия дать подробный анализ искусства
и науки эпохи Возрождения. Эти проблемы рассмотрены достаточно глубоко и
полно во множестве популярных и научных изданий. Кроме того, только одно
перечисление имен гениальных писателей, художников и ученых заняло бы много
места. Наша задача гораздо скромнее: попытаемся рассмотреть особенности,
отличающие искусство и науку этого периода от других – более ранних и более
поздних.
385


Ботичелли. Рождение Венеры
Искусство Ренессанса, так же, как и другие сферы культуры, проникнуто
главной идеей времени – идеей гуманизма. Человек, его место в мире, его
отношения с природой, его взгляд на природу, его величие и низменность, его
особенности – главное в работах великих мастеров изобразительных искусств и
литературы. Достаточно вспомнить работы Леонардо да Винчи (1452—1519),
Рафаэля (1483—1520), Микеланджело (1475—1564), Тициана (ок. 1476/77 или
1489/90—1576), Альбрехта Дюрера (1471 – 1528) или поэтические произведения
Петрарки, Боккаччо, Торквато Тассо (1544—1595) и Данте (1265—1321), прозу
Рабле (1494– 1553), драматургию Шекспира (1564– 1616), как огромное
количество персонажей окружит нас. Потрясает разнообразие характеров,
социальных типов, темпераментов, показанных в этом потоке искусства. Здесь
практически нет стандартов, каждый персонаж значителен, глубок и может
выступать как явление, характеризующее эпоху в целом. Обращает на себя внимание
и то, что именно в эпоху Ренессанса искусство достигло значительных высот в
передаче состояния, психологии своих героев. Если античность чаще всего шла от
внешнего к внутреннему, считая, что лишь в прекрасном теле возможна прекрасная
душа, а средние века полагали, что важна лишь душа, но не тело, то художники
Возрождения в ключе общей концепции всесторонне развитого человека не делали
доминантой что-либо одно. Важно все – телесное
совершенство (как в античности), нравственное (как в
средние века) и интеллектуальное величие человека.
Любая из Мадонн, написанных итальянскими
мастерами, как об этом говорил Фичино, гармонична
именно в этом смысле.
Создавая новое искусство, Ренессанс сохраняет
прежние традиции: использует известные сюжеты в
большинстве произведений различных видов и
Корреджо.
386
Мадонна и святой
Георгий.
1530—1532 годы
жанров искусства – библейские или мифологические персонажи и их истории,
бытовые сцены, характерные для любого времени, хотя каждое явление наполнено
новым содержанием. Человек теперь не просто описывается или изображается – он
оценивается исходя из идеалов своего времени. Значимыми становятся его чувства,
особенности переживаний. Поэтому много места в искусстве занимает чувство
любви, наиболее ярко демонстрирующее неповторимость, значительность человека.
Поэзия Петрарки и Боккаччо полностью посвящена этому сильному и
всеохватывающему чувству, которое делает человека, его испытывающего,
благороднее, чище и выше. Петрарка в одном из сонетов пишет:
... Коль души влюблены,
Им нет пространств; земные перемены
Что значат им? Они, как ветр, вольны.
[239, с 36]
Поэзия Возрождения вырабатывает новый стиль – dolce slil Nuova
(“сладостный новый стиль”), где языком новой формы стихосложения – сонета —
говорит сама любовь. Сонет, в котором соединились глубина поэтического чувства и
высокое мастерство литератора, состоит из 14 строк. Они располагаются в стихе
двумя катренами (четверостишиями) и двумя терцетами (трехстишиями) или тремя
катренами и двустишием. Рифма должна строиться по схеме абаб, абба, сдс, дcд —
для “итальянской” системы. Во Франции и Англии строй рифмы отличался
незначительно. Первый катрен начинал тему, второй – нес в себе
противопоставление (антитезис), далее шло развитие действия и вывод. В сонете не
должно было повторяться ни одно значимое слово, в нем непременно присутствовал
некий подтекст, обращенный к восприятию читателя. И это еще далеко не все
требования к этой маленькой изящной стихотворной форме. Но каких высот
достигали поэты, можно увидеть в поэзии Петрарки и Боккаччо, Ронсара и
Шекспира.
Вот сонет, написанный французским поэтом Пьером Ронсаром (1524—1585),
поэтом позднего Возрождения:
До той поры, как в мир любовь пришла
И первый свет из хаоса явила,
Не созданы, кишели в нем светила
Без облика, без формы, без числа.
Так праздная, темна и тяжела,
Во мне душа безликая бродила,
Но вот любовь мне сердце охватила,
Его лучами глаз твоих зажгла.
Очищенный, приблизясь к совершенству,
Дремавший дух доступен стал блаженству,
И он любви живую силу пьет,
387

Он сладостным томится притяженьем,
Душа моя, узнав любви полет,
Наполнилась и жизнью и движеньем.
[261, с. 21; пер. В.Левика]
Еще одной заслугой ренессансной поэзии было создание нового
литературного языка, не связанного с латынью, причем этот процесс происходил не
только в Италии, но и в других странах Европы.
Ф. Снейдерс. Натюрморт с дичью и овощами
Непременным атрибутом искусства эпохи Возрождения становится реализм
как метод изображения жизни. Все реже авторы прибегают к аллегориям (хотя они и
существуют во многих произведениях), их интересует реальность во всем своем
богатстве и разнообразии. Отсюда пристальный интерес к деталям, окружающим
человека, к природе, которая рассматривается в ее глубинной взаимосвязи с
человеком. Появляются новые жанры – пейзаж и натюрморт в живописи и
графике. Взгляд художника Возрождения на природу можно охарактеризовать как
взгляд исследователя и активно действующего человека, считающего природу
неисчерпаемой. Впечатление изобилия мы встречаем повсюду: в изобразительных
искусствах, в литературе, в архитектуре, театре; оно присутствует в различных
жанрах: портретах, пейзажах и натюрмортах, в бытовых сценах, в гротеске, сатире.
Мир буквально насыщен разнообразными формами, чувствами, отношениями,
каждое из которых заслуживает внимательного и пытливого взгляда человека, не
умеющего и не желающего быть равнодушным. Еще Леон Баттиста Альберти считал
художника вторым богом. Титаны Возрождения полагали, что быть человеком —
значит быть художником, быть художником – значит быть ученым [157, с. 75]. И
здесь искусство смыкается с наукой, часто науки, такие, как математика, физика,
оптика, анатомия, вступали в сотрудничество с искусством. Если добавить, что
388


философия тесно переплеталась с литературой, например, в трудах Эразма
Роттердамского, французского философа-гуманиста Мишеля Монтеня (1533—1592),
английского писателя и одного из основоположников
утопического социализма Томаса Мора (1478—1535),
многие художники выступали и как теоретики
искусства, эстетики, то становится понятна одна из
первых особенностей науки того времени. Дело в том,
что наука представляла собой необходимый,
интеллектуально и логически организованный аспект
общего взгляда на мир. Именно в период Ренессанса
впервые были связаны воедино категории
пространства, времени и движения, в художественной
форме нашедшие себе место в поэме Данте
“Божественная комедия” [290, с. 108]. Ренессанс
открывает широкую полосу исследований проблемы
человека, и происходит это не только в умозрительных
теоретических построениях, но и в искусстве.
Поиски логического основания всего мира привели польского астронома
Николая Коперника
(1473—1543) к созданию новой астрономической
(гелиоцентрической) системы. Интересно и то, что он не стремился к тому
результату которого достиг. Он пытался выяснить
лишь одно: почему праздник Пасхи приходится
каждый год на другое число, тогда как день весеннего
равноденствия – 21 марта (день, от которого
отсчитывается первое воскресенье после новолуния)
Лист из трактата
постоянен. Коперник применил чисто математические
Галилея. Диалог
методы расчетов, на основании которых и возникла
о системах мира
новая система. Гонениям со стороны церкви он не
с изображением
подвергся:
во-первых,
его модель была
Аристотеля,
математической, а математика считалась королевой
Птолемея и Коперника
наук и входила в состав семи свободных искусств (и
здесь мы сталкиваемся со слиянием художественного
и научного мировосприятия), во-вторых, этот труд
вышел в год его смерти (1543).
Страстность пронизывала как искусство, так и науку. “ На мир смотрели
глазами художника, с душевным подъемом, с поклонением красоте, с тем что два
столетия спустя Спиноза назовет amor intellectualis… Здесь не было ни грана
противопоставлений чувственных впечатлений логическому постижению” [290, с.
114]. И в науке человек, ученый, мыслитель выступает как целостный человек,
ищущий столь же целостную картину мира. В эту эпоху возникает идея единства
истины с красотой и добром, и только в этом случае познающий субъект обретает
свободу.
И еще одно завоевание культуры эпохи Возрождения, воистину
389
Микеланджело Буонаротти.
Моисей.
1513—1515 годы
перевернувшее мир культуры, наложившее отпечаток на культуру всего мира, – это
великое изобретение Иоганном Гутенбергом [между 1394—1399 (или 1406) – 1468]
книгопечатания. В середине XV века в Майнце он напечатал Библию – первое
полнообъемное печатное издание в Европе, признанное шедевром в ранней Европе.
Нужно заметить, что разного рода попытки создать печатную книгу
предпринимались в разных странах мира в разное время. Оттиски учения великого
Конфуция, сделанные с каменных плит, на которых они высекались в Китае,
гравировка текстов на дереве (ксилография) или на металле – все это было уже
известно миру. Но Гутенберг использовал готовые металлические знаки – литеры,
которые по образцу детских кубиков можно было легко собрать каждый раз, когда
это необходимо, и изобрел простейший печатный станок по типу пресса. Все это
позволило выпускать книги каким угодно (для тех времен значительным) тиражом,
сделав книгу доступной более широким кругам населения. Виктор Гюго (1802—
1885) в книге “Собор Парижской богоматери” назвал изобретение книгопечатания
зародышем всех революции, поскольку мысль которая прежде выражалась большей
частью устно или в символах искусства, “облекается в новую форму... В виде
печатного слова мысль стала долговечной как никогда: она крылата, неуловима,
неистребима”. Он говорил, что именно книгопечатание породило Рафаэля,
Микеланджело и других титанов Возрождения что оно было почвой, на которой так
бурно развилась Реформация: “До книгопечатания Реформация была бы лишь
расколом; книгопечатание превратило ее в революцию. Уничтожьте печатный станок
– и ересь обессилена”. И действительно, Лютер смог распространить свои
знаменитые тезисы при помощи книгопечатания, перевод Библии на немецкий язык
разошелся благодаря тому же.
За короткий срок своего существования книгопечатание стало практически
единственной формой распространения знаний, оружием политической борьбы,
многократно увеличило силу литературы в обществе, в значительной степени
обусловило многие особенности пути культуры последующих эпох.
Таким образом, Ренессанс – время становления, развития и, во многом,
реализации идеи человека как совершенного, всесторонне развитого, человека,
который сам выбирает свой путь и во многом определяет его. Титаны Возрождения
собственным жизненным путем каждый раз снова и снова доказывали это
положение.
Эпоха Возрождения – великая эпоха потому, что она смогла разорвать
постепенность человеческого развития, образовать новое качество человеческой
истории, из собственных поисков и страданий высечь искру будущего: его
разочарований и исканий, его новой науки и нового искусства, его идеалов и
устремлений.
ВЫДЕЛИМ ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
390
1. Ренессанс как период развития европейской культуры соединил в себе две
мощные тенденции: античную и христианскую. Практически все мыслители этого
времени, отталкиваясь от античной традиции, выделили в качестве главного
действующего лица в картине мира человека. К человеку, признанию его
совершенства и богоподобия шли в своих размышлениях гуманисты. Человека как
существо, способное принимать на себя ответственность за собственные деяния,
ставят в центр религиозного мировоззрения сторонники Реформации, начиная с
Лютера.
2. Новая картина мира в эпоху Возрождения была противоречивой. С одной
стороны, гуманисты видели и прославляли величие человека, его способность к
созиданию и познанию мира. С другой стороны, идеи Коперника и особенно
Джордано Бруно относительно множественности миров разрушали радостный и
оптимистический взгляд гуманизма. “...Коперник и Бруно превратили землю в
какую-то ничтожную песчинку мироздания, а вместе с тем и человек оказался
несравнимым, несоизмеримым с бесконечным пространством, темным и холодным,
в котором лишь кое-где оказывались мелкие небесные тела, тоже несравнимые по
своим размерам с бесконечностью мира” [180, с. 544].
3. Эти противоречия отразились не только в искусстве, но и в религиозных
разногласиях. Гуманизм действительно является главным пафосом Возрождения.
Нужно заметить, что сами гуманисты были малочисленны, и только их
многообразная титаническая деятельность во всех областях культуры была
настолько значительна, что образовала могучую культурную ценность. Они
разрушили средневековое мировоззрение, вернув человеческое человеку. Гуманизм и
Реформация не совпадают по своим целям, тем не менее они взаимосвязаны.
Гуманизм Возрождения противопоставляет “человека потусторонним силам, Лютер
освятил и узаконил земной мир человека. Возрождение, используя материал
античности, возродило человеческую природу; ранняя Реформация, используя
материал Священного писания, попыталась утвердить самостоятельность человека”
[157, с. 43].
4. Возрождение открыло человечеству самую желанную из всех областей его
существования – сферу свободы: в области познания мира, в области социальных и
экономических отношений, в области самосознания человека. Свобода этой эпохи —
это личное достоинство человека, требующее от него ответственности,
самостоятельности в выборе решения, это превращение человека из объекта
различных отношений с природой и обществом в активного действующего субъекта.
5. Эпоха Возрождения породила титанов во всех сферах деятельности – так
значимо было гуманистическое начало, вдохновившее незаурядных людей своего
времени на деяния, судьбой которых стала вечность.
391
Глава XVIII
КУЛЬТУРА XVII ВЕКА
§ 1 Специфика начала Нового времени
В 1600 году в Риме на Площади цветов был сожжен великий мыслитель эпохи
Возрождения Джордано Бруно (1548—1600). В этом же году поэт Оттавио
Ринуччини (1563—1621) и композитор Якопо Пери (1561 – 1633) создали
музыкальную драму “Эвридика”, положившую начало новому жанру музыкального
392
искусства – опере. Так столкнулись старое и новое на пороге XVII столетия —
сложной, бурной, противоречивой эпохи для Западной Европы. Этот век – не точка
отсчета времени, а существенная переломная веха. За одно столетие он дал миру
множество имен, сравнимое разве только с предшествовавшей эпохой Возрождения.
Достаточно назвать лишь некоторые из них: литераторов – Корнеля, Расина,
Мольера; философов – Декарта, Спинозу, Лейбница; ученых – Ньютона, Кеплера,
Галилея, Гарвея; живописцев – Пуссена, Веласкеса, Караваджо, Рембрандта;
композиторов – Монтеверди, Корелли, чтобы представить себе значительность
всего остального.
В истории нет незначимого или малозначимого периода. Каждый период
оставил миру нечто, свойственное только ему, внес то, без чего невозможен и
сегодняшний мир. Древние культуры закладывали основы мира культуры, а более
поздние – переосмысляли эти основы, создавали новое качество и никогда не
исчезали бесследно: даже самое незначительное явление в истории культуры
находит свое выражение в том, что возникло после него и на его основании. Так, в
Европе античность дала начало всему, что в той или иной мере присутствует в
каждом проявлении культуры нашего времени и особенно остро переосмыслялось в
эпоху Возрождения и в XVII веке. Если Ренессанс “открыл” для себя через
античность величие и ничтожество человека, ощутил восторг перед
неисчерпаемостью мира, сделал попытку отойти от всепроникающего влияния
религии, создал доселе непревзойденный идеал человека, то XVII век – источник
того, что составляет сущность современности. Недаром с него начинается период,
носящий название Нового времени. Мы не можем сказать, что мир знал совершенно
счастливые времена: каждое из них трагично по-своему, поскольку каждая эпоха —
столкновение прошлого и будущего. В этом и заключена сущность настоящего.
Возрождение стало вехой, когда все, что было темного в эпоху средневекового
прошлого, встретилось с новым взглядом на мир, взглядом светлым, похожим на
взгляд проснувшегося юного человека, который осознает, что он в силах создать сам
свой новый день. Казалось бы, этот оптимистический образ должен был победить и
утвердить в мире богоподобного человека, деятельного, нравственного,
талантливого, человека, продолжающего искать единство истины, добра и красоты.
Но так не случилось. XVII век – время осознания того, что идеал Ренессанса не
только остался недостижимым, но и потерпел крушение. Новые экономические
отношения – капиталистические – устанавливались в мире болезненно, влекли за
собой множество жертв и вызвали сами по себе мощную волну реакции на иной
способ зависимости, характерный для Нового времени. Основная масса населения
оказалась между молотом и наковальней: с одной стороны – еще существующие
сеньоры, владельцы земель с их поборами, с другой – буржуазия, отчуждающая эти
земли в свою пользу (так называемое “огораживание”). Люди остаются
разоренными, без средств существования. Наиболее ярко этот процесс шел в
Англии, но и в других европейских странах, развиваясь в разных формах, он вызвал
бурные крестьянские бунты и войны. Так, в Англии на этой почве вспыхивает
буржуазная революция с диктатурой Кромвеля (1599—1658), многочисленными
393


казнями и следующей за ними очередной волной несправедливостей. Во Франции
аристократы организуют Фронду, пытавшуюся противостоять власти короля; в
Германии разражается невиданная до тех пор по масштабам жестокости и
уничтожения собственного народа Тридцатилетняя война (1618—1648), которая
была для дворянства поводом расправиться с непокорными крестьянами. В
результате этой войны население Германии сократилось почти на десять миллионов
человек.
Якоб Йорданс. Диоген на рынке. 1642 год
Но в то же время в XVII веке расцветает мануфактурное производство,
создавшее новые способы организации трудового процесса, появился наемный труд,
сформировались первые крупные капиталы. Конечно, они наживались путем,
далеким от праведного, часто путем колониального порабощения новых территорий
мира, но ни одно движение мирового процесса к усовершенствованию не проходило
умиротворенно. Новые процессы поставили страны Европы в неравное положение:
одни имели колонии, другие – нет, в одних установился буржуазный строй (Англия,
Голландия), в других – еще более укрепились феодальные отношения (Испания,
Германия).
После той системной целостности, которую
представляла античная культура, после двойственности
средних веков и Возрождения XVII век
демонстрирует некую множественность, когда можно
говорить уже не о культуре, а о культурах: настолько
различны пути, формы, способы осуществления общих
тенденций этого времени. Один только взгляд на формы
организации общества покажет, как непохожи они друг
на друга: катаклизмы буржуазной революции и
394
Лукас Кранах Старший.
Рыцарь со стрелой
диктатуры Кромвеля в Англии соседствуют с абсолютной монархией, поддержанной
буржуазными слоями во Франции, рядом с ними истерзанная Тридцатилетней
войной, но не ставшая единой, не поднявшаяся на более высокий уровень
феодальная Германия, буквально из пепла поднимающая осколки своей культуры.
Таким образом, даже новый класс– возникающая буржуазия разных стран
неодинакова в своих действиях.
Для XVII века драматизм столкновения нового со старым усилен
религиозными противоречиями, которые выливаются в неоднозначное, чреватое
множественными человеческими жертвами, покалеченными и уничтоженными
судьбами явление общеевропейского характера – Контрреформацию. Она тоже
продемонстрировала многосторонность и разнообразие целей, форм и методов
воздействия на общество. Это и проповедь сурового аскетизма иезуитами, и – в
полную противоположность – использование чувственности в религиозных
обрядах; это, с одной стороны, строгое достоинство верующего гугенота, а с другой
– “католическое возрождение” во Франции с его шумными инквизиторскими
процессами, оканчивавшимися кострами (так, в Тулузе был сожжен философ и
вольнодумец Джулио Ванини, 1585—1619). Среди причин Тридцатилетней войны в
Германии присутствовал и религиозный мотив (например, испанские солдаты,
действовавшие на территории Германии, так или иначе участвовали в реализации
мечты своего правителя о создании мировой католической державы). На кострах
инквизиции сжигались “еретические” книги, внесенные в специальный список —
Индекс.
Разыгрывалась и еще одна трагедия XVII века, но сценой служил уже
внутренний мир человека. “Ветер великих географических открытий, который мчал
каравеллы Колумба на Запад, не утих. Но куда пуститься в путь? Человек нового
времени оказался на распутье: если средние века оставили нерешенной антиномию
(греч. antinomia “противоречие в законе”.– А. Б. ) “человек создан по подобию бога,
и бог создал для него природу, но человек отягощен первородным грехом и не может
выбраться из пучины соблазнов”, то теперь на ее место встала другая: “человек
свободен и равен богу, но он лишь маленькое звено в величественном механизме
природы”. Эту проблему унаследовал не только XVII, но и XVIII век: “ природный
строй вещей гармоничен, и место человека в нем достойно его, но этот же строй
вещей бывает неумолим к людям, когда они от него отступают” [211, с. 5].
От эпохи Возрождения в Новое время перешел еще один вопрос, ставший еще
более острым, – “как найти каждому свое место в условиях ломки старых
отношений и складывания новых, буржуазных? Как жить человеку в
“нечеловеческом” мире глубоких социальных противоречий? ...Наивный оптимизм
был поколеблен уже в эпоху Возрождения, когда Сервантес и Шекспир показали,
насколько лжив и страшен мир людей их времени. Мюнцер, Мор и Кампанелла
предложили лишь... утопический выход, а Лютер, Кальвин и многие другие
религиозные “обновители” возложили свои упования на иллюзорное потустороннее
спасение” [там же, с. 5—6]. Этот оптимизм был также поколеблен глубоким
скепсисом Мишеля Монтеня, на излете Возрождения сказавшего: “Изумительно
395

суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо – человек” [205,
с. 9]. И это колеблющееся существо создает неравенство, законы, “которые всегда
были для народа загадкою”, где судебные должности продаются, а приговоры
оплачиваются звонкой монетой; где... отказывают в правосудии тем, кому нечем
заплатить за него [там же, с. 127]. С горечью он констатирует падение нравов: “Не
заметно больше поступков, исполненных добродетели; те, которые кажется такими,
на деле не таковы, ибо нас влекут к ним выгода, слава, страх, привычка и другие,
столь же далекие от добродетели побуждения” [там же, с. 251].
Ответы на вопросы искали лучшие умы XVII века – Декарт, Гоббс, Спиноза,
Лейбниц и другие. Может быть, именно наука сделала в XVII веке ощутимые шаги
вперед: поиск был теперь не только необходим, но и реален.
§ 2 Новое время – век новой науки
Зададимся вопросом: почему после семилетнего тюремного заключения
добровольно взошел на костер Джордано Бруно, заявив своим обвинителям: “Сжечь
не значит опровергнуть”, и почему так скоро после него отрекся Галилей? Это не
праздный вопрос, и не моральную сторону хочется анализировать при ответе на
него. Логика тех событий позволяет предположить следующее. Для Николая
Коперника было достаточно лишь математических выкладок, в силу своей
специфичности не воспринятых отцами церкви как еретические (его сочинение “Об
обращениях небесных сфер” было запрещено только в 1616 году). Прошло три века,
прежде чем сама идея построения Солнечной системы стала достоянием многих. У
Дж. Бруно было еще мало доказательств того, что Земля – планета Солнечной
системы, что она не только вращается вокруг солнца, но и вокруг своей оси. Свои
гениальные догадки о множественности миров и бесконечности природы и
Вселенной он не мог подтвердить экспериментально или результатами наблюдений
за небесными телами – телескопов в его время еще не было. Оставался лишь один
известный ему способ доказательства своей правоты – тот, который
продемонстрировал в свое время Христос: чтобы быть понятым, надо умереть. Он
взошел на костер с уверенностью в том, что это единственно доступное ему
последнее, но веское доказательство. Галилею не было нужды это делать: уже
возникла и делала множественные успехи экспериментальная наука, поэтому
отречение семидесятилетнего Галилея было скорее позором церкви, настаивающей
на признании далеких от научного поиска догм. После своего отречения больной и
полуслепой Галилей создал книгу “Диалоги о новых
науках”, где в еще более яркой – художественной —
форме отстаивает, вопреки запрету инквизиции,
правильность учения Коперника. Может быть, поэтому
легенда приписывает Галилею знаменитую фразу: “А
все-таки она вертится!”
XVII век – эпоха новых теорий в области
Нидерландская школа. 396
Неизвестный художник.
Философ, держащий
череп. XVI век
астрономии, физики, математики. Она ознаменована трудами Иоганна Кеплера (1571
–1630), положившего начала астрономии новейшего времени. Открытые им законы
движения планет он облек в математическую форму выражения, составив планетные
таблицы, ему принадлежит теория затмений, он изобрел телескоп с
двояковыпуклыми линзами объектива и окуляра. (Теперь, чтобы убедиться в
правильности астрономических теорий, незачем было идти на костер!). Математика
этого времени прославлена Пьером Ферма (1601—1665), одним из создателей
аналитической геометрии и теории чисел, трудов по теории вероятностей,
исчислению бесконечно малых величин и оптике. Его знаменитая теорема теории
чисел (хn+ уn = zn при п > 2 не имеет целых положительных решений)
остается нерешенной в общем виде до сих пор, хотя и доказана в ряде частных
случаев. В это время Готфридом Лейбницем изобретена система интегрального и
дифференциального исчислений, предвосхитившая принципы современной
математической логики. Английский врач Уильям Гарвей (1578—1657), основатель








