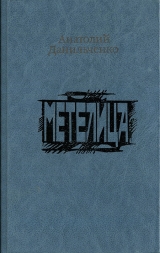
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц)
5
Ночь еще не легла. На западе багровело вытянутое тонкое облако, обещая назавтра ветреную погоду, а с другой стороны уже наползла темнота. В лесу было сумрачно, краски осени стушевались, слились в один серый цвет, тишина застыла настороженно, только сухая листва шуршала под ногами отчетливей и громче, нежели днем. Казалось, листва стонет под тяжелыми сапогами, негодует, кричит осипшим, шелестящим криком. Ноги ступали осторожно, будто им было жалко листву, как что-то живое, чувствующее боль. Но другой дороги не было, кругом – листва.
Маковский понуро шагал рядом с Николаем Деминым, молодым хлопцем и добрым помощником, и думал свою безрадостную думку. Вернее, он ни о чем не думал – мысли путались, бессвязные, болезненные. Демин также молчал, не находил слов и не хотел тревожить командира ненужными разговорами. За плечами у них болтались немецкие автоматы, в руках – лопаты. Никто в отряде не знал, куда ушел их командир. Да и знать никому не следовало.
Вчера связная Люба принесла Григорию жуткую весть о казни Розалии Семеновны. Григорий не мог, не хотел поверить, что застенчивой хрупкой учительницы нет в живых. Ушел из лагеря, целый день шатался по лесу, будто отыскивая кого, ночью пролежал без сна, и только сегодня до сознания дошло то непоправимое, что произошло. И надо же этому случиться именно теперь, когда жизнь в отряде начала налаживаться, входить в русло, когда Григорий собирался забрать Розу в лес, только ждал, когда она окрепнет после болезни. Опоздал. Опоздал на целую жизнь! Некого винить, кроме самого себя. Осталось единственное – месть. Но об этом сейчас не думалось, ни о чем не думалось. Только пустота в груди да безысходность.
Вышли на опушку, оглядели темнеющее поле. Где-то слева, у ельника, должно быть то место. Молча, не сговариваясь, свернули и зашагали вдоль опушки леса. Вскоре заметили темнеющий квадрат свежевскопанной земли и заторопились к нему.
Не зарытая, не присыпанная землей, виднелась тонкая белая рука. Ее рука, ее мизинец… Григорий с Деминым разгребли землю. Демин тут же отвернулся и стал закуривать.
Ужасаясь своему спокойствию, Григорий завернул тело Розалии Семеновны в чистое серое полотно, взял на руки и зашагал к лесу. Демин, подхватив лопату и автомат командира, двинул следом.
Что думал, что чувствовал Григорий в эти минуты, он и сам себе не мог объяснить. У него на руках было безжизненное тело, гибкостью которого он так недавно любовался украдкой, о котором греховно мечтал по ночам, испытывал взволнованную радость, когда Роза была рядом и отдавала свои крохотные руки с длинными городскими пальцами его ладоням. Григорий неподвижно глядел перед собой, ступал осторожно, мягко, переваливаясь с пятки на носок, и только единственная мысль застыла в мозгу: не оступиться, не уронить свою ношу.
Место он выбрал заранее – у высокой тонкоствольной березы, шагах в двадцати от лесного шляха, на небольшой опушке, скрытой за густым орешником. Вдвоем с Деминым вырыли могилу, под тусклый свет месяца уложили тело учительницы, по русскому обычаю, ногами на восток, засыпали землей. И только когда все было закончено, Григорий подошел к березе, уткнулся головой в гладкий белый ствол и, как умеют из всего живого на земле одни лишь люди, протяжно и громко застонал.
6
Тонкой искристой изморозью покрылись деревья, поля и огороды. Лунным светом отливала поникшая, пригорбленная трава, рогатины плетней, узкая стежка на задах деревенских дворов. Слабой коркой схватило сырую землю, лужи подернулись серебристой пленкой льда. Под ногами корка мягко проседала, и густая грязь обволакивала худые сапоги. С каждым шагом грязь гулко чавкала, и Савелий Корташов прислушивался, не потревожил ли собак. Он вглядывался в землю, стараясь идти по сухому, но таких мест почти не было. Накануне прошли затяжные дожди, и отыскать твердую стежку на Лысом холме было невозможно.
Вот уже скоро месяц, как бродил Савелий по родной земле и нигде не находил пристанища. Пробирался он через леса, как загнанный волк, на животе переползал поля, топтался в болотах, но куда ни совался – везде немцы.
Было их, окруженцев, тридцать человек, отрезанных от своей части, из окружения прорвалось семеро. Всемером начали пробиваться на восток. А теперь осталось трое. Один заболел в самом начале пути и умер, когда они девять дней не могли выбраться из болота, окруженные немцами, двое погибли при первой попытке перейти линию фронта, четвертый, молоденький лейтенант – при второй. Прорваться к своим было невозможно, и они решили отыскать партизан. По дороге столкнулись еще с двумя окруженцами, чуть было не перестреляли друг друга, пока не признали своих. Белорусские леса находились рядом, и Савелий повел всех к Метелице. Не может такого быть, чтобы дед Антип не знал дорожки к партизанам.
И вот Савелий у своего дома, четверо товарищей его остались в лесу, поджидают командира, сержанта Корташова.
Савелий перемахнул через плетень и очутился в саду. Присел, перевел дыхание, прислушался. Крадучись от яблони к яблоне, сторожко пошел к хате, стараясь как можно тише ступать по меже, чтобы не вспугнуть собаку.
Только у самого двора Валет почуял человека и залился перекатистым лаем.
– Валет, Валет, – зашептал Савелий. – Тише, Валет.
Валет подбежал к Савелию, признал хозяина и завертелся у ног, радостно взвизгивая.
– Признал, шельма, – шептал Савелий. – Тише, Валет, тише.
Он теребил холку собаки и чувствовал, как дышать становится все трудней и трудней. Там, за бревенчатыми стенами хаты, укутавшись стеганым одеялом, спит его жена Ксюша, лепечет по-детски что-то во сне сын Артемка, в трехстене похрапывает дед Антип, а он, Савелий, вздремнет эту ночь, попрячется день за ширмой и в такое же время, в такую же ночь уйдет обратно в лес.
Не успел он корябнуть о стекло, за окном показалось лицо деда. Видать, не спал еще или проснулся от лая собаки. Лунный свет бил ему в глаза, и дед щурился, вглядываясь во двор. Савелий помахал рукой и указал на крыльцо. Дед Антип быстро закивал и исчез в глубине хаты.
Скрипнула внутренняя дверь, и послышался дедов голос:
– Хто там?
– Это я, батя. Открывай, – отозвался Савелий.
– Не признаю што-то…
– Я, Савелий!
Дед охнул, забормотал что-то неразборчивое, торопливо заляпал затворами. Наконец дверь открылась, дед Антип отшатнулся поначалу, вгляделся в Савелия и кинулся обниматься.
– Ах ты, господи! Не признал по голосу, – бормотал дед. – Вот это ошарашил…
– Батя, дома?.. – Савелий поперхнулся и похолодел от страха: а вдруг что не так?
– Дома. Все дома, – успокоил его дед Антип и начал закрывать двери. – Вот времечко, от людей на все запоры… Дожили! Ну, проходь, проходь.
– И раньше запирались, – пошутил неожиданно для себя Савелий.
– Запирались, да не так, – буркнул дед и опять заохал: – Ну, брат, ошарашил. Ну, ошарашил! Голос у тебя не свой – хриплый.
Через сенцы прошли в трехстен. Дед Антип в темноте пошарил на своих полатях, взял одеяло и занавесил единственное окно, заботливо оглядев по краям, нет ли щелей, потом только засветил лампу. Савелий стоял у порога, слушал дедову возню и унимал волнение в груди. Ему не терпелось пойти в спальню, взглянуть на жену и сына, но слабость растекалась по всему телу, хотелось сесть, хоть на минутку закрыть глаза и забыться. Дед Антип глядел на него, выкатив глаза, странно отвесив челюсть, будто не узнавал своего зятя.
– Что ты, батя, так?.. – спросил Савелий и тут же догадался, что с дедом.
– Ох, хлопец, на кого ж ты похож… – прошептал дед Антип, растягивая слова.
Савелий грустно улыбнулся.
– Хорошо, что еще такой остался.
– Окруженец?
– Да, батя. Ксюша спит? – Савелий двинулся было в спальню, но дед Антип протестующе замахал руками.
– Я сам, я сам! Напужаешь… Садись-ка вот тута, ноги, бачь, трясутся.
Савелий слышал, как дед прошел в спальню, разбудил Ксюшу, сказал: «Савелий пришел». Ксюша ойкнула, отрывисто скрипнули пружины матраца, и шлепки босых ног донеслись до его слуха. Выбежала Ксюша на свет в ночной сорочке, как была, глянула на Савелия и резко остановилась на пороге, шаря глазами по трехстену. Савелий поднялся ей навстречу. И тогда Ксюша кинулась к нему на шею.
– Ну, что ты, что ты… – шептал Савелий, еле удерживая горячее Ксюшино тело и чувствуя, как колотится ее сердце. – Что ты, Ксюш…
– Сейчас… ноги обмякли, – пробормотала она. Застыла на минутку, приходя в себя, потом отстранилась, поглядела на его лицо.
– Сейчас, оденусь…
Когда Ксюша появилась опять, в юбке, на ходу застегивая кофточку, дед Антип хлопотал у стола, охая и кряхтя по-стариковски. Белая тесемка кальсон выглядывала из-под штанины, волочась следом, как будто дед был привязан навеки к этому полу в трехстене и никуда не мог от него оторваться.
– Батя, я сама, – сказала Ксюша. – Голодный небось? – Она страдальчески поглядела на Савелия и кинулась в сенцы.
Савелий сидел, не двигаясь, и чувствовал, как его губы расплываются в бессмысленной улыбке. Так хорошо и спокойно ему никогда еще не было. Ни о чем не думать, ни о чем не беспокоиться, глядеть на снующую перед глазами проворную Ксюшу, на деда Антипа, мнущего на столе свои загрубелые пальцы, на сына Артемку… Савелию захотелось взглянуть на сына, и тут же тоскливо заныло под сердцем. Завтра – уходить. Он не должен раскисать. Не имеет права. Он сейчас не просто человек, он – солдат. Более того, хоть и временный, но – командир тех четверых, сидящих где-то в валежнике около горелища, жмущихся друг к другу от холода и догрызающих последний сухарь. Завтра, в это же время, Савелий встретит их у расщепленного молнией высохшего дуба и поведет к партизанам, куда пока что еще и сам не знает дороги.
На столе появился хлеб, сало, вечерние драники, соленые огурцы, простокваша. Все – свое, взращенное крестьянскими руками, ухоженное, досмотренное, заботливо очищенное. Ничто на столе так не потревожило Савелия, как запах свежего хлеба.
Ел он не торопясь, чересчур медленно, каждый раз удерживая у рта ложку с борщом, чтобы не отбросить ее в сторону, не схватить дрожащими руками тарелку и пить через край.
Ксюша глядела на него, положив подбородок на кулаки, и беззвучно глотала слезы. Савелий уткнулся взглядом в глиняную тарелку и чувствовал какую-то неловкость перед этими родными ему людьми. Он не мог понять, откуда такая неловкость и стыд – вины его в том никакой. Но это чувство не проходило. Дед Антип и Ксюша ждали, пока Савелий поест.
Съев половину, он отложил ложку.
– Хватит на сегодня.
– Ну, рассказывай, откуда? – заговорил дед Антип.
– Отовсюду. Мыкали вокруг да около, пока не пришли в Метелицу. Тимофей где?
– Дома Тимофей, – ответила Ксюша, вытирая глаза. – Детдомом заведует.
– Как – детдомом? – удивился Савелий и поглядел на деда Антипа.
– Да, да, – закивал дед. – Все аккурат.
Ксюша поглядела на Савелия, на деда, улыбнулась грустно и махнула рукой:
– Ай, батя, все я знаю! – Она повернулась к мужу: – Шушукаются с Тимофеем, думают, я дите какое…
– Знаешь, так помалкивай! – буркнул дед Антип. – В лесу Маковский, Тимофей связуется с ним. Добрый отряд сколотили, скоро загудит округа. Вот отлежишься…
– Да ты что, батя! – перебила его Ксюша. – Погляди на него – ветром шатает.
– Значит, есть связь, – вздохнул облегченно Савелий. – Не ошибся я. Приведешь завтра Тимофея, разговор имею. Только чтоб тихо.
– Ну!.. – Дед Антип обидчиво крякнул.
– Завтра уйду.
Ксюша вскрикнула, потом ухватилась обеими руками за его локоть и уперлась взглядом в мужа.
– Не пущу! – выдохнула она и застыла с полуоткрытым ртом.
– Куда торопиться? – поддержал Ксюшу дед Антип. – Отлежись, тогда… Успеется.
– Меня ждут, – сказал Савелий, не поднимая глаз.
– Ты не один? – удивился почему-то дед Антип. – Да-а, ничего тут не попишешь.
Савелий начал рассказывать о своих скитаниях:
– Под Полтавой нас окружили. Всю армию…
– Армию? – переспросил дед. – А немец бахвалится, што четыре. В плен понабрали тыщи…
– Да, батя, так оно и есть, если считать весь киевский «котел». Застряли мы там клином. Вот и отрезали.
– Да ну? – прошептал удивленно дед Антип. – Шестьсот шестьдесят пять тысяч – в плен?
Савелий усмехнулся.
– Нет, батя. Тут немецкая арифметика сплошала. Видать, они взяли число всех четырех армий. Так добрая половина загинула, да прорвалась из окружения часть… Я тоже в тех тысячах, а, видишь, не в плену. Нет, батя, брешут.
Савелий рассказывал, как прорывались из окружения, как дважды пробовали перейти линию фронта, потом разыскивали партизан, и украдкой поглядывал на Ксюшу. Она как будто примирилась со своей участью, слушала рассказ мужа, но выглядела жалкой и беспомощной. Язык у Савелия начал заплетаться, веки помалу тяжелели. Полтарелки борща разморили его окончательно. Потянуло ко сну, к мягкой постели, но обрывать рассказ на полуслове было неловко. Наконец Ксюша заметила его состояние и сказала:
– Завтра доскажешь. Гляди, совсем валишься.
– И то, – подхватил дед Антип. – Завтра приведу Тимофея, все будет аккурат. Ксюша вон поставила тесто, испекет хлебов.
Ксюша взяла лампу и повела Савелия поглядеть на сына. Артемка лежал на своей маленькой кроватке, разметавшись во сне и скинув ногами одеяло. Слабый свет от керосинки румянился на его круглых щеках. Савелий и Ксюша, прислонясь друг к другу, стояли и молча глядели на сына. Легкая улыбка скользнула на Артемкиных губах, он пожевал круглым ртом и повернулся на другой бок.
И опять, вот уже в который раз, боль и тоска стиснули сердце Савелия. Завтра – уходить.
В постели он обнял безжизненной рукой Ксюшу, прижался горячими губами к плечу и, чувствуя какую-то большую вину перед женой, устало досадуя на свою вялость, на бессилие бороться со сном, забылся до утра.
* * *
Разбудил Савелия голос Артемки.
– Папка пришел! Папка пришел! – кричал он где-то в сенцах.
– Да ну! – услышал Савелий голос Лазаря. – Где ж он? Савелий!
– Цыц! – прикрикнула на сына Ксюша. – Балуется дите. Откуда Савелию взяться?
Савелий вскочил с постели и спрятался за выступом грубки. В голове, еще не отошедшей ото сна, лихорадочно застучало.
– Што ты, Ксюша! – обиделся Лазарь. – Савелий, брат, где ты? Не ховайся, это я, Лазарь!
– Нету Савелия, – повторяла Ксюша. – Дите балуется, а ты поверил?
– Ах ты, господи! Да как же ж это? Я ж его брат. Сичас, я наметом, – донесся голос Лазаря уже со двора.
Савелий кинулся к окну, выглянул из-за гардины. Лазарь семенил по улице, растопырив руки, как наседка крылья, и бормотал что-то себе под нос.
– Ксюша! – закричал Савелий на всю хату. – Догони!
Ляпнула калитка, и мимо окна пронеслась Ксюша. В спальню с радостным «папка! папка!» вбежал Артемка. Савелий подхватил его на руки, прижал к груди и не отводил взгляда от окна. За Артемкой появился дед Антип.
– Што там такое?
– Лазарь узнал, – ответил Савелий.
– Ах ты, едрит твою! – Дед Антип остановился от неожиданности.
– А что, это очень опасно? – спросил Савелий, не понимая еще всей сложности своего положения.
Дед только махнул рукой и выбежал из хаты.
Савелий надеялся, что все обойдется. Немцев в деревне нет, за окруженцами они особо не охотятся. На худой конец, он сможет и днем уйти. Савелий опустил Артемку на пол и стал торопливо одеваться. Артемка выжидающе глядел на него и счастливо улыбался. Сын ждал гостинца, но что мог Савелий дать ему? Он пошарил в карманах, виновато глядя на сына, нащупал значок «Ворошиловский стрелок».
– На вот, сынок, это тебе.
Артемка радостно схватил значок и юркнул под стол, где хоронилось все его богатство: пустые спичечные коробки, десяток темно-коричневых каштанов, патронная гильза, разноцветные матерчатые лоскутки и деревянный кораблик, вырезанный дедом. Оглядев свое хозяйство, он вылез из-под стола и подошел к Савелию. Постоял немного, склонив голову набок, и спросил:
– А чего у тебя борода, как все равно у деда?
– Вот побреюсь – и не будет, – ответил Савелий, подходя к окну и застегивая на ходу приготовленные Ксюшей костюмные брюки.
– А чего не брился? – допытывался Артемка.
– Холодно было, – нашелся Савелий. – А борода греет.
– А чего?..
Он хотел еще что-то спросить, но у двора показалась Ксюша, и Савелий заторопился к выходу. Во двор он выходить не решился, подождал в сенцах. Ксюша пришла бледной и растерянной. Она ступила на порог, взглянула на Савелия, заморгала ресницами, лицо ее перекосилось, и по щекам покатились слезы.
– Что там? – спросил Савелий, почуяв какую-то большую беду.
Ксюша не успела ответить. Подошел дед Антип.
– Все, Савелий. Становись на прикол.
– Шутить не время, батя, – ответил Савелий и заторопился: – Ксюша, давай скорее какую сумку, сейчас ухожу. Батя, где искать партизан?
Ксюша стояла не двигаясь, дед Антип молчал. Савелий поглядел на обоих и растерянно, ничего не понимая, крикнул:
– Да что же вы?
– Нельзя тебе уходить, – буркнул дед Антип и опустил голову.
– Как это – нельзя? – удивился Савелий. – Я обязан и уйду. Где искать?.. – Он повернул в хату, но дед Антип остановил:
– Погодь, Савелий. Стой!
Савелий остановился. Он чего-то здесь не понимал, чего-то не знал такого, что всем было ясно. Дед Антип провел его в трехстен и усадил за стол, сказав Ксюше:
– Подавай снедать.
Ксюша захлопотала у стола, на ходу рассказывая мужу:
– Не успела… У этого балаболки язык – что помело. Налетела посеред улицы на Наталью, та и пытает: «Савелий возвернулся?»
– Ну и что?
– Так прямо ж под окнами Гаврилки. А там – Петро…
– Погодь, Ксюша, – перебил ее дед, глядя на растерянного, ничего не понимающего Савелия. – Гаврилка старостой у нас. Да с ним столковались бы, коли што – Любку напомнили. А Петро полицаями заправляет, кулацкий огрызок!.. Падла такая, што – тьфу!
– Но я успею еще… – Савелий приподнялся.
– А его куды денешь? – спросил дед, указывая на Артемку. – А ее, Ксюшу? Завтра ж всех – к стенке. Такое правило у них. Пришел – живи, не троне, волчара, уйдешь – порешит всю семью!
В груди у Савелия похолодело. Наконец он понял, в какое положение попал.
– Может, Тимофей что придумает? – спросил он с надеждой.
– Што он придумает? – ответил дед Антип. – Моя вина, Савелий. Моя. Не попередил тебя, вот и втюрились. Не след было мальцу показываться на глаза. Ах, поганец! – ругнулся он на Артемку. – И тот, блаженный, чего приперся?
– За топором приходил, – отозвалась Ксюша.
– Но меня ждут! – простонал Савелий. – Ты понимаешь, батя, что это значит?
– Не дурны! А за них не пужайся, все будет аккурат, ко времени.
Заскрипела калитка, лениво тявкнул Валет, и на пороге появился отец Лазаря, годок деда Антипа Макар. За Макаром – сам Лазарь с четвертью мутного самогона. Макар подошел к Савелию, виновато поглядел ему в глаза, с трудом поклонился в пояс и сказал дрожащим старческим голосом:
– Прости, Савелий, моего дурака. Бог не дал от роду – люди не втемяшуть.
– Садитесь, дядька Макар. Чего ж теперь…
Подбежал Лазарь и затараторил:
– Савелий, брат, да рази я хотел? Да рази я што-нибудь такое…
– Ну, ты! – прикрикнул Макар и добавил, обращаясь к Савелию: – Дите малое, ни дать ни взять. Ну, што мне с ним?..
Обижаться на Лазаря было все равно что на Артемку – разум один. Оставалось винить только себя. Савелий еще надеялся на Тимофея. Не мог он, не хотел верить, что это тупик. Разговор за столом до него не доходил. Единственно, что отчетливо достигало слуха Савелия, – это тюрканье сверчка за печкой: тю-ррр! тю-ррр! Звуки с болью врезались в голову, но ему почему-то не хотелось, чтобы они прекратились. Чем-то домашним, спокойным веяло от них и притупляло, заглушало страшную мысль: дезертир. Даже Артемка, подбежавший с просьбой привинтить значок, не мог вывести его из оцепенения. Савелий велел сыну спрятать значок, носить его нельзя, и опять прислушивался к сверчку, испытывая резкую боль в голове. Со зрением творилось что-то неладное: люди, сидящие за столом, все вещи, окружающие Савелия, казались далекими, как в перевернутом бинокле. Он весь напрягался, будто чего ждал. А может, и ждал: вот придет Тимофей и развеет этот дурной сон. С минуты на минуту он должен был подойти, дед Антип еще с утра сходил в детский дом, пока Савелий отсыпался.
Тимофей появился неожиданно, ни скрипа калитки, ни лая собаки не слыхать было. Савелий сорвался с места и кинулся навстречу. Они обнялись, оглядели друг друга. Тимофей сокрушенно покачал головой и только потом увидел гостей. Он вопросительно поглядел на Савелия. Дед Антип, заметив растерянность сына, сказал:
– Зараз и Гаврилка явится.
– Дела… – протянул Тимофей.
Дед Макар опять, уже перед Тимофеем, начал извиняться за своего недотепу-сына.
– Не надо, дядька Макар, – остановил его Савелий. – Никто не виноват. Я сам…
Тимофей никого ни о чем не расспрашивал, а Савелий впился в него взглядом и с нетерпением ждал ухода гостей. В Тимофее была последняя надежда, только он мог что-то изменить. Савелий понимал, что никто ничего не сделает, но гнал эти мысли, заставляя себя верить в Тимофея. Сверчок умолк, и зрение у него наладилось. А может, и не было сверчка?
Дед Макар, видать, почуял, что пора уходить, и стал подниматься, но тут появился староста.
Гаврилка вошел, культурно постучав в дверь, остановился на пороге, неторопливо оглядел всех и сказал:
– Хлеб-соль!
С минуту все молчали, пока Тимофей не ответил:
– Благодарствуй, Гаврило Кондратьевич. Проходите, гостем будете. Или – служба?
– Да все разом, Тимофей Антипович.
Гаврилка показал свои мелкие, мышиные зубы и плюхнулся на табуретку, принимая слова Тимофея за приглашение сесть к столу. Дед Антип скрипнул скамейкой, и в горле у него заклокотало. Тимофей налил стакан и протянул старосте.
– А ты – што ж?
– Мы уже, – ответил Тимофей.
– Ну, дык с прибытием, Савелий Данилович! Пришлось, видать, – посочувствовал Гаврилка. – Эх, жизня!
Он поднес стакан к губам и начал медленно, с присвистом цедить самогон сквозь зубы. Дед Антип опять заклокотал и набычился, подогнув голову. Савелий, сам того не желая, примечал все до мелочей. Никогда дед Антип так откровенно не показывал свою ненависть к гостю.
Поговорили о том, о сем. Гаврилка сказал Савелию, что надо отметиться, стать на учет и немцев не бояться – не тронут мирного человека. На прошлое немцу плевать, лишь бы сейчас выполнял их установления и подчинялся безо всяких там штуковин. Он посидел полчаса и ушел. Следом за Гаврилкой поднялись и дед Макар с Лазарем.
Савелий тут же схватил Тимофея за рукав и потянул во двор, под навес.
– Ну, Тимофей, на одного тебя надежда. Вляпался я!
Торопясь, он рассказал о четырех бойцах в лесу и замер, ожидая слов Тимофея как приговора.
– Не волнуйся, – успокоил его Тимофей. – Вечером у меня будет Люба, она и отведет их в отряд. Они надежные? Маковский строг в этом отношении. А тебе – оставаться.
Тимофей огляделся – куда бы сесть. Ноги у Савелия вдруг ослабли, он привалился к штабелю заготовленных на зиму дров и сполз на колодку, цепляясь лопатками за острые углы березовых чурок. Минут пять сидели молча. Тимофей его не трогал.
– Это я виноват! – заговорил Савелий, с силой стуча кулаками по коленям. – В тепло потянуло, в постель мягкую… Сына обнять хотел, жену. Ведь мог бы продневать на чердаке. Мог, Тимофей, мог? Что молчишь? Конечно, мог и обязан был! Ослаб… изголодался… не знал положения… Дикости все это, отговорки! Знал я, чуял нутром – нельзя. А поддался запаху хлеба, сверчку за печкой, скрипу половиц в хате. Ну, что я теперь, Тимофей? Что? И зачем приходил? Отыскал бы сам.
– Где бы ты искал?
– В лесу нашем, где еще?
– И немцы там ищут, да без толку.
– Но это не меняет дела…
– Успокойся, Савелий, – оборвал его Тимофей. – Никто тут не виноват. Война.
– А Гаврилка, что он?
– Гаврилка? – переспросил Тимофей. – Хитрый фрукт. И нашим, и вашим, а больше – себе. Но он у меня во где, – Тимофей показал сжатый кулак. – Его Люба – связная наша. Он догадывается, только виду не подает.
– А Люба как глядит на это?
– Что Люба! Батька есть батька. А он нам выгоден – можно заставить молчать. С другим бы старостой это не вышло. Ну, ладно… Сегодня передам Григорию о тебе. Успокойся, отлежись. А теперь рассказывай.
У ног вертелся Валет, ластился к хозяину, по двору расхаживал красавец петух, любимчик деда Антипа, хрюкала свинья в закутке – все так мирно, по-домашнему, как будто не было ни войны, ни окружения, ни смерти, ни четверых голодных товарищей Савелия. Серые бесформенные тучи еще с утра затянули небо, начинал моросить мелкий осенний дождь.








