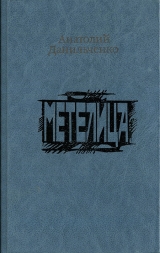
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
10
Приезд коменданта не на шутку встревожил Тимофея. Что понадобилось, что замышляет фашист? Ведь не ради праздного любопытства приезжал Клаус Штубе, не забота о детях привела его сюда. Может, пронюхал о связи Тимофея с партизанами и что-то готовит? Нет, не должно такого быть. Его связь – тайна и для сельчан, и для отряда. В лесу о Тимофее знают Маковский, Савелий и Люба, в деревне – отец да сестра Ксюша. Все люди надежные, проговориться никто не мог. По тому, с каким недоверием стали относиться сельчане к бывшему учителю, Тимофей был уверен, что никто из них не догадывается. Один Гаврилка что-то предполагает, но и он не посмеет заикнуться из страха за свою шкуру. Немцы не простят старосте его дочку-партизанку. Нет, что-то другое привело коменданта в детдом. Но что?
Два с половиной месяца прошло, комендант больше не приезжал, и Тимофей успокоился. Метелица за это время обросла новостями. Партизаны раздобыли приемник, регулярно слушали Совинформбюро, писали листовки и распространяли по деревням. После разгрома под Москвой немец откатил назад и летом повел наступление с южной стороны, в направлении Сталинграда. В Гомель прибыл новый начальник карательного отряда офицер СС Курт Гартман, о жестокости которого ходили страшные слухи. Запылали деревни на Гомельщине.
Первого июля начисто спалили деревню Дубки и расстреляли 157 человек, в другой деревне всех сельчан загнали в коровник и сожгли заживо. Немцы не скрывали своих зверств, даже, наоборот, обещали, что так будет с каждой деревней, которая поддерживает партизан. Но до партизан каратели добраться не могли. Двенадцатого июля кувыркнулся под двадцатиметровый откос первый поезд на Соколке, через три дня туда же пошел второй эшелон с техникой. Никакая охрана не могла уследить за партизанами, и немцы начали вырубать лес по бокам «железки», по сто метров с каждой стороны. Сельчане шептали друг другу о Маковском и прятали в кулак радостные улыбки.
Одно радовало, другое беспокоило. На тощий желудок и радость не в радость. С грехом пополам отсеялись, теперь ждали нового урожая. Есть было нечего, перебивались кто как мог. Осенние запасы выгребли немцы, скотину перевели на мясо, кур переловили, предусмотрительно оставляя по две-три на развод, чтобы потом было что отбирать у сельчан. Кто похитрей, тот держал поросят в маленьких баньках на задах дворов, подальше от лиха. Немцы же заходили в хаты, шарили по полкам, что приглянется – забирали, а хозяйка знай помалкивай да улыбайся, не то поймаешь в зубы волосатый кулак или кованый сапог в бок. Однако надо было жить. И люди жили, подтянув потуже животы. На Петра разговелись молодой бульбой, зеленя на огородах – подспорье доброе, поспевало жито. И то веселей.
У Тимофея забот было не меньше, хотя немцы и не трогали детдомовское хозяйство. Вся метелицкая детвора целыми днями пропадала в детдоме. И каждый хотел есть. Всякий раз, как только звонили на обед и детдомовские бросали свои игры и дела, торопясь в столовую, метелицкие ребятишки с завистью провожали их голодными глазами; и всякий же раз у Тимофея больно сжималось сердце, он не выдерживал, звал деревенских детей и кормил чем придется.
Тимофей сидел за столом в своем флигельке и прикидывал, на сколько дней осталось продуктов. Анютка и Артемка, полулежа на полу, перерисовывали картинки из букваря. Максимка бегал где-то на улице. Глянув на дочку, на племянника, Тимофей тяжело вздохнул. Анютка всегда была худой, а вот Артемка, обычно румяный, круглощекий, что колобок, за зиму сдал, щеки его впали, и показались острые ключицы. Уж до чего Ксюша глядит за хлопцем, последний кусок от себя и от деда Антипа отрывает, а все равно без толку. На одной бульбе далеко не укатишь.
За окном шумели дети, жена Прося хлопотала на кухне со старшими девочками, а во флигеле стояла гнетущая тишина. Приближался обед. Тимофей представил просящие глаза деревенских ребятишек, и ему стало не по себе. Всех надо накормить, а продукты на исходе. Не иначе – придется идти в Липовку, к коменданту на поклон. Как ни странно, но Штубе всегда помогал, и Тимофей ломал себе голову, с чего бы это? Не мог он поверить в милосердие этого педантичного и, казалось, равнодушного ко всему немца.
Детский гвалт и писк вдруг сразу умолкли, и Тимофей расслышал тарахтенье немецкого ДКВ. Он кинулся к окну. За оградой стоял комендантов «оппель», несколько мотоциклов и грузовая машина-фургон.
Непонятное и страшное предчувствие приковало Тимофея к подоконнику. Простояв секунд пять в оцепенении, он заковылял к выходу, успокаивая себя: «От неожиданности… Ничего он не мог пронюхать. Чушь! А дети… что они им. Но фургон…»
– Лезайте в шкаф, и чтоб ни звука! – торопливо приказал Тимофей детям, не отдавая себе отчета и смутно соображая, зачем он это говорит.
– Чего? – спросил Артемка и разинул рот на полуслове, недоуменно уставясь на Тимофея.
– Быстро! Быстро! – зашептал он.
Испуг отца, видно, передался Анютке, и она скоренько юркнула в старый широкий шкаф, за ней исчез и Артемка, прихлопнув за собой тяжелую створку.
Притихшие дети толпились во дворе, с любопытством оглядывая немцев. Клаус Штубе, как всегда чисто выбритый, подтянутый и спокойный, неторопливо прохаживался по двору и указывал пальцем то на одного, то на другого из сбившихся в кучу детей. Тех ребят, на кого показывал комендант, солдаты отводили в сторонку и строили по два. Проделывали они это деловито.
Тимофей чуть не кубарем скатился с крыльца и подбежал к коменданту, от волнения припадая на культю больше обычного.
– Герр капитан! Что это, герр капитан?
– О, учи-тель! – Штубе обернулся слегка и улыбнулся Тимофею. – Ко-ро-шо…
– Куда детей, герр капитан? – спросил Тимофей.
– Erklären sie ihm,[5]5
– Объясните ему.
[Закрыть] – сказал Штубе переводчику.
– Wie, Herr Hauptmann?[6]6
– Как, господин капитан?
[Закрыть] – спросил переводчик.
– Wie, sie wollen… Übrigens sagen sie daß er zur Untersuchung genommen wird. Mag loswerden,[7]7
– Как хотите… А впрочем, скажите, что забираем на медицинский осмотр. Пусть отвяжется (нем.).
[Закрыть] – ответил Штубе снисходительно и улыбнулся.
– Не беспокойтесь, господин учитель, – заговорил переводчик. – Дети вернутся, на медосмотр…
Тимофей, не дослушав переводчика, отскочил в сторону и что есть мочи закричал:
– Дети, разбегайся-а-а!
Все, кто был во дворе, обернулись к Тимофею. Дети растерянно глядели на своего учителя и не трогались с места. С такой же растерянностью глядели на него Штубе, переводчик и солдаты.
– Убегай от немцев! – крикнул опять Тимофей, недоумевая, почему дети стоят на месте. – К болоту!
Он знал, что на болоте, в камышах, ни один взрослый не сможет найти детей, не говоря уже о немцах, которые в трясину и шагу не ступят.
– Тикай! – раздался мальчишеский голос, и детвора кинулась врассыпную.
В ушах заломило от детского писка:
– И-и-и!..
– У-у-у!..
– Ма-ма-а-а!
Одни кинулись к саду, другие полезли прямо через забор, третьи рванулись к сараю. Солдаты, расставя руки, ловили детей, срывали с забора и кидали на землю, те вскакивали, с писком отбивались от немцев, кусались и ревели. Двое малышей юркнули под воз, зарылись с головой в солому, выставив наружу босые пятки; немец волок их оттуда обоих сразу, ухватив за ноги. Солома стлалась по двору.
– К болоту-у-у! – кричал Тимофей, срывая голос.
– Молчать! – Штубе уставился на него красными злыми глазами.
– К болоту! – повторял Тимофей, не обращая внимания на коменданта.
– Bringt ihn zum schueeigen![8]8
– Заставьте его замолчать!
[Закрыть] – приказал Штубе подбежавшему солдату.
– Schwein![9]9
– Свинья! (нем.)
[Закрыть] – прорычал солдат и с размаху огрел Тимофея по скуле.
Тимофей отлетел шага на три, чудом удерживаясь на ногах.
– К болоту! – простонал он бессмысленно, как будто в одном этом слове таилось спасение детей.
Удар приклада в подбородок опрокинул его на землю. Небо кувыркнулось, горячий солнечный луч полоснул по глазам, и Тимофей провалился в тишину.
* * *
Очнулся Тимофей от холода. Голова его лежала на нижней ступеньке крыльца, рядом сидела Прося и обливала затылок водой из деревянного ковшика. Мокрая рубаха прилипла к спине, к груди, освежая горячее тело. Анютка стояла возле матери и кулаками вытирала слезы.
– Очнулся, – вздохнула с облегчением Прося. – Слава те, господи! А я чуть было не обмерла… Прислухалась – не дышишь…
Тимофей попробовал привстать и рухнул обратно. Голова гудела как чугунная. Хотел заговорить, но резкая боль ломанула челюсти, и глаза сами собой сомкнулись.
– Лежи, Тима. Лежи, – заторопилась Прося. – Охолонь чуток.
Переждав головокружение, Тимофей открыл глаза и прошептал сквозь зубы:
– Что – дети?
– Разбеглись, Тима. Разбеглись. Артемка с Анюткой в шкапу просидели, а Максимки нету. Может, утек? Он шустрый.
– Все разбежались?
– Ой, Тимофей, не все. Которых поймали – увезли.
– Много?
– С десяток, не боле. Да ты не сомневайся, привезут. Оглядят и привезут, ироды проклятые! И надо было тебе…
Тимофей дернул головой и застонал от боли. Минут пять пролежал молча, собираясь с силами, потом с помощью Проси приподнялся и сел. Прося туго стянула ему голову мокрым полотенцем, и боль помалу начала отступать.
Все так же посвистывал ветер над садом, только во дворе стояла непривычная тишина. Ворота были распахнуты настежь, ветхий забор со стороны болота провис, готовый вот-вот рухнуть, кругом по земле разбросана солома, да четкие следы кованых сапог изрыли двор. Пусто вокруг. И жутко.
– Надо в деревню… – заговорил Тимофей, стараясь не разжимать зубов, – сказать, чтобы детей забрали… Всех.
– Знают в деревне. Я еще сбегаю. Давай-ка на крыльцо переберемся, в пыли сидишь, – хлопотала Прося. – А чего – всех?
– Кончился детдом, – простонал Тимофей, перебираясь на крыльцо.
– Ты что такое говоришь? Куда ж они их, а? Возвернут ведь… – неуверенно сказала Прося.
– Не знаю куда. Только не на медосмотр. Чуял же, нутром чуял недоброе!
– Да что, что, Тимофей?
– Не знаю. Боюсь – в Германию… Не знаю, Прося!
Вскоре в детдоме собрались метелицкие бабы. Никто не знал, кого из детей увезли. Тимофей наказал бабам разобрать детей по дворам.
– Аб чем гомонка? Заберем, заберем!
– Да рази ж отдадим детей энтим душегубам!
– А вы куда глядели, Антипович?
– Куды ему одному супротив немца?
– Бачь, измочалили человека…
– Ой, лихо-лихочко!
– Бяда…
Бабы посудачили и кинулись к болоту. Перепуганные дети не выходили на бабий зов. Отыскать же их в камышах, вставших сплошной стеной версты на полторы вдоль болота, не было никакой возможности. Бабы пришли в детдом и стали ждать.
Дети вернулись под вечер, все разом. Первыми показались Витька-сирота и Палашкин восьмилетний Колька, грязные, исцарапанные до крови. Бабы тут же накинулись на них:
– Где остальные?
– Туточки, за садом.
Колька шмыгнул в сад и лихо свистнул три раза. Детвора гурьбой повалила во двор. Бабы торопливо разбирали детей и уводили в деревню.
Полина, бледная, с растрепанными волосами, бегала по двору, искала Максимку и не могла найти.
– Прося, где ж он? Господи!
– Ой, сестра, не ведаю, – отвечала Прося. – Во дворе бегал. Хватали без разбору и кидали в машину.
– А Артемка еще в обед прибег…
– В шкапу они с Анюткой ховались.
– Как же ж так, Тимофей? Что ж то будет?
Тимофей стоял посередине двора, силился что-то сообразить и не мог. В голове все путалось и гудело.
– Да что ты к нему, Полина! Оглушили сразу, чтоб им!..
– Побегу в Липовку, – спохватилась Полина. – Успею…
– На ночь глядя? – напугалась Прося. – Ой, девка, сгинешь где на шляху!
Не нашли еше двоих детей, и матери их во главе с Полиной заторопились в Липовку.
* * *
Поздним вечером, когда все утихло, прибежал Гаврилка. Он сновал по флигелю, скрипя половицами, потряхивая пузом, и приговаривал:
– Што ж вы, Антипович! Да рази так можно? Теперича и мне несдобровать. Накликали беду, Антипович. Я бьюсь, бьюсь, стараюсь, кабы все по-людски, а вы вот… Да люди ж они! Возвернут хлопят.
– Сомневаюсь, Гаврило Кондратьевич. Очень сомневаюсь! Идите вы завтра в Липовку да хоть наших, метелицких, вызволите. От живых матерей ведь оторвали. И Полинин сын там… Этих они отдадут.
– Да вы што? – напугался Гаврилка. – Свою голову понесу? Не, Антипович, не пойдет так. Вы кашу заварили, а мне расхлебывай? Собирайте лучше детишков обратно, да штоб по-людски… Может, и простят.
Тимофей лежал на кровати с перевязанной головой, видел перепуганные, заплывшие жиром Гаврилкины глаза и знал, что староста пальцем не шевельнет для спасения детей. Заставить его Тимофей не может, упрашивать бесполезно. Гаврилка теперь не сунется в комендатуру, пока не позовут.
– С детдомом решено, Гаврило Кондратьевич, – сказал он. – Бабы детей не дадут, так что я тут бессилен. Завтра перейду домой. Надиректорствовался, сыт по горло. А продукты, которые остались, надо разделить по дворам.
– Не, Антипович, негоже. Без дозволения властей?
– Да кем я стану командовать? Разбежались дети, нету их!
– Не знаю, не знаю. Я тут умываю руки. Без дозволения… Ох, заварили вы кашу! Ну, дык я пошел. – Гаврилка засеменил к выходу, но остановился в дверях и добавил: – Если што, Антипович, я не дозволял покидать детдом. По-людски надоть, по-людски.
– Не бойтесь, вас не впутаю, – пообещал Тимофей и откинулся на подушку.
До зари не шел к нему сон. Тимофей с первых же слов Штубе понял, что ни о каком медосмотре не может быть и речи. Что-то страшное предчувствовал он, но что – понять не мог. Зачем понадобились им дети? Для чего? Не иначе – увезут в Германию, больше некуда и незачем. В этом он убеждался все тверже и все отчетливей ощущал свою вину перед детьми. Но какую? Да, его беспокоило пристальное внимание коменданта к детдому, да, он что-то подозревал. И только. Смешно, глупо было бы, опираясь на предчувствие, на зыбкое подозрение, что-то предпринять. Да и что он мог предпринять? Отказаться от работы – объявят партизаном, расстреляют и найдут другого директора. Рассудить строго – нет за Тимофеем никакой вины. Но это его не успокаивало. С детьми беда – виноват учитель, в любом случае, даже если совесть его чиста. Таков удел учителя, такова его профессия.
Назавтра он начал готовиться к переезду в деревню. Помогал Просе укладывать вещи, но руки его не слушались, думка о детях буравила больную голову, спутывала ноги, как вожжами. Медлил, чего-то ждал, на что-то надеялся, хотя надежда была невелика. Ждал он Полину и двоих метелицких баб, ушедших в Липовку. Может, троих метелицких хлопят удастся вызволить? Знал он, что разгульная Полина путалась с комендантом, презирал за это свояченицу, а теперь именно на нее и надеялся. Пока не выяснилась судьба детей, не мог он трогаться с места. Какая-то сила приковала его к детдому, заставляла ждать, ждать. Поутру Прося сбегала в Метелицу и вернулась ни с чем – Полина не приходила.
Так промаялся Тимофей до обеда, пока не увидел с детдомовского крыльца вчерашний фургон на липовском шляху. Радость, смешанная с болью и страхом, охватила его. Тимофей кинулся к воротам. Неужто и вправду забирали детей на медосмотр? Как же понять тогда разговор Штубе с переводчиком? Тимофей достаточно знает немецкий, не мог ошибиться. Может быть, едут за новыми детьми? Тогда они получат шиш. А если за ним? Опять не то – прикатили бы на мотоцикле.
Машина развернулась у детдома и задом въехала в раскрытые ворота, подминая колесами разбросанную по двору солому. Тимофей заглянул внутрь кузова и обомлел, хватаясь за борт, чтобы не осунуться на землю. Дети пластом лежали в машине и не шевелились.
Здоровый солдат оттолкнул Тимофея и начал открывать задний борт.
«Что они с ними сделали? Что?» – панически думал Тимофей, теряясь в догадках и холодея от какого-то непонятного предчувствия, тяготевшего над ним вот уже целые сутки.
Трое солдат перенесли детей в спальню, захлопнули борт машины и укатили.
* * *
Их было девять мальчиков возрастом от шести до десяти лет, с мертвенно-синими заостренными лицами, торчащими на подушках, и усталыми, взрослыми глазами. Они молчали и не двигались, протянув вдоль худеньких тел безжизненные руки, тупо уставясь в потолок, и, казалось, ни о чем не думали. Губы их были полуоткрыты, они дышали через рот, но дыхания не было заметно. Лежали тихо, как в гробах.
Ветки яблони за окном терлись зелеными листьями о стекло, и слышался мягкий шорох. Через раскрытую форточку доносился веселый птичий щебет да мерное гудение шмелей.
Анютка стояла у кровати своего брата Максимки, глядела на него во все глаза и почему-то не плакала. Прося замерла в дверях, бледная, с перекошенным лицом, подперев по-бабьи подбородок.
Тимофей сидел в углу на табуретке, бессмысленно уставясь на детей. За эту ночь он много передумал, предполагал самое страшное, но до такого додуматься не мог.
У всех девяти мальчиков выкачали кровь.
Трое из них были метелицкие: Максимка, Петя Вилюев и Стасик, внук деда Евдокима, остальные – сироты. Семилетних братьев-близнецов Юру и Женю Лозинских и Валеру Юркевича бабы привели из Зябровки, Сашу Поливанова, Вову Кондратюка и Леню Морозова привезли немцы из Гомеля; родители их или погибли при бомбежке, или находились на фронте.
Не прошло и получаса, как метелицкие бабы и мужики заполнили детдом. Они толпились на веранде, в дверях, проходили в спальную комнату поглядеть на детей и шептались, как на похоронах, охали, вытирали уголками косынок мокрые глаза. На веранде гудели погромче.
– Хуже турок. Изуверы! – доносился скрипучий голос деда Евдокима.
Ему что-то отвечали, о чем-то спрашивали, но этот разговор едва касался сознания Тимофея. Он сидел на прежнем месте, отрешенный от всего.
Позже всех прибежала Полина с бабами из Липовки. Со слезами и проклятиями на весь белый свет они взяли своих детей и понесли в деревню.
Только тогда Тимофей пришел в себя.
– Ну, вот что, бабы, – сказал он, – я останусь с ними, пока встанут на ноги, а потом вы заберете к себе. Подумайте, кому сподручней. А если со мной что случится, тогда уж сами…
* * *
Поставить на ноги шестерых детей Тимофею не пришлось: через день в детдом ввалились полицаи и увезли его в Липовку.
Комендатура находилась в бывшем сельсовете, единственном кирпичном доме в деревне, не считая церкви. У крыльца стоял комендантский «оппель» и несколько мотоциклов. На столбе, рядом с домом, висел громкоговоритель, изрыгая на деревню бодрый немецкий марш. Двое мужиков топтались у крыльца и поглядывали на часового, видать, ждали, когда их позовут.
Тимофей взобрался по крутым ступенькам крыльца, проковылял в прихожую и остался там с полицаем. Солдат пошел докладывать.
«Кажется, я свое оттоптал», – подумал Тимофей тоскливо и впервые в жизни пожалел, что не курит: хотелось чем-нибудь отвлечься и ни о чем не думать. Уезжая, он успокаивал Просю, мол, ничего, все обойдется, но мысленно простился с женой, дочерью, с Метелицей, где родился и вырос. Что Штубе порешит, то и будет. Выручить Тимофея никто не сможет. Маковский петляет с отрядом по лесу, ускользая от карателей, Люба не появлялась вот уже третью неделю.
Через минуту его позвали в кабинет коменданта. Клаус Штубе сидел за письменным столом и курил сигару, у окна стоял тощий лейтенант с такой же сигарой в зубах, в сторонке приютился переводчик. Солдат оставил Тимофея перед столом и вышел.
– Ну, учитель, я думал, вы… – Штубе запнулся, вспоминая нужное слово, – умный…
Тимофей молчал. Штубе сладко затянулся, откидываясь на спинку стула, отложил сигару и заговорил по-немецки. Переводчик тут же перевел:
– Отвечайте, умный вы или нет?
Тимофей помедлил немного и вдруг неожиданно для себя спокойно ответил:
– Да, герр капитан.
– Ко-ро-шо… – Штубе улыбнулся и опять заговорил по-немецки.
– В таком случае, – доносился голос переводчика из угла, – соберите детей и продолжайте работать. Это все, что от вас требуется. И чтобы без детских выходок. Я вижу, вы с детьми начинаете впадать в детство.
– Я не могу работать.
– Почему?
– Родители забрали своих детей и не вернут их в детдом. Они мне не доверяют.
– Родители?.. Дети – сироты.
– Там были и метелицкие. А сироты разбежались.
Штубе переглянулся с лейтенантом, и оба улыбнулись.
– Пусть это вас не беспокоит, – сказал комендант через переводчика. – Мы найдем для вас детей. За беспризорными нужен уход, не правда ли?
Тимофей промолчал.
– Значит, корошо?
– Работать я не могу, герр капитан. Я – учитель по призванию, и вы должны меня понять.
– Нет! – Штубе покачал головой и, скрипнув стулом, взял дымящуюся сигару из массивной серебряной пепельницы с торчащим посередине приспособлением для спичек, не спеша затянулся.
– После того, что вы сделали с детьми, я не могу, – сказал Тимофей.
Штубе удивленно поднял брови, отчего на высоком лбу его изломались три продольные морщины, и кивнул переводчику.
– А что мы сделали? – спросил переводчик.
– Вам это лучше знать, – ответил Тимофей, глядя Штубе в глаза.
Комендант медленно пожевал своими широкими румяными губами, встал из-за стола и, прохаживаясь по кабинету, заговорил наставительно, с расстановкой.
– Надеюсь, вас в некоторой мере коснулась цивилизация, – подхватывал на лету слова коменданта переводчик. – Так вот, цивилизация – это наука, много наук, и важное место среди них занимает медицина. Вы это понимаете? Детей мы использовали в высших целях научной медицины. Прогресс требует жертв, хотим мы того или нет. Парадоксально, но это так! Мы несем миру цивилизацию, и вы должны благодарить нас, способствовать этому нелегкому делу. Повторяю, детей мы использовали в чисто научных целях. Они будут жить и гордиться впоследствии, что помогли науке. Ничего страшного не произошло – простой медицинский эксперимент, какие проводят в любой клинике. Лучшие умы человечества работают сейчас на Германию, и кто нам мешает, того постигает справедливая кара. Мы не можем убедить всех в своей вере, но работать заставим. Ваш отказ от работы – вредительство. Вы догадываетесь о последствиях?
Тимофей слушал напыщенную болтовню Штубе и еле сдерживался, чтобы не сказать: «Герр капитан, скажите лучше, что ваши госпитали завалены ранеными. Кровь вам нужна позарез!»
– Отвечайте, учитель, вы знаете, что будет с вами?
– Да, знаю.
– Что?
– Вы меня расстреляете.
Штубе подошел к столу, стряхнул пепел с сигары, растер его по дну пепельницы и сухо улыбнулся. Тимофей понял, что этот человек способен на все. С такой же хладнокровной улыбкой он отдаст приказ убить человека, десять, сто человек, сжечь деревню или поселок.
– Ошибаетесь, учитель. Расстрел, я вижу, вы не боитесь. Мы расстреляем ваш семья, а вас повесим.
Штубе взглянул на Тимофея, и тот мгновенно сообразил, скорее почувствовал, что ни в коем случае нельзя показывать своего страха за семью.
– Слышите, повесим с этим… с сожалением. Я не хочу жестокости. Я караю по необходимости. Ну, вы соглашаетесь работать с нами? И забудем этот нехороший разговор.
– Нет, – выдохнул Тимофей.
Штубе достал новую сигару, ножницами аккуратно отрезал кончик и сказал:
– Вы глупый, учитель.
Они встретились взглядами, и глаза Штубе вздрогнули. Тимофей заметил, что комендант понял наконец бесполезность этого разговора, что хромой учитель, стоящий напротив, с первых слов знал его ложную игру. Штубе повернулся к лейтенанту.
– Sind Sie noch nicht satt davon?[10]10
– Вам не надоело с ним возиться?
[Закрыть] – спросил лейтенант, едва шевеля губами.
– Nichts zu machen…[11]11
– Что поделаешь…
[Закрыть]
– Erlauben Sie mir.[12]12
– Разрешите мне.
[Закрыть]
– Sie wissen doch meine Methode, Kurt![13]13
– Вы же знаете мой метод, Курт!
[Закрыть]
– Oh, diese Methode! Für sie gibtʼs nur eine Methode – Schliuge![14]14
– Ах, эти методы! Для них один метод – петля!
[Закрыть]
– Später, nicht in meiner Anneesenheit…[15]15
– Потом, не при мне… (нем.)
[Закрыть]
Штубе повернулся к переводчику и сказал несколько слов.
– Герр капитан ждет от вас ответа через три дня, – сообщил переводчик.
Подошел тощий лейтенант и указал Тимофею на дверь. В прихожей он кивнул солдату, тот сжал волосатой лапой плечо Тимофея и повел по коридору к лестнице, ведущей в подвал.
* * *
Привезли Тимофея в детдом чуть живого. Детей уже забрали метелицкие бабы, только Прося с Анюткой стояли в опустевшем дворе. Два дня он не мог встать с постели, а на третий с трудом перебрался в деревню, в свою хату с заколоченными ставнями, но еще долго харкал кровью и отлеживался на деревянной кровати, пока срасталась переломанная ключица. Штубе его не трогал больше, и Тимофей считал, что легко отделался. Начали поговаривать об открытии нового детдома в соседней деревне Криучи. Это, видать, и спасло его от немецкой расправы.








