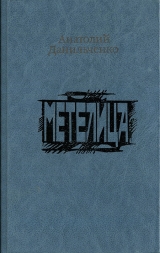
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
15
Из Гомеля Левенков возвратился усталым и разочарованным. С трудом выбрался из душного, переполненного вагона рабочего поезда (люди плотно – плечо к плечу, спина к спине – стояли в проходах, в тамбурах, висели на подножках, облепили крыши), но ожидаемого облегчения не почувствовал: вечернее солнце, раскалив за день песчаную платформу Сосновки, еще стояло высоко над лесом и дышало жаром, как только что вскрытая камера заводской печи. Это еще больше усиливало досаду и желание поскорее добраться до ведра с холодной водой.
Утром он побывал на Гомельском кирпичном, поглядел на работу бульдозера и нового резального станка, пока что единственного на все заводы управления. Станок ему понравился – предельно прост и эффективен, такому особого обслуживания не потребуется, а вот с бульдозером, пожалуй, Челышев прав. Именно бульдозер был главной причиной плохого качества кирпича: глина из карьера поступала с примесями, сырец при сушке трескался, обожженный кирпич раскалывался при первом ударе молотка. И как ни странно, в этом находили положительную сторону, дескать, строителям с ним легче обращаться, он удобен в работе, каменщики любят розовый податливый кирпич, а не сосновский темно-красный, который и зубилом не угрызешь. Такого мнения придерживалось и управленческое начальство. Еще бы! Выгодно, экономично, а главное – сокращается время на обжиг, значит, с меньшими мощностями можно дать больше. Попробуй откажись от такого соблазна.
В управлении главный инженер Книпович так и сказал:
– Напрасно упираетесь, нам не египетские пирамиды строить.
Левенков до сегодняшнего дня не упирался, это делал Челышев, но теперь и он стал на сторону директора.
– Прикажете выпускать брак?
– Не перегибайте, товарищ Левенков. Мы говорим о наиболее рациональной крепости кирпича. Должна быть разумная середина, разумный допуск. Ниже допуска – брак, выше – излишний расход сил и средств в ущерб заводу.
– И государству?
– Вот именно, и государству. – Главный лукаво прищурился. – Знакомые нотки, знакомые. Вижу, с начальником вы нашли общий язык, сработались. Не думал… Впрочем, все верно, мужик он твердый, перед таким сложно устоять.
Это прозвучало с издевкой, но Левенков только усмехнулся. Значит, их с Челышевым считают единомышленниками? Забавно.
Все это время Левенков ждал какой-то развязки – не с начальником, а с Натальей, – но какой именно, даже представить себе не мог. Раньше ее преданность, молчаливая предупредительность и любовь вызывали в нем чувство благодарности, теперь же все больше нервировали, становились навязчивыми. Он начинал каяться, что не оставил Наталью еще тогда, в Метелице, на своей земле. Теперь же бросить ее в Сосновке, вынудить катать эти вагонетки или грузить кирпич было бы подлостью. Разумом понимал, что надо смириться, пора смириться с настоящим положением вещей, но душой противился и не находил успокоения. Как-то он поймал себя на мысли, что ему ни разу в голову не пришел вопрос: а примет ли его Надя в случае, если они расстанутся с Натальей? – и напугался, не найдя ответа.
От этих мыслей он сам себе становился противным, начинал злиться на Наталью, отчего еще больше презирал себя – она-то тут при чем? Искать виновного в своей беде – удел людишек слабеньких, малодушных. Нет, он, Левенков, до такого еще не докатился, Наталья ни в чем не виновата.
* * *
За ужином Наталья обмолвилась о скорой поездке Ксюши в Москву.
– Зачем? – встрепенулся Левенков и тут же понял глупость своего вопроса и неуместность оживления.
– В отпуск, – пожала она равнодушно плечами, но он заметил в ее равнодушии ненатуральность и насторожился. Зачем сказала о поездке – по женской болтливости, просто так или с умыслом?
– И скоро?
– Да на той неделе. – Она собрала тарелки, сложила в них ложки, вилки, чтобы унести, но так и не унесла – поглядела на него и тихо спросила: – Может, отпустит дочек с Ксюшей? До школы. Вона ягод в лесу – красным-красно, грибы скоро пойдут…
Вот оно что – она боится отпускать его в Москву! Наталья знала, что он собирается во время отпуска проведать своих девочек, и до сих пор вполне спокойно к этому относилась. Теперь же – это совершенно ясно – боится. Выходит, допускает мысль об его уходе? Значит, никакой особой трагедии для себя в этом не видит? Он сам выдумал ее, а Наталья – натура намного проще, чем ему кажется?
От таких предположений Левенков разволновался, встал из-за стола, пробежался по комнате. Еще сегодня убеждал себя в том, что надо смириться, но теперь…
«А что теперь? Ничего теперь не произойдет. Боится, как всякая женщина. Возомнил тоже…»
– Может быть, и отпустит, – сказал он. – А кто отвезет обратно?
– Да наши бабы ездят! – оживилась Наталья. – Каждый месяц кто-никто, а едет.
Левенков уже не мог успокоиться. Померил нервными шагами комнату, пошелестел бумагами на столе, перекладывая их с места на место, и не выдержал:
– Ксения Антиповна дома?
– Должно быть, по всему… – отозвалась из кухни Наталья.
– Схожу, поговорю с ней.
– Сходи, Сергей Николаевич. – Она появилась на пороге – озабоченная, с просящим взглядом. – И это… поговорил бы с Демидом, а? Что ж то он вытворяет, бугай!
– А что такое? – спросил Левенков.
– Опять напился, скандал учинил. Погонит его Ксюша. Помяни мое слово, погонит. Она баба хоть и терпеливая, но к такому обращению непривычная. Это-то после Савелия! А я, дура, еще и нашептывала: гляди, Ксюшенька, не упускай счастья своего. Подфартило тебе с полчанином…
– Поговорю, Наталья, поговорю, – прервал ее Левенков с досадой.
Слова Натальи прозвучали для него упреком. Он чувствовал ответственность перед Ксюшей за Демида. Вольно или невольно, однако получалось так, будто он их свел – не с посторонним прохожим она знакомилась, а с его однополчанином, товарищем, в его доме, за его столом, и ее отношение к Левенкову не могло хоть в какой-то мере не перекинуться на Демида. Неловко ему было и перед Челышевым, и перед всеми заводчанами, для которых их дружба – не секрет. Однажды, после очередной Демидовой выходки, директор откровенно упрекнул Левенкова: «Пригрел хулигана, понимаешь! Не угомонится – сам за него возьмусь». И упрекать было за что. То и дело в поселке говорили о Демидовых «концертах», а возмутительный случай с матерью Андосова стал настоящей притчей: «Как Демид Марфушку напоил». Действительно, хулиган, иначе не назовешь.
…Дверь открыл Демид, радушно поздоровался – кажется, он был рад приходу Левенкова, ждал его.
– А что, Ксении Антиповны нет? – спросил Левенков, оглядевшись.
– В магазин пошла, скоро будет. Проходи, Сергей Николаевич, садись. Что-то я тебя сегодня не видел.
– В Гомель ездил.
Он прошел в комнату, сел у окна и постучал пальцами о подоконник. Пока хозяйки нет, самое время поговорить начистоту, по-мужски, но первые слова не приходили.
– Что это ты, вроде помятый?
– Обсказа-али, – протянул Демид, принимая свой обычный вид. – Э-э, Сергей Николаевич, разговоров больше.
– Разве только это, Демид! Помнишь, что ты мне обещал в первый день? Помнишь, хорошо. Так в чем дело? Не нравится, не любишь – оставь. Зачем позоришь женщину перед всем поселком? И меня позоришь. Слышишь, Демид, и меня! Все ведь знают наши с тобой отношения.
– Эх, командир, Сергей Николаевич! Не любишь… оставь… Да я не могу без нее! – Он вскочил со стула, по-медвежьи валко заходил по комнате, скрипя половицами, – большой, с виду неуклюжий, но Левенков-то знает его ловкость и увертливость, когда это требуется. – Оставь… Тут как бы самому остаться. Не любишь… А ты вот поверишь, что я, Демид Рыков, смогу стать перед бабой на колени и слезно просить прощения? Ага, не поверишь. А стоял ведь, сегодня стоял, душа из меня вон! Я, Рыков, и стоял!
Он по-блатному выругался и уже совершенно другим тоном, сникнув вдруг, попросил:
– Поговори с ней, Сергей Николаевич. Ты для нее авторитет. Поговори, а? Пропаду я без нее.
– Прогоняет разве?
– Да… похоже. Может, и обойдется. Короче, не знаю. Ты вот говоришь: «Оставь, не любишь». А она? Стоило раз сорваться – и Демид не нужен, лишний Демид, чужой. Так… тряпка половая под ногами. Кто я ей – муж или случайный… – Он произнес неприличное словечко, сам почувствовал, что не к месту, слишком уж грубо, и умолк.
– Насчет моего влияния ты заблуждаешься. И потом, не лукавь, знаешь отлично, что дело не в одном каком-то случае. Я и то перестал тебе верить. Не верю, понимаешь? Чего же ты хочешь от нее?
– Я понимаю, Сергей Николаевич. На этот раз железно. Скажи к слову.
– Попытаюсь, – вздохнул Левенков. – Я, собственно, и пришел поговорить с ней насчет поездки в Москву. Хочу девочек на лето к себе взять.
– А-а, ну да, конечно. Сам, значит, не поедешь?
Левенков пожал плечами. Что сказать, когда ничего не знаешь. Отпустит? Не отпустит? Как поведет себя? Он рассчитывал узнать через Ксюшу ее теперешнее настроение, но удастся ли – тоже неизвестно.
Ксюша пришла в ранних сумерках, когда отблески заката уже погасли за окном и небо посерело, нахмурилось. Сразу же за ней появился Артемка. Видно, без матери боялся или не хотел оставаться наедине с отчимом. Было ясно, что его привязанность к себе Демид потерял, теперь не скоро восстановит, и восстановит ли вообще. Обиду от чужого человека или от родного отца ребенок быстро забывает, но отчим – особая статья. Дети погибших на войне, особенно мальчишки, крепко помнили своих отцов и гордились ими, наделяя их фантастическим героизмом, добротой, щедростью, умом – всеми самыми лучшими качествами, которыми те, может быть, и не обладали. Завоевать любовь таких детей было чрезвычайно сложно, но очень легко потерять. Демид же или не понимал этого, или слишком рано уверовал в свой авторитет.
К Левенкову Ксюша отнеслась непривычно сдержанно, Демида вовсе не заметила, словно его и не было в доме, и занялась на кухне своими делами. Пришлось пойти к ней и объяснить цель своего визита.
– К вам я, Ксения Антиповна. Наталья говорила, что вы в Москву собираетесь.
– Надо съездить, не пропадать же отпуску. А вы насчет дочек?
– Да, хотел попросить…
Она кивнула понимающе, выдав тем самым, что такой разговор уже состоялся с Натальей, пригласила его в комнату и сама прошла – свободно, уверенно, показывая всем видом, кто́ хозяин этого дома. Демид посидел еще немного, молча послушал их разговор и вышел покурить в надежде, что речь зайдет и о нем.
– Я напишу письмо, – объяснил Левенков, – думаю, отпустит… обещала. У нее и остановитесь, она… гостеприимная. – С языка едва не сорвалось: «Она у меня», – но он вовремя спохватился.
– Да у меня есть один адрес, – замялась Ксюша. – Кто я ей – чужой человек, стесню только.
Адрес ее был явно ненадежный.
– Что вы, не стесните! Квартира там свободная. Вот увидите, она сама оставит вас, – оживился Левенков и, заметив, что расхваливает Надю, неловко прервал себя.
Ксюша взглянула на него то ли с укором, то ли с сомнением, и он понял, что говорит о прошлом, по крайней мере, как было два года назад. Но почему все должно оставаться по-прежнему, недвижимо? Может быть, в квартире сейчас не так уж свободно… Нет, Надя не могла. Не могла! А почему, собственно, не могла? Он может, а она нет?
– Я зайду, – пообещала Ксюша. – Обязательно зайду. Приготовьте письмо.
– И еще, Ксения Антиповна… присмотритесь, что там и как. Ну… вы понимаете, ведь родные дочери. Сложно все!
Он знал, что его слова будут переданы Наталье, однако рассчитывал на понимание и сочувствие Ксюши. Пусть передает, Наталья и сама не слепая, видит, каково ему без дочерей, без Москвы. Ее он жалеет, никогда не жалуется, не ноет, прячет свою тоску, во всяком случае, старается это делать. Что же еще! В конце концов, он тоже человек и его надо понять. Почему он должен щадить Натальины чувства, а она нет? Надя говорила, что его поведение в чем-то ненормально, превышает разумную границу. Может быть, и так. Может быть.
От Ксюши Левенков ушел, полный сомнений и смутных надежд. О Демиде так и не заговорил – не выпало подходящего момента.
16
После сосновской тишины, размеренной неторопливости во всем Москва утомляла, оглушала беспрерывным гулом, суетой, спешкой, скоплением народа и конечно же избытком новых впечатлений. На третий день Ксюша чувствовала себя разбитой, изнемогшей как после жатвы. Вчера они с Артемкой до полудня провели у Кремля, обошли его кругом, все оглядели, после обеда толкались в магазинах, а вечером были в цирке. К ночи разламывалась голова и ноги, но уснуть она долго не могла – перед глазами стоял цирк, плотно, до предела заполненный людьми, как созревающий подсолнух семечками. С этим видением цирка-подсолнуха с желтой ареной-сердцевиной, с людьми-семечками она и уснула.
Дети отправились в зоопарк, а Ксюша отказалась. Продуктами она запаслась – загрузила наволочку, сумки, специальные мешочки вермишелью, макаронами, рожками, звездочками, крупами; билеты на поезд (в том числе и на Свету – она с радостью согласилась ехать к папке, Люда же не захотела) взяла на завтра, на вечер, а с Надеждой Петровной толком еще и не поговорила. Они как-то избегали разговора о Левенкове, хотя обе хотели (Ксюша это замечала) поговорить начистоту, по-женски откровенно. Не оставалось сомнений, что для Надежды Петровны это важно, и Ксюша была обеспокоена судьбой Натальи. Слишком ненадежна ее жизнь с Левенковым.
Насчет Светы все было сказано и решено – к сентябрю ее доставят в Москву с верными людьми, – но Надежда Петровна, впервые расставаясь с дочкой, волновалась, не могла свыкнуться с мыслью, что не увидит ее полтора месяца, снова и снова возвращалась к одному и тому же:
– Я вас попрошу, Ксения Антиповна, присмотрите за ней, Света такая шалунья, не попала бы в беду. Ее подвижность меня беспокоит.
О Наталье она ни разу не обмолвилась, словно той и не существовало. И это упорное умалчивание еще раз подтверждало, что она постоянно думает и о Левенкове, и о Наталье. Ксюша хорошо понимала ее состояние и сочувствовала ей. Невольно, вопреки рассудку (кто она – чужой человек, не с Натальей сравнивать), сочувствовала и жалела чисто по-женски, испытав на себе, каково без мужа да с детьми.
Надежда Петровна понравилась ей с первой встречи. Понравилась своей рассудительностью, спокойствием, мягкой улыбкой и таким же мягким, чуть напевным говором с едва различимой, привлекательной картавинкой, а больше всего – терпением и порядочностью. Ни разу она не пожаловалась, не обругала Левенкова, не стала по-бабьи поносить Наталью. А могла бы. И нового мужа найти могла. Что в том Левенкове – мужчина, каких тысячи. Ждет, верит в его возвращение? Или блюдет себя из-за девочек?
И то, и другое вызвало в Ксюше симпатию и вместе с тем недовольство собой, чувство вины перед Натальей, потому как, жалея Надежду Петровну, совершенно чужого человека, она как бы предавала свою двоюродную сестру.
– Я бы не отпустила Свету, – продолжала Надежда Петровна, – но она такая слабенькая. Ей нужен лес и парное молоко. Единственно из-за здоровья. Единственно. Там есть парное молоко?
– В Сосновке много коров, целое стадо.
– Это хорошо, она непременно поправится.
– А с виду не скажешь, резвая девочка.
– Это с виду, Ксения Антиповна. Только с виду. Здоровье у нее неважное. Людочка здоровее, крепче, а Света меня очень беспокоит. Не было еще ни одной весны и осени, чтобы она не болела. Единственно поправить здоровье. Единственно. Иначе бы я ее не отпустила.
Она словно извинялась, настойчиво повторяя и подчеркивая причину отправки к Левенкову, и эта настойчивость вызвала у Ксюши подозрение. Может, не единственно поправить здоровье? Может, еще и для того, чтобы с большей силой расшевелить у Левенкова отцовские чувства? Наталья говорила, что Света его любимица.
– Сергей Николаевич скучает по девочкам, – обмолвилась Ксюша, вызывая ее на откровенность. Это блуждание вокруг да около начинало надоедать, ведь обе они женщины, чего стесняться.
– Ну и что же, – произнесла Надежда Петровна безучастно, однако не сумела скрыть настороженности – вся собралась и забегала взглядом по комнате.
– Отец все-таки.
– Отец… – Она грустно усмехнулась. – Мало – родить…
– Всяк оборачивается. Дорожки у жизни извилистые.
– Да-да, конечно. Я к нему без претензий. Что ж теперь…
Видя, что она так и не решится на откровенность, Ксюша не выдержала:
– Ждете, Надежда Петровна?
Вопрос был резким и неожиданным. Она вздрогнула, как-то жалостно собралась в комок, вогнув худые, острые плечи, с минуту сидела так, потом встала с дивана, порывисто прошлась по комнате, приостановилась у стола, разглядывая яркую цветную скатерть, и села на прежнее место, зажав между коленок сомкнутые ладошки бледных от напряжения рук.
– Жду, Ксения Антиповна. Стыдно, а жду. – Она вздохнула и расслабилась. – Сколько раз написать порывалась… Эх, бабы мы, бабы! Ни гордости в нас, ни самолюбия.
– Любите, значит.
– Люблю? Хм… Не знаю, может быть, это и называется любовью. Не знаю. Он отец моих девочек, другое как-то и не представляется.
Ксюше до времени тоже не представлялось, а потом появился Демид и стал привычным. Трудным, порой ненавистным, но привычным. Появился ведь он, смог появиться. Правда, у нее совсем другое, ей некого было ждать. А смогла бы она ждать и быть готовой простить, случись подобное с Савелием? Сразу не ответишь, надо прочувствовать самой. Наверное, смогла бы. Случись с Савелием – смогла бы, но только не с Демидом. Демид не первый, не отец ее сына. Демиду она не простит и попытки измены.
– Вы хорошо знаете Сергея Николаевича? Он пишет, что давно знакомы.
– Да, еще с сорок второго, сразу после лагеря.
– Не мог он так вот, без особой причины, остаться. Правда, не мог?
Она ждала подтверждения, и Ксюша обрадовалась, что ей не нужно лукавить. Совсем не по любви остался Левенков, это все знают, в том числе и Наталья.
– Конечно, Надежда Петровна. Да, да! Он очень мягкий и… как бы это сказать, много в голову набирает.
– Впечатлительный.
– Если не более того.
– Это верно, болезненно впечатлительный. Он всегда был таким. Конечно, он вынужденно… Да, вынужденно…
Ксюша заметила, что они слишком уж в лад оправдывают Левенкова, и рассердилась на него. Если такой добренький, совестливый, то зачем сходился с Натальей? Во всяком случае, мог бы не приходить после войны, не отрывать ее от родного места. Погоревала бы, повздыхала и успокоилась. А теперь ей куда? Тоже хорош гусь.
– Его никто не неволил, – сказала она сухо.
– Я понимаю, понимаю. Он сам. В том-то и дело, что сам.
Надежда Петровна смутилась, неловко помолчала и наконец решилась спросить о том, что не давало ей покоя. Спросила робко, осторожно:
– Ксения Антиповна, какая она?
– Кто, Наталья?
– Ну да… Наталья, – с трудом выговорила она это имя.
Сразу Ксюша не нашла ответа. Вопрос застал ее врасплох, как несколько минут назад Надежду Петровну. Наговорить о красоте, о молодости Натальи – значит пробудить излишнюю ревность и ненависть к ней. Ни к чему это. Сказать о ее седине, некрасивости, малограмотности тоже не хотелось – это все внешнее и не главное в Наталье.
– Красивая, молодая? умная, да? Скажите правду, – настаивала Надежда Петровна. – Пожалуйста. Мне важно знать.
– Какое это имеет значение.
– Имеет. Вы ведь женщина, Ксения Антиповна. Имеет. Мне будет легче, если она… ну, без особых достоинств.
– Она просто добрый человек.
– Но что-то общее у них должно же быть. Что? Неужели только чувство благодарности?
Она волновалась, не находила места рукам, покраснела, видно, стыдилась своего любопытства и не могла с ним справиться. Ксюше было жалко ее, но не менее жалко и Наталью. В конце концов, не обязательно быть красивой и умной, чтобы нравиться. Она хочет убедиться и убедить ее, Ксюшу, в том, что Наталья не пара Левенкову и ничего общего у них быть не может, что ему там не место. А почему, собственно, не пара? Что он, министр какой, молодец-красавец? «Без особых достоинств…» У Натальи сердце шелковое, душа чистая, что еще надо? Нет, милая, не только благодарность.
– Судьба, знать, общая у них, – сказала она, сдерживая охватившее ее вдруг раздражение и опуская глаза, чтобы скрыть недовольство.
– Судьба? – переспросила Надежда Петровна, вздрогнув, как от испуга. – Нет-нет, что вы! Случай – еще не судьба. Нет, Ксения Антиповна, вы ошибаетесь.
«Может, ошибаюсь, может, нет, – подумала Ксюша. – Веришь – верь, ждешь – жди. Жизнь сама рассудит и расставит все по местам. А я в твоем счастье не помощница, потому как не враг своему человеку».
Она так и не открылась, что доводится Наталье двоюродной сестрой.
* * *
Назавтра они отъезжали. Надежда Петровна проводила до поезда, посадила в вагон, снова и снова просила приглядеть за Светой, наказывала Артемке не давать ее в обиду, приглашала на следующее лето в гости – надолго, чтобы отдохнуть и хорошенько осмотреть всю Москву. Простились они как хорошие подруги, даже облобызались, чмокнув друг друга в щеку.
На следующий день, к обеду, прибыли в Гомель. Погода стояла такая же ясная, как и в Москве. Вгоняя в пот и утомляя глаза, ощутимо припекало солнце, на дальних путях голосисто свистела «кукушка», лязгали буфера вагонов, пчелино гудел перрон, по-вокзальному толкались и спешили люди, шныряли подозрительного вида вертлявые парни, переругивались, как торговки на базаре, на редкость для голодного сорок седьмого мордастые проводницы, но все это было свое, домашнее и не пугало.
Рабочий поезд в сторону Сосновки отходил через три часа, и Ксюша решила переждать жару в привокзальном садике. До него, считай, шагов четыреста, плечи отдавишь, руки оборвешь тяжелым чемоданом, кошелкой, объемистыми оклунками. Однако груз этот приятный, побольше бы такого. Она дошагала почти до самых ворот, отгораживающих перрон от города, как вдруг перед глазами встал Демид.
– С приездом, путешественники! – пробасил он и расплылся в довольной улыбке.
– Откуда взялся? – удивилась Ксюша.
– Встречаю вот, – ответил Демид как ни в чем не бывало и, не дав ей опомниться, легко подхватил чемодан, кошелку, смахнул с плеч оклунки. – Поезд не скоро, я на машине тут. У багажного стоит. А ты нагрузилась под завязку, надорваться вздумала? Ну, двинули. Как там столица, шумит-гудит?
Не дожидаясь ответа, он развалисто направился к воротам, Ксюша с детьми зашагала следом, недоумевая, как он мог узнать, что она вернется именно сегодня. При отъезде они вообще не разговаривали, не то чтобы условиться о дне возвращения. За эти шесть дней злость ее на Демида притупилась, а теперь вот он неожиданно встретил, позаботился, и на душе у нее окончательно отлегло. Ведь может быть хорошим, когда захочет. Клялся, просил прощения, обещал не пить, даже на коленях стоял, чертяка. Чудеса, да и только – мужик на коленях. Как держать зло на такого? Может, на этот раз понял, что она слов на ветер не бросает, прогонит, как и обещала? Пора бы понять.
У машины топтался снабженец Николай Палагин. Усадив детей в кабину, с ним Ксюша и забралась в кузов, заваленный ящиками.
– С базы? – спросила она. – Что-то рано.
– Ранняя птичка клюв чистит, поздняя глаза продирает. Дело известное.
– И что получил?
– А разные разности, что удалось вырвать: инструмент, подшипники для роликов, гвозди, рукавицы… Свое законное и не выколотишь, вечно на подмазке. Ну и как съездила, Ксения Антиповна?
– Хорошо съездила, вот дочку к Левенкову везу.
– Я так и смекнул, чья же еще, как не его. Обрадуется Сергей Николаевич, обрадуется. Ай поделить решили? Дочек-то. Без обиды чтоб… Его правоверной тоже, видно, пожить хочется, ага? Оно правильно, чего ж… Глек до время воду носит, а там глядь – одни черепки.
Его разбирало любопытство, и это Ксюше не понравилось. Что ни скажи – его жена Маруся переиначит и тут же разнесет по всему поселку. Язычок у нее известный.
– А вы удачно подгадали, – перевела она разговор на другое. – Мимо проезжали?
– Подгадали… – Палагин лукаво повел глазами и усмехнулся в кулак, выдавая тем самым, что знает о ее ссоре с Демидом. – Второй день караулим, – сказал он со значением и прищурился.
Ксюша почувствовала, что краснеет, и отвернулась, будто разглядывая проплывающие мимо руины и уже восстановленные дома на Комсомольской улице. Они проехали пожарную каланчу на углу центральной, предпарковой площади, свернули вправо, к электростанции, к временному деревянному мосту через Сож. Здесь, как Демид ни старался, машину затрясло на разбитой вдрызг булыжной мостовой; зазвенели железки в ящиках, заколыхало на перекинутой от борта к борту лавочке, и нормально разговаривать стало невозможно. Оно и лучше, не нравились ей эти ухмылочки снабженца.
Заговорили снова только за Ново-Белицей, когда выехали на лесной песчаный шлях. Ксюша спросила о заводских новостях, и Палагин словоохотливо пересказал ей все поселковские сплетни.
В лесу повеяло прохладой, тишиной, задышалось легко, успокоенно, по-домашнему, и на душе повеселело от предвкушения отдыха после городской суеты, вагонной затхлости, толкотни вокзальной, чужих, незнакомых лиц. Привычная к деревенской размеренности, не знавшая в своей жизни дальних поездок, за эту неделю она успела соскучиться по дому и теперь по-настоящему радовалась возвращению. Радовал перестук дятлов, перещелк пичуг, осиливающих гудение машины, густая тень размашистых деревьев, то наползающая темными пятнами, то убегающая вдаль. Радовал даже кудлатый хвост пыли за машиной, относимый за обочины легким ветерком.
Но главной причиной ее успокоенности было примирение с Демидом. Конечно, она еще поговорит, выдаст ему по первое число, однако внутренне уже примирилась и простила его.
* * *
Не успела машина остановиться у крыльца, как рядом появилась Наталья – возбужденная, румяная от волнения. Она коротко поздоровалась со всеми сразу, кинулась было к Свете, но та опасливо отшатнулась и требовательно уставилась на Ксюшу, отыскивая у нее защиту.
– Светочка, это тетя Наталья, она ждала тебя, встречает… У нее и жить будешь.
– А папа где?
– Папка на работе, на заводе. Не знал, что ты сегодня приедешь. Мы сейчас… сейчас за ним сбегаем. – Наталья растерянно оглядела пустой двор и, не найдя, кого бы послать, заторопилась. – В конторе он, видать. Я быстренько…
– Подожди, Наталья, – остановила ее Ксюша. – Артемка сбегает.
– Ага. Артемка. Сбегай, голубок. В конторе он, а нет – в мастерских.
– И я с тобой, – вызвалась Света, немного осмелев.
– Да он мигом: одна нога тут, другая там. Уморилась с дороги, пошли в дом.
– Нет, я к папе!
– Ну сбегай, сбегай… – выдохнула Наталья упавшим голосом и, улыбнувшись виновато, безвольно свесила вдоль тела свои тяжелые руки.
Пока они разговаривали, Демид снес в дом всю поклажу.
Дети отправились на Большой двор к конторе, отыскивать Левенкова.
– Не расстраивайся, – успокоила ее Ксюша. – Папка не встретил – растерялась девочка. Света общительная, ласковая, вы с ней подружите.
– Да я ничего… Это ее чемоданчик? Зайдем, покудова не возвернулись, а?
Они прошли в дом, присели на кухне, у обеденного стола. Наталья ждала радостной вести об устроенности Надежды Петровны, о ее новом муже. И Ксюша с такой надеждой шла на Цветной бульвар, но увидела совсем другое. Как же ей теперь сказать – так вот сразу, словно обухом по голове?
Долго не могла начать, отдувалась, будто от жары, озиралась кругом – как тут без нее, порядок ли? – трогала пальцем землю в цветочном горшочке, двигала табуреткой, усаживаясь так и этак, пока Наталья не поторопила:
– Давай, чего там тянуть-затягивать! Вижу, радоваться нечему.
– Нечему.
– Я так и знала, – вздохнула она и сникла, кривя губы в жалкой усмешке. – Особо и не надеялась. Говорили ай сама так порешила?
– Говорили. Начистоту говорили. Ждет она.
– А чего ждет-то! Дожидальщица… Все ожиданки прошли, пора бы… Што, обличьем не вышла, найти не может, а?
– Не хочет. Могла бы, а не хочет.
– Ишь ты, не хо-очет, – протянула Наталья то ли с насмешкой, то ли с уважением.
Она прислонилась к стене, слегка запрокинув голову, и уперлась неподвижным взглядом в потолок. Открылась сухая жилистая шея с глубокой тонкой морщиной, врезавшейся по окружности, как петля.
– Как быть с Сергеем Николаевичем? Ведь станет допытываться. Может, умолчать, а?
– Допытываться станет… – Наталья опустила наконец голову, прикрыв морщину подбородком. – Все одно, Ксюшенька, дознается от Светки. Все одно, ничего не переменишь.
– Светка еще дите, что она там понимает, – возразила Ксюша нерешительно, нисколько не веря в свои слова. Девочка конечно же нащебечет Левенкову, как они любят папку, как ждут его. Это она умеет.
– Все одно, все одно, – твердила Наталья обреченно. – Раз не укроешь, так нечего брехать. Все одно. Я не отпущу – не уйдет. А как смогу?.. Мешаю я, да куда ж мне? Живую не закопаешь.
– Тю ты! Чего мелешь!
– Да я так, я ничего…
Она ушла, взяв Светин чемоданчик, а Ксюша принялась распаковывать свои оклунки.
Ближе к вечеру, когда Наталья отлучилась в магазин, заходил Левенков, расспрашивал о Москве, о второй дочке, вскользь – о Надежде Петровне, но было видно, что именно о ней ему больше всего хочется узнать. Ксюша рассказала обо всем, что видела, однако произнести откровенное «ждет» язык у нее так и не повернулся.








