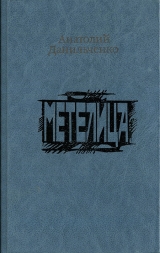
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
13
Пока дед Антип разговаривал с начальником, Артемка сидел на белой, еще пахнущей деревом лавочке у забора и разглядывал развалины каменного дома по другую сторону улицы. Под грудами кирпича и обломками стен ему мерещился ворох всевозможных ценных вещей. Дом, видать, был в несколько этажей, с подвалами, чуланами, тайниками, и, конечно, всякого добра там похоронено видимо-невидимо. Удивляло одно: почему в этих развалинах никто не копается? Метелицкие хлопцы давно бы излазили вдоль и поперек, каждый бы гвоздь, каждую уцелевшую доску прибрали к рукам – в хозяйстве все пригодится. Правильно говорил дед Антип – бесхозяйственные эти городские.
Артемка вздохнул и с досадой отвернулся от «богатых» развалин. Хотелось нырнуть в темные узкие провалы, покопаться в грудах битого кирпича, но было боязно – это тебе не дома в родной деревне, а в чужом, незнакомом городе.
В Артемкином представлении Гомель был другим: более загадочным и красивым, более шумным и людным, с машинами на улицах, с широкими стеклянными витринами магазинов… Дед Антип говорил, что города нет, спалили его, разрушили. Но Артемке не верилось: как это можно спалить каменный город? Это же не Метелица, где стоит пустить «красного петуха» – и деревня сгорит. Оказывается, можно спалить и целый город. И хотя город походил на бугристый без конца и края пустырь, Артемке в нем было тесно. Дома – каменные, заборы – каменные, дороги на улицах застланы камнем, стежки вдоль заборов и те уложены квадратными кирпичиками. Ступить негде, того и гляди, поранишь ноги. То ли дело в Метелице – приволье! А что развалины тут «богатые», так это еще бабка надвое сказала. Неужто городские хлопцы такие дураки, что не излазили их, не выщупали как следует?
Артемка еще раз покосился на развалины и, зная, что не осмелится туда полезть, решил про себя: «Камней куча… и ломаного гвоздя не отшукаешь».
На крыльце показался дед Антип, злой как черт. Это Артемка определил с первого взгляда.
– Пошли, – буркнул дед Антип и зашагал по улице, широко размахивая своими длинными руками.
Артемка прихватил узелок с едой и посеменил за дедом. Спрашивать, отчего он сегодня такой сердитый, не решился.
До обеда плутали по городу. Дед заходил в какие-то дома, чего-то там говорил, и они опять шагали по запыленным каменным улицам. Потом он надолго исчез в дверях большого зеленого дома на улице Советской, и Артемка терпеливо его ждал, читая афиши на заборах, вывески, читая все, что только попадалось на глаза. Много нового, неизвестного доныне, открылось Артемке. Например, он узнал, что дома в Гомеле были под номерами, а улицы имели названия. Чудно! В Метелице единственная улица никак не называлась, зато о каждом доме можно было сказать: хата деда Евдокима, хата Лазаря, хата председателя…
«Чего это они для одной метелицкой улицы названия не придумают?» – рассуждал Артемка, стараясь не думать о завязанной в узелок еде. Проголодался он изрядно.
Только после полудня вышел дед Антип из зеленого дома, все такой же злой и хмурый. Они зашли в полуобгорелый скверик, расположились на небольшой лужайке и принялись уминать холодные драники с малосольными огурцами.
Перекусив, дед Антип сказал:
– Ишо в одно место сходим. Уморился небось?
– Да не-е, – протянул Артемка. Жаловаться на усталость он не мог, потому как сам напросился ехать в Гомель.
Дед оглядел его, видать, оценил Артемкино терпение и удовлетворенно хмыкнул. Артемка приободрился и осмелился спросить:
– А чего ты все ходишь да ходишь по домам?
Этот вопрос озадачил деда. Он долго молчал, шумно сопя носом, потом ответил задумчиво:
– Правду, внучек, шукаю.
– Ну да, – не поверил Артемка. – Чего ее шукать…
– А того, што сама она не приходит, потому как гордая, любит поплутать человека. А и то – не засиживайся. – И закончил уже сердито: – Ноги истопчешь, пока найдешь ее, лярву!
Артемка ничего не понял, но согласно кивнул и вопросов больше не задавал, видя, что дед сегодня не в духе и говорит как-то путано.
* * *
К вечеру у Артемки болели пятки, будто избитые вальками, какими обычно бабы выстукивают постиранное белье. Исходив вслед за дедом вдоль и поперек всю центральную часть города, он сидел на высохшем мурожке близ входа на платформу и устало вытягивал босые, серые от пыли ноги. В таком положении пятки не болели, и ему становилось легче.
Красное, но еще слепящее глаза солнце повисло где-то за станционными путями и готово было в любую минуту нырнуть за крышу длинного закопченного здания вагоноремонтного завода. В привокзальном садике было тесно. На скамейках, на обочинах вдоль ограды, на узком мурожке сидели люди. Время от времени одни вставали, суетливо торопились к поезду, но освободившиеся места тут же занимали другие, подходящие из города. В садике было много детей, годков Артемки, постарше его и поменьше. Среди сидящих и снующих туда-обратно людей прохаживались цыганки, приставая то к одному, то к другому: «Давай погадаю!» В своих длинных, до пят, широких пестрых юбках они казались глядящему снизу Артемке похожими на небольшие копешки сена с клевером, полевыми цветами, с желтыми головками одуванчиков. Вслед за ними, как на привязи, понуро топали грязные, загоревшие до черноты, тощие цыганята. С виду они казались вялыми и безжизненными, только блестящие, рыскающие по сторонам в поисках огрызков глаза говорили о готовности этих хлопят сплясать, спеть или украсть. Но огрызков нигде не было.
Неподалеку от Артемки, у самого входа на платформу, сидел обросший щетиной нищий. Перед ним лежал картуз с расколотым пополам блестящим козырьком. Кое-кто из прохожих кидал в картуз копейки, но большинство проходили мимо, даже не взглянув на нищего. Шагах в двух по правую руку от Артемки, опершись спиной о тонкий ствол акации, полулежала седая тетка. Она чем-то походила на тетку Наталью, когда немцы заставляли ее копать себе могилу у забора школы. Только тетка Наталья, насколько помнит Артемка, была перепуганной и жалкой, а эта – сердитая, пугающая своим неподвижным видом. На тыльной стороне ее ладони виднелась какая-то наколка. Артемка любопытствовал прочитать, что там написано, но, как ни старался, не смог, поскольку рука находилась к нему ребром.
На коленях он держал кулек хамсы, которую раздобыли с дедом в небольшом магазинчике, выстояв длинную очередь. Хамса вкусно пахла, и Артемка то и дело глотал слюни. Сейчас он сидел один, дед Антип опять куда-то ушел, на этот раз, видать, до ветру.
Молодая красивая цыганка прицепилась к однорукому мужику в солдатской гимнастерке и никак не отставала.
– Красавец, хороший, всю правду скажу! – клялась цыганка, дергая головой, отчего на кончиках ее ушей болтались блестящие серьги в виде полумесяцев.
– Я ее и сам знаю, – отмахивался однорукий, весело улыбаясь.
– Э-эй, хороший мой, что ты можешь знать? Человек не знает – карты знают! Что было, что будет – все карты скажут!
– Чего они мне скажут? Хуже, чем было, не будет, а хорошее я и так приму за милую душу.
– Не веришь? Ай, гордец, нехорошо! Не я говорю – карты говорят. Слушай, что было…
– Ладно, давай, – так же весело, как и отказывался от гадания, согласился однорукий и добавил уже серьезно: – Только не о том, что было, – никакие карты не скажут… Давай, резвая, что там ждет меня?
Цыганка выхватила откуда-то из складок юбки колоду карт и принялась гадать.
Артемка наблюдал за гаданием, но запах хамсы не давал ему покоя. Решил попробовать. Чуть приоткрыл кулек и вытянул хамсину. Серебристая рыбка была такая мягкая и духмяная, что Артемка тут же ее проглотил. Было обидно, не распробовав как следует, не поняв вкуса, проглотить хамсинку. Он не собирался есть – только попробовать, подержать во рту. Пришлось достать вторую. Только он начал понимать вкус хамсы, как и эта проглотилась сама собой. Артемка даже разозлился. Так можно и весь кулек съесть, а что он скажет деду? После долгих колебаний все-таки решил: возьмет еще одну и – язык себе прикусит, – а не проглотит, будет смоктать. Просунув два пальца в отверстие кулька, вытянул за хвост третью хамсину и только хотел отправить ее в рот, как увидел перед собой маленького цыганенка.
– Дай! – сказал цыганенок, протягивая тонкие грязные пальцы.
Не попросил – потребовал, и это насторожило Артемку, настроило против цыганенка.
– Много вас тут! – Он насупился и прижал кулек с хамсой к животу.
– Дай, – повторил цыганенок, но уже не потребовал, а жалобно попросил. Тонкие пальцы его мелко задрожали, и круглые немигающие глаза уставились на Артемку.
Он растерялся. Увидел, что цыганенок голодный и совсем не нахальный, а жалкий и беспомощный, что ему сильно хочется есть и только оттого это требовательное «дай!». Артемке тоже хотелось есть, но не так, как этому цыганенку. Он и не помнит, когда наедался досыта, но хорошо знает, что голодать не приходилось. И видеть голодающих не приходилось.
Он сунул в дрожащие пальцы цыганенка хамсину, и она исчезла за его сомкнутыми губами.
Рядом с первым цыганенком появился второй, третий, четвертый. У всех у них блестели глаза, все они тянули свои грязные, жадные, дрожащие пальцы и просили вразнобой: «Дай! Дай! Дай!»
Артемке стало страшно. Казалось, еще секунда – и обступившие его цыганята накинутся на кулек, как стая кур на щепотку проса, расхватают хамсу, передерутся между собой. И, уже не думая о том, что скажет деду, он принялся вытягивать из кулька серебристые рыбешки и совать в тянущиеся к нему руки цыганят такими же, как и у них, дрожащими пальцами. Цыганята отталкивали друг друга, толпились, будто их было, не четверо, а добрых десятка полтора, заслонив собой и вокзал, и привокзальный садик, и всех людей, поджидающих поезда.
Спохватился Артемка, когда кулек был пустым и цыганята разошлись. На коленях лежала серая мокрая бумажка с крохотными серебристыми чешуйками от хамсы и вкусно пахла.
«Што я деду скажу?» – подумал Артемка с испугом и не нашел ответа. Пустая бумажка раздражала своим запахом, и он, скомкав ее, сунул за спину.
– Жалостливый? – услышал Артемка насмешливый голос. Он повернулся. Говорила седая тетка с наколкой.
– Жалостливый? – переспросила она и криво усмехнулась.
– Они ж голодные, – оправдался он, с опаской косясь на странную тетку.
– Всех будешь жалеть – сам подохнешь! Сердобольных развелось…
– А вот и неправда, – с неожиданной для себя дерзостью ответил Артемка и приподнялся, готовый в любую минуту дать деру.
– Щенок! – процедила тетка сквозь зубы, равнодушно оглядела его и, привалившись к дереву, приняла прежнее положение. Рука ее легла вдоль ноги, и Артемка прочитал заинтересовавшую его еще раньше наколку. Синими кривыми буквами в две строчки было выведено:
Кто боится смерти,
тот не достоин жизни.
«И неправда, – подумал Артемка. – Смерти все боятся». И тут же услышал дедов голос.
– Артемка, поспешай, наш поезд подошел! – звал его дед от калитки.
Он встал и поплелся к деду. Проходя мимо цыганят, задержался на минуту; они так же понуро стояли возле своих матерей и не обращали на Артемку никакого внимания. На выходе еще раз приостановился и обернулся к цыганятам, но ни один из них так и не поглядел в его сторону. Только седая тетка глядела на Артемку и насмешливо улыбалась.
– Поспешай, поспешай, – торопил дед. – Отстанем.
Пропажу кулька с хамсой дед Антип обнаружил только в вагоне, когда поезд набирал ход. Артемка хотел было соврать, сказав, что кулек забыл второпях, но передумал и выложил все как было. Дед вздохнул и сказал с укором:
– Привезли гостинца… Эх, ра-аз-зява!
– Они ж голодные…
– А ты – сытый?
Артемка не был сытым. И оттого, что ему хотелось есть и набил себе пятки, оттого, что дед Антип серчал за пропажу хамсы, а цыганята даже не глянули в его сторону, когда уходил, Артемке захотелось плакать. Губы помимо воли искривились.
– Ты штой-то? – спросил дед миролюбиво.
– Они ж голодные…
– Эк, заладил! Ну, будя, будя, нашел чего жалеть… Никакой пользительности от этой мелюзги – одно баловство.
Видя, что дед перестал сердиться, Артемка немного успокоился, и желание плакать прошло, но оставалась какая-то непонятная обида на цыганят, на тетку с наколкой. Необычное и новое, увиденное им за сегодняшний день, нагромождалось одно на другое, путалось в голове. То представлялась непонятная наколка на жилистой теткиной руке, то дрожащие пальцы цыганят, то блестящие под вечерним солнцем белые рыбешки. И все время чувствовался вкусный запах хамсы.
Артемка уморился, его одолевала дремота.
14
Пока стояли погожие дни, с уборкой картофеля надо было торопиться. Близился октябрь, и никто не гарантировал от затяжных дождей. На своих планах сельчане управились еще в середине сентября, колхозное же поле наполовину лежало нетронутым.
Убирали под два плуга почти всей деревней. На косогоре вдоль утоптанной до окаменелости дороги, ведущей на станцию, белели бабьи платки. Как дым от паровоза, узкой лентой вздымалась пыль над бороздой за плугом и медленно отплывала в сторону.
Лазарь Плетнюк свозил бульбу на колхозный двор и ссыпал в бурт. Он сделал одну ходку и теперь возвращался на поле, сидя в передке воза с кнутом за голенищем.
От станции донесся басовитый паровозный гудок. Прибыл утренний поезд из Гомеля, и Лазарь стал вглядываться в даль – не вернулся ли еще кто из фронтовиков? Но никого в солдатской форме на дороге не было, только одна незнакомая горожанка шла навстречу, удивляя его своим необычным видом. Одета она была в ярко-желтый макинтош, на голове – копна рыжих волос, губы накрашены, как у русалки на бумажном ковре, который видел однажды Лазарь на базаре.
Прошла мимо воза – не поздоровалась, не перекинулась словом, ничего не спросила. Ну да что с нее взять – горожанка, не привыкла здороваться с незнакомыми. Он поглядел ей вслед и то ли от удивления, то ли от удовольствия причмокнул губами. Все бабы на поле поразгибали спины и провожали горожанку любопытными взглядами.
– Чтой-то за канарейка такая, дядька Лазарь? – спросил кто-то из молодых девок, когда он подъехал к ним.
– Право те, канарейка! – подхватила Капитолина.
– Скусная бабочка! – протянул блаженно Лазарь, но тут же с опаской оглянулся – не слышала ли его жена Глаша?
– Да не про нас, – вздохнула притворно Капитолина.
– Никак, Захар городской обзавелся? – решил кто-то.
Посмеялись, погадали, к кому бы могла приехать такая «фуфыра», и принялись за работу.
Перед самым поворотом на колхозный двор Лазарь увидел бегущего по стежке Артемку. Хлопец явно нес какую-то весть о приезжей. Лазарь остановился и окликнул его.
– Дядька Лазарь, вас шукают, – заторопился Артемка. – Мамка Сашкина объявилась!
– Ты што, ты штой-та? Тьфу, тьфу! – напугался Лазарь. – Померла его мамка.
– Да не, дядька Лазарь! Живая, приехала толечки что. В школе она. Елена Павловна послала меня…
– Господи, как же это?.. – Он глядел на Артемку и ничего не мог сообразить. – Как же это, а?
– Не знаю…
Лазарь по-бабьи всплеснул руками:
– Бяда-а…
– Чего это? – спросил Артемка. – Мамка Сашкина нашлась?
– Ага, нашлась… Ой, Артемка, беги на поле, скажи тетке Глаше, а я бульбу отвезу и зараз же явлюсь. Беги, Артемка, беги, голубок. – Он с остервенением стегнул кнутом по крупу коня. – Но, окаянный! Но! Но! Эх, трутень проклятый!
Конь рванул с места, грозя порвать постромки, и Лазарь заторопился вслед за возом.
Известие о Сашкиной матери напугало Лазаря. Значит, эта «канарейка» и есть родная мать Саши, значит, живая и увезет его приемного сына? Что же теперь делать, как им с Глашей без Сашки оставаться? За что судьба так жестоко карает Лазаря, чем он провинился?
Всю жизнь его считали недотепой, всю жизнь на него покрикивали, как на хлопца малого, будто он в чем-то провинился.
Прошлым летом наводил о Сашке справки, но ничего не удалось выяснить. Сам Саша рассказывал, что перед войной мать куда-то уехала, и он остался с бабушкой и старшей сестрой, но при налете на Гомель «их убило бомбой», а его подобрали какие-то люди и привезли в детдом. Лазарь с Глашей успокоились, усыновили Сашу и теперь уже не боялись, что могут его потерять.
Лазарь доставил воз на колхозный двор и со всех ног кинулся в деревню. У третьего двора от околицы догнал Глашу и Артемку.
– Што ж то будет, Глаша? Отымет же, а? – спросил он, чуть ли не плача.
Глаша запыхалась от быстрой ходьбы и выглядела такой же, как и он сам, растерянной и перепуганной.
– Молчи, Лазарь. Молчи, не знаю. Побегли скорей…
– Ой, бяда-а, – протянул жалобно Лазарь, не найдя у жены защиты. – Энто ж она со станции шла… Што ж то будет?
Сашину мать Лазарь с Глашей нашли у себя дома. Она сидела у окна с мокрыми от слез глазами и сморкалась в голубой батистовый платочек. Канареечный макинтош ее лежал на подоконнике рядом с кожаной сумочкой. Саша с блаженным видом уминал конфеты и печенье, сваленные горкой на столе.
Глаша и Лазарь растерянно остановились у порога, глядя на красивую и молодую еще женщину.
Увидев хозяев, та с радостной улыбкой вскочила с табуретки и затараторила скороговоркой:
– Вы Плетнюки, да? Я – Сашина мама, Поливанова Елизавета Вячеславовна. Будем знакомы. Лазарь Макарович? Глафира Алексеевна? Как я рада вас видеть, как я рада! – Она торопливо высморкалась, утерла глаза. – Простите, я так взволнована… Сами понимаете. Глафира Алексеевна, дайте хоть вас поцелую… за Сашеньку. Милая вы моя, слов не нахожу! Простите, я так взволнована. Сашеньку нашла, единственный он и остался… – И она опять расплакалась, уткнувшись в Глашино плечо.
Глаша по бабьему обыкновению принялась успокаивать ее, а Лазарь присел к столу, не зная, что говорить, что делать. Он поглядел на Сашу, такого же светловолосого, как и его мать, с большими серыми глазами, с припухшей вздернутой верхней губой, и захотел пошутить с ним, но не решился, только сказал, указывая на конфеты:
– Духмяные…
Саша глянул на него и прошептал с хитрой улыбкой:
– А я знал, что мамка живая. Ага!
– Бреши болей, – так же шепотом ответил Лазарь и подмигнул.
– Сам бреши, – подмигнул ему в ответ Саша.
Лазарь вдруг успокоился, и страх потери приемного сына отступил от него. Казалось, и завтра, и послезавтра они с Сашкой будут вот так перемигиваться, шутливо дразнить друг друга, и никто им не помешает. Но успокоился на минуту-другую.
Глаша уже плакала вместе с Поливановой, и та хлопотала около нее, разговаривая без умолку; показала для чего-то свои документы, сунула обратно в сумочку, подбежала к сыну, расцеловала его, потом расцеловала Глашу и, тяжело дыша, уселась наконец на прежнее место. Краску с губ она стерла, пудра смазалась со щек, и теперь была простой и жалкой на вид. Только разговором и непонятными Лазарю ужимками не походила на обыкновенных баб.
– Один он у меня и остался, – говорила она. – Все погибли. Вы представить себе не можете, что такое – потерять всю семью! Думала, не переживу. Боже мой, как я вынесла все это? И вдруг отыскался Сашенька…
– Как же вы отшукали-то его? – спросила Глаша, утирая косынкой глаза.
– Вы усыновили Сашеньку, и это зарегистрировали. Остальное, сами понимаете, просто. Не знаю, как и благодарить. Вам ведь нелегко было в военное время, я понимаю… Мы этого никогда не забудем. Слышишь, сынок, никогда не забудем!
«Отымет Сашку! – резануло в голове Лазаря. – За что? Кому я плохое сделал?»
– Мы еще прошлой осенью усыновили, – сказала Глаша.
– Ага, прошлой осенью, – поддакнул Лазарь. – Целый год уже.
Он не знал, к чему Глаша сказала о времени усыновления. Может, есть какой закон, который разрешает не отдавать усыновленных детей? Им с Глашей и документы честь по чести выдали, и поздравили торжественно.
– Да-да, знаю. Но я вернулась в Гомель только этим летом. Мне еще раньше сообщили, что все мои погибли, дом разбит… Боже мой, что они сделали с городом! Ужас какой-то. Моя старшенькая, Оленька, и мама под бомбежкой… Сашенька, сынок, ты помнишь Оленьку? – Она опять заплакала, полезла в сумочку и достала порошок. – Глафира Алексеевна, милая, водички. Сердце, понимаете… Спасибо, спасибо, это сейчас пройдет. Не беспокойтесь, пустяки, уже лучше. И зачем я поехала в Ялту? Никогда себе этого не прощу! Я бы эвакуировалась вместе с мамой и детьми. Мужа перевели неожиданно на запад, уже после моего отъезда… Как узнала о войне, бросилась назад, но было поздно.
– Так вы в Ялте в войну были? – полюбопытствовала Глаша.
– Нет, что вы. Крым был оккупирован. Я жила в Ташкенте. – Она тяжело вздохнула, разгладила лоб своими тонкими белыми пальцами и продолжала: – Мне дали квартирку в Гомеле, для двоих вполне приличную… Сашенька, видимо, отстал в сельской школе. Он был таким способным ребенком. Боже мой, какой он худенький! Как он, Глафира Алексеевна? Я узнала ужасную вещь… Страшно подумать… Это правда?
– Вы об чем? Тут все страшно было.
– Ну, о событиях в детдоме.
Глаша утвердительно кивнула и опустила голову.
Сашина мать встала и, хрустя пальцами, торопливо заходила по хате. Лицо ее вытянулось и застыло, как утром на дороге со станции. Теперь она не походила на простую бабу: серьезная, строгая, с вздувающимися ноздрями. Лазарь растерянно глядел, как она бегает по горенке, и боялся обмолвиться словом. Да он и не знал, что говорить. Просто ему было всех жалко: и себя, и Глашу, и Сашку, и даже эту строгую вдову; хотелось уйти куда-нибудь подальше от людей, остаться одному, выплакаться всласть, как он это иногда делал, когда бывало невмоготу. Он знал по себе, что через час-другой такого тягостного состояния начнет не любить людей, и боялся того момента. Почему боялся – не понимал, но боялся больше всего на свете и никогда не дожидался злости в себе, уходил от людей, чтобы выплакаться и вернуться потом, не желая им недоброго.
– Завтра же поведу к врачу, – заговорила гостья. – У меня есть знакомый… Неужели это опасно? Сашенька, сынок, ты не болеешь? Как ты себя чувствуешь?
– Добре, – отозвался Саша, улыбаясь во весь рот. – Нас уже возили.
– Что такое, мальчик мой? Надо говорить: «хорошо». Возьми носовой платок, утрись, ты перепачкался конфетами. Кто тебя возил?
– Тимофей Антипович.
– Кто это?
– Это наш учитель, – пояснила Глаша. – Лапицкий.
– Лапицкий? – Она повернулась к Глаше. – Тот самый, что был директором в детдоме?
– Он самый. А почем вы знаете?
– Дорогу к вашему дому спрашивала у одного мужчины! То ли Захаров, то ли как-то на «д»? Он представился, но так невнятно. Да вот здесь, недалеко от вас, он дом строит.
– Довбня Захар?
– Да-да, так, кажется. Большой такой мужчина, сильный… Так вот, он мне все и рассказал. Этот Лапицкий уже арестован, да? Ну, значит, все верно. Нет, подумайте только, какой подлец! Боже мой, и откуда такие люди берутся? Но это ему так не пройдет, обещаю вам. Он поплатится головой за моего мальчика!
– Да он же невиноватый, – обеспокоилась Глаша.
– Невиноватый! Истинный бог, невиноватый! – подхватил Лазарь. – Поклеп на человека возвели, это как же ж, а?
– Работал с немцами и невинный? Нет, Лазарь Макарович, честные люди на фронтах были и погибали там… как мой муж. Не подумайте, что я собираюсь мстить – ни в коем случае. Но я добьюсь справедливого наказания. Он свое получит! Подумать только, какой ужас! Малолетних детей… Сашеньку моего… – Она всхлипнула и прикрыла глаза платком.
– Тут такое было, Елизавета Вячеславовна, что и напутать немудрено. – Глаша покачала головой, вздохнула прерывисто. – Вот забрали человека, месяц уже… А вины его никакой.
– Невинных людей у нас не забирают, можете мне поверить, Глафира Алексеевна. Эти волки ягнятами прикидываются, когда в западню попадают. Такова уж их натура. Один мой знакомый следователь еще до войны такое рассказывал!.. Боже мой, какие они все добренькие на следствии!
– Но Тимофей Антипович взаправду добрый человек. Он и о Сашке заботился, и о всех хлопятах. Вы уже не держите недоброго к нему.
– Ну, это мне лучше знать! – Она поджала губы, прошлась по горенке, потом глянула на Лазаря, на Глашу и переменилась в лице. – Глафира Алексеевна, миленькая, простите меня ради бога. Я так взволнована, сама не знаю, что говорю. Голова кругом идет. Конечно же, если он ни в чем не виноват, его отпустят. Я обещаю вам поинтересоваться его делом. Но вы такие добрые, доверчивые… Поймите меня правильно. Вы не обиделись за мою резкость, нет? Нервы, понимаете, сдают… Я сама не терплю несправедливости, поверьте. С этим разберутся, честно и добросовестно, знакомые моего мужа – он погиб в чине генерала!
– Бяда-а, – вырвалось у Лазаря.
– Что вы сказали, Лазарь Макарович?
– Я так, я разве што-нибудь? Не-не, – запутался Лазарь.
Он с опаской покосился на генеральшу и почувствовал к ней недоверие. Что-то недоброе говорит она о Тимофее. А как тут разобраться во всем этом? Вот если бы сам Тимофей поговорил с ней или Антип Никанорович… Ага, Антип Никанорович! Надо сказать ему, предупредить. Никанорович разумный мужик, разберется.
– Вы отдохните, а я поесть приготовлю, – спохватилась Глаша. – Голодные, видать, с дороги.
– Не беспокойтесь, я сыта. Может, Сашенька… Во сколько поезд на Гомель?
– В полдень один и под вечер, – сказала Глаша и растерянно поглядела на Сашу, на Лазаря. – Погостили бы у нас. А Сашу вы прямо сегодня?.. Ему ж и со школой надо там…
– Милая вы моя, ну конечно же сегодня! Мальчика срочно надо к врачу. Боже мой, подумать только… Со школой, вы говорите? Какие пустяки! Я все уладила. – Она поглядела на маленькие часики на руке. – Время еще есть, мы побудем до вечера. Я понимаю, вы привыкли к Сашеньке, он такой милый мальчик… Но мы ведь рядом, час езды. Вы будете приезжать, да? А летом мы к вам. У вас такой прекрасный воздух, для Сашиного здоровья хорошо. Сашенька, сынок, тебе нравится в деревне?
– Ага, наравицца.
– Боже мой! – перепугалась генеральша и схватилась за уши. – А на первый поезд мы не успеем? Уже поздно? Я бы его сегодня к врачу… Ничего, ничего, мы побудем до вечера.
Глаша кинулась хлопотать у печки, а Лазарь потихоньку юркнул в сенцы, потом на улицу и заторопился к хате Лапицких.








