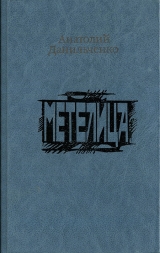
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
– Ну, гуляйте, гуляйте, – отпустил он внуков и, кряхтя, поднялся с крыльца.
Вслед за ним встал на свои ослабевшие лапы Валет, привычно потерся о штанину, ожидая ласки от хозяина.
– Иди, Валет, иди… – сказал Антип Никанорович, поглядел на тающую вдалеке багровую корону угасшего за лесом солнца, подумал, что завтра выдастся погожий день, и пошел в хату.
Ему хотелось прилечь на лежанку, вытянуть во всю длину усталое тело и остаться одному.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Метелица осталась позади. Пыльный шлях выполз за околицу, вильнул вправо от колхозного двора и спустился с Лысого холма. Здесь Ксюша Корташова и пересела из кабины старой, скрипящей на каждом ухабе полуторки в кузов, к сыну.
– Тут видней, – сказал Артемка.
– Да, сынок, да… – выдавила она через силу и обняла его за плечи. В горле у нее перехватило, грудь стиснуло, как обручем, до боли.
Деревня еще была видна на холме, и белые срубы новых построек казались игрушечными. Ксюша вглядывалась в ровную линию дворов Метелицы, стараясь отыскать среди них свою старую, почерневшую от времени хату, даже привстала со скамейки, но за садами ничего нельзя было распознать – все сливалось в одно зеленое, с белыми точками свежих застроек, пятно. В глазах затуманилось от невольных слез. Ксюша поспешно проморгала их, украдкой от Артемки вытерла глаза и, прерывисто вздохнув, опустилась на скамейку. Чего плакать-то, уезжает по доброй воле, никто не гнал, даже наоборот – не отпускали.
Врываясь колесами в заполненную земляной мукой колею шляха, надсадно завывая от натуги, полуторка медленно приближалась к лесу. На Лысом холме виднелся лишь колодезный журавль на колхозном дворе, торчал одиноко, как забытая веха в поле, но и тот вскоре скрылся за первыми деревьями. Машина вошла в тень, и яркий свет полуденного августовского солнца падал теперь на дорогу бесформенными пятнами, от которых рябило в глазах.
Из родной деревни Ксюша уезжала насовсем. Хату свою она оставила братовой жене Просе, взяла с собой лишь самую необходимую утварь, но и этого хватило, чтобы заполнить кузов полуторки до отказа. Еще прошлого века работы, обтянутый железными полосами, объемистый сундук для одежды, два стола, две кровати, табуретки, посуда, ворох всевозможных узлов и кошелок – все, без чего не обойтись на новом месте.
А местом этим был Сосновский кирпичный завод, куда пригласил Ксюшу Сергей Николаевич Левенков, инженер, второе лицо в Сосновке после директора.
Когда она окончательно решила уехать из Метелицы и сказала об этом председателю колхоза Якову Илину, тот резко воспротивился.
– И в мыслях не держи! – вспылил он. – Где я возьму бухгалтера, где? В самый разгар уборки? Не пущу!
– Они ждать не могут, – ответила Ксюша спокойно, совершенно не реагируя на горячность Якова, – возьмут другого человека.
– Возьмут – вот и добре. Удумала… От родного корня… к чужим людям… Нет, вы поглядите на нее! Тут каждая пара рук – как воздух, жила скоро лопнет от натуги. Да ты чего это, Ксения Антиповна?
Маленький ростом, быстрый, Яков носился по комнате из угла в угол, разводил руками и твердил о нехватке людей в колхозе, о том, что она горячку порет, потому как родилась тут, выросла, прикипела к родной земле и не сможет жить на новом месте. Потом резко остановился, приумолк на минуту и произнес вдруг тихо и растерянно:
– Может, оно и лучше так, а, Ксюш?
Ксюша не знала, как лучше, просто она не могла больше оставаться в Метелице. После гибели Савелия, еще в первые месяцы своего вдовства, ей стало невмоготу в деревне – слишком многое ей здесь напоминало о муже: каждая мелочь в хате, во дворе; люди, с которыми он работал и дружил; сама Метелица, где они прожили восемь счастливых лет; полевые дороги и тропинки, истоптанные его ногами, – неутомимыми ногами колхозного агронома. Но пока жив был дед Антип и не приключилось беды с братом Тимофеем, ей и в голову не приходило куда-то уезжать. Теперь же совсем иное дело. Теперь, кроме болезненных воспоминаний, с Метелицей ее ничто не связывало. Могилки отца и матери? Так уезжает она не за тридевять земель – всего за двенадцать верст, в любой выходной сможет проведать. Родная хата? Но она только потому и считается родной, что в ней живут родные люди. А если никого не осталось?..
Дед Антип умер два месяца назад неожиданно. Приехал из Гомеля, прилег на лежанку и больше не встал.
В тот день Ксюша в конторе не задерживалась – торопилась домой, чтобы поскорее узнать, какие новости привез дед Антип из города. После того как осудили клеветника Захара, открывшего наконец свое бандитское нутро, должны были пересмотреть дело Тимофея и отпустить безвинного человека. За этим и ездил Антип в Гомель, к следователю.
Прибежала она домой и сразу – к деду.
– Ну как, батя?
– Што – как? – переспросил он будто спросонья.
– Съездил как, что следователь?
– Да вот… разберутся. Все добре. Это все временно, дочка, все пройдет. Неча убиваться…
Весть была обнадеживающей, но впервые с того времени, как забрали Тимофея, дед Антип говорил равнодушно и безучастно, не повернув головы, не оторвав взгляда от потолка, будто все это его не касалось, будто не он еще вчера метал громы и молнии по поводу несправедливого осуждения сына, грозился до Москвы дойти.
Ксюша обеспокоилась.
– Что случилось, батя? Ты что-то умалчиваешь.
– Правда, дочка, разберутся, – отозвался он глухо.
– Может, захворал?
– Да не то штобы… Притомился. Делай свое, я полежу.
Ксюша не стала больше допытываться. Было ясно, что с дедом Антипом творится неладное и с Тимофеем совсем не «добре». Она хлопотала по дому и украдкой наблюдала за отцом. Тот лежал, не меняя позы и упорно шаря взглядом по потолку, словно отыскивал там что-то и не мог найти; костлявые длинные руки его вяло вытянулись вдоль тела, лицо – отрешенное от всего. Жили только глаза.
К вечеру вернулась с работы Прося. Ксюша перехватила ее во дворе и предупредила насчет деда.
– Боюсь я за него, – сказала она. – Чего-то с ним творится непонятное.
– А с Тимофеем как? – Просю, конечно, в первую голову интересовал муж. – Есть что новое?
– Батя говорит, что все хорошо, дело Тимофея пересмотрят. Только не верю я ему – успокаивает. Странный он, непохожий на себя. Видать, обидели его.
Прося только вздохнула и направилась в хату.
От ужина дед отказался. Когда Ксюша позвала всех к столу, он шевельнулся на лежанке, то ли пытаясь встать, то ли повернуться на бок, и сказал вяло:
– Без аппетиту я. – Теперь его глаза уже не искали на потолке что-то несуществующее, а неподвижно глядели в одну точку.
Ксюша заметила его застывший взгляд, вытянувшееся вдруг лицо с заостренным носом, и у нее тоскливо заныло в груди. Что же происходит с дедом? Таким отрешенно застывшим он не бывал даже во сне. Лежит как мертвый. Она испугалась этой неожиданной мысли и торопливо прогнала ее прочь. «Вот дура! Вот дура!» – ругнула она себя. Но эта мысль весь вечер настойчиво возвращалась к ней. Только поздним вечером, когда все в доме улеглись спать, Ксюша не выдержала – присела к деду Антипу и пустила слезу.
– Ну что с тобой? Ответь хоть что-нибудь!
Дед Антип поглядел на нее и спокойно, даже как-то равнодушно сказал:
– Вот чего, дочка, видать, пора… помирать я буду.
Ксюша вздрогнула от этих слов, но всерьез не приняла. Не может ведь человек ни с того ни с сего умереть. Еще утром он был здоровым и бодрым, верил в скорое освобождение Тимофея, хлопотливо собирался в город, ворчал на внуков. Нет, что-то тут другое. Не может он сейчас умереть. Не должен.
– Чего тебе помирать, батя? По весне из такой болезни выкарабкался! Теперь жить да жить. Ты скажи, может, с Тимофеем что. Я чую неладное.
– Чего помирать? Время, знать, пришло, да и… – Он не договорил и умолк на минуту. – С Тимофеем ничего, с Тимофеем – своим чередом. Это все временно… суета. Правда превозможет. Болячки, они загоятся, подалей от болячек, подалей – жизнь длинней.
– Не пойму, ты о чем? Какие болячки?
Дед Антип то ли не расслышал, то ли не захотел ответить на вопрос, только продолжал монотонно и глухо, не глядя на Ксюшу:
– Не хотелось бы мне, не хотелось, штоб ты от корня своего… Да, видать, куда денешься. Гляди сама.
– С чего ты взял, батя? О чем ты говоришь? – Она не знала, что делать: разбудить Просю и ехать за доктором – так не похож дед Антип на больного, подождать до утра – но было боязно оставаться одной на ночь глядя; так и сидела, растерянно глотая слезы.
– Гляди сама, дочка, – повторил он. – Подалей от болячек – жизнь длинней. Да-а… Нет мира в костях моих… суета…
Ксюша подумала, что дед Антип бредит, и решила разбудить Просю.
– Тебе плохо, батя? За лекаркой надо. Я сейчас, только Просю подниму.
– Погодь, Ксюша. Чего та лекарка… я разум ишо не сгубил. – Он посмотрел на нее спокойным, вполне осознанным взглядом и едва заметно усмехнулся. – Ты вот што, иди спать. Притомился я.
– Я посижу, – заторопилась Ксюша. – Ты отдыхай.
– Чего сидеть, не спектакля… – Лицо его на мгновение нахмурилось и опять приобрело спокойствие и отрешенность, взгляд уперся в огонек коптилки. – Иди, дочка, не бойся.
Ксюша не верила в скорую кончину деда Антипа, но лечь спать все же не решилась – прошла в темную горницу и умостилась на диване так, чтобы видеть лежанку. Лампу предусмотрительно оставила гореть.
Дед Антип долго глядел на короткий вздрагивающий язычок коптилки, потом закрыл глаза, видно, задремал. Незаметно и Ксюша потеряла контроль над собой.
Проснулась она от воя собаки. Валет завывал по-волчьи, протяжно и натужно, преодолевая старческую немощь. В груди у Ксюши захолонуло от страха. Она кинулась в трехстен, к лежанке отца.
Тело деда Антипа было еще теплым, но уже неживым.
…Лесной песчаный шлях, по которому ехала Ксюша в Сосновку, тянулся вдоль одинокой ветки железной дороги, ведущей от Гомеля через Бахмач, Сумы – к Харькову. Эта южная ветка в войну считалась самой «горячей», на нее был нацелен партизанский отряд Маковского, здесь Савелий со своей группой подрывников пускал вражьи поезда под откос. По этой ветке ездил дед Антип последний раз в город и вернулся, чтобы в ту же ночь умереть под крышей родного дома. Кажется, никаких причин к тому не было: ни болезни, ни новых потрясений. Сам дед Антип боялся умереть весной и часто повторял, что если переживет ее, выкарабкается из болезни, то протянет еще долго. К тому все и клонилось. А вот умер в такую пору, когда по старости не умирают. Да и сама смерть его была для Ксюши обидной. В последние свои часы он был при полном сознании, но почему-то равнодушным и безразличным к ней, ко всему окружающему и происходящему. Остался один, отослал ее от себя, успокоил, хотя знал, что не дотянет до утра. Не попрощался… Умер, как обманул. Почему так? «Не спектакля…» – сказал он. Ксюша чувствовала, что дед Антип узнал под конец что-то такое, чего не знает и не понимает она. Или же молодому не дано этого понять?
Сосновый бор кончился, а с ним и песок на шляху. Машина пошла шибче, оставляя за собой кудлатый хвост пыли, застилающий все, что позади. Высокая железнодорожная насыпь с каждой сотней метров становилась все ниже, пока у переезда не сошла на нет. Тут Артемка и растормошил Ксюшу:
– Мама, глянь, труба! Большая…
В версте за переездом, отливая на солнце красным кирпичом, вздымалась круглая заводская труба.
2
Встречала Ксюшу ее двоюродная сестра Наталья – единственный близкий человек на заводе. Она стояла у крыльца приземистого кирпичного дома и размахивала руками, указывая шоферу, куда подъезжать. Раскрасневшаяся, радостная, Наталья топталась на одном месте, как наседка, подзывающая своих цыплят.
Не успела Ксюша слезть с машины, как сестра уже обняла ее, расцеловала и по бабьему обыкновению всплакнула, будто не виделись они по меньшей мере десяток лет.
– Наконец-то, глаза проглядела… С приездом, Ксюшенька! Не отпускал Яков, да? Ну, вестимо… Слазь, Артемка, слазь, пошли в новую хату, – перескакивала она с одного на другое и тянула Ксюшу в дом, поправляя на ходу косынку, старательно заталкивая под нее начисто седые пряди волос – нестираемый след немецкой расправы в Метелице.
Они вошли в дом, огляделись. Новое жилье, конечно, ни в какое сравнение не шло с Ксюшиной хатой в деревне, но все же мириться можно было. По нынешнему послевоенному времени совсем неплохо. Как и в деревенских хатах, с крыльца – вход в сенцы, оттуда – в прихожую-кухню с добротной русской печкой, из кухни белая двухстворчатая дверь вела в небольшую квадратную комнатку с единственным окном во двор. Тыльная сторона, обращенная к подступающему вплотную высокому сосновому лесу, – сплошь глухая, и дом выглядел как-то однобоко, повернувшись «лицом» ко двору. Дом был трехквартирный, узкий и длинный. По соседству, за стенкой, жила Наталья с Левенковым, третью квартиру занимало семейство заводского мастера.
– Ну как? – спросила Наталья.
– А что мне одной надо. В самый раз, пока Артемка подрастет.
– Тю-ю, Ксюшенька… Никак, в вековухи записалась? Мне бы твои годы да красоту! – Наталья лукаво подмигнула и заулыбалась весело и задорно.
– Перестань, не смей об этом! – нахмурилась Ксюша.
– Так уж и не смей…
– Дурости, Наталья. Прекрати. – Она еще раз окинула взглядом комнату, разгладила ладонью лоб и вдруг спросила: – А вы как с Сергеем Николаевичем?
– Ничего, Ксюша, ничего. Все хорошо… пока, – сказала она уже серьезно. – Пошли разгружаться, а то Николу задерживаем.
Шофер – еще совсем молодой хлопец – не дожидаясь женщин, разгружал машину, ему помогал Артемка, серьезный и сосредоточенный, как взаправдашний хозяин.
– Где вы там запропастились! – сказал он ворчливо. – Мы тут с дядькой Николой одни должны али как?
Наталья толкнула локтем Ксюшу, всплеснула руками и расхохоталась.
– Ну чистый дед Антип! Скажи ты… Сичас, Артемка, сичас, мы мигом. Бабы – чего с нас взять?
Наталья помогла перетащить в дом все пожитки и заторопилась к себе, наказав Ксюше приходить обедать.
– Не задерживайся, потом разберешься, расставишься, – сказала она. – Зараз и Николаевич явится. С утра в переездах, проголодались небось. Артемка, есть хочешь?
– Да не то чтобы…
– Во-во. Ну, пошла я.
С шести утра Ксюша суетилась с отъездом, и с той поры во рту крошки не было. Проголодалась и устала изрядно. Она присела возле печки на табуретку и безвольно свесила между колен горящие от веревок и узлов руки. Артемка копошился в комнате, расставляя на этажерке свои учебники и отцовские старые книги. До всего остального ему и дела не было.
«И слава богу», – подумала она, окинула взглядом в беспорядке сваленные вещи вокруг себя, голые, в желтых потечных пятнах стены, засиженное мухами, пыльное окно и почувствовала на своих щеках невольные слезы.
Она ни в чем не раскаивалась, ни о чем не сожалела – все правильно, так и должно быть. Просто ей стало щемяще тоскливо и немного боязно. Только сейчас она совершенно ясно поняла, ощутила всем своим существом, что какая-то часть ее жизни безвозвратно осталась позади, начинается новая. Порывать со старой было жаль, новая привлекала, манила и пугала. Как на перепутье. Эта раздвоенность пробуждала растерянность и тревогу. Останься Ксюша в Метелице – прежняя ее жизнь катилась бы своим чередом, в мелких радостях и огорчениях, в хлопотах и суете, но все же – плавно и монотонно, как заведенные часы, без каких бы то ни было резких перепадов. Именно эта монотонность, заранее известное и определенное на будущее существование и тяготили ее.
Ксюша сидела напротив окна, и мощный сноп полуденного солнца падал ей на колени, на руки, нагоняя вялость. Сонмы крохотных пылинок плавали в воздухе, серебрясь и тускнея на свету. Пахло чем-то незнакомым, нежилым. Она заметила, что вся потная и растрепанная.
– Расселась, – произнесла вслух и поднялась, чтобы сбегать по воду. Надо было ополоснуться и привести себя в порядок. Наталья, видно, уже на стол собирает.
В Сосновке работал водопровод. Посередине двора, шагах в пятидесяти от крыльца, стояла чугунная колонка с кривым коротким носом и отполированной до зеркального блеска рукояткой. Туда и направилась Ксюша с двумя порожними ведрами.
Улиц и дворов в обычном понимании здесь не было. Весь поселок делил надвое пыльный изъезженный шлях, соединяющий Сосновку, Зябровку, Метелицу, Липовку и другие деревни с Гомелем. Одну часть поселка заводчане называли Большим двором, другую – Малым. Большой двор составляли четыре двухсекционных дощатых барака, кирпичная баня, школа и заводская контора; в двухстах метрах за ним проходила железная дорога, у которой одиноко ютилась крохотная станция. На Малом дворе стоял жилой дом, куда и поселили Ксюшу, рядом с ним – гараж, вдоль шляха вытянулась конюшня и складские помещения, напротив через двор – столярка со штабелями свежих досок и грудами бревен, а за ней, чуть поодаль, выстроились в ряд узкие и длинные стеллажные сараи и размещался главный корпус – гохмонская печь самого завода. И над всем этим величаво и неприступно возносилась к облакам курящаяся белым дымком кирпичная громада заводской трубы. Она виделась отовсюду и видела все и всех, она властно господствовала над поселком, над всей округой, и даже мачтовые сосны, шумящие за домом, казались в сравнении с ней коротышками.
* * *
Левенков чуть припозднился. Пришел, когда Наталья с Ксюшей и Артемкой уселись за стол.
– Без меня, значит, – заговорил он весело с порога, шагнул к столу и поздоровался с Ксюшей за руку. – С приездом, Ксения Антиповна. Извините, задержался, не помог с разгрузкой.
– Что вы, Сергей Николаевич, сами управились. Было бы чего…
Ксюша пожала интеллигентски узкую и худую, но довольно загрубевшую ладонь и отметила про себя, что здоровье Левенкова поправилось. Об этом говорил и легкий загар на лице, и вся ладно скроенная, не по-деревенски тонкая фигура. Это было заметно еще в начале лета, а теперь и вовсе не вызывало сомнений. Значит, от туберкулеза, заработанного в немецком лагере, и следа не осталось.
– Вы не стесняйтесь, если мужские руки потребуются, – забить там чего, наладить. Я и столяра пришлю полки-шкафчики смастерить.
Левенков вышел во двор, пофыркал под умывальником, приколоченным к балясине крыльца, и вернулся к столу. Наталья выставила приготовленную заранее бутылку вишневой настойки. Хозяйничала она степенно, с удовольствием. Было видно, что ей нравится принимать и потчевать гостей. Это и понятно. Ксюше ли не знать, сколько перенесла Наталья после смерти мужа, как истосковалась за годы одиночества без родных, без семьи – этого привычного из веку окружения людей, без которых для деревенского человека и жизнь немыслима. И вдруг неожиданное счастье, удивлявшее и по сей день всех метелицких: вызволенный Натальей из немецкого лагеря Левенков остался с ней. Культурный, образованный человек, москвич, инженер – и забитая деревенская баба, уже не молодая, не красивая… Никто не верил, что у них наладится жизнь. Да и наладилась ли она по-настоящему? Ксюша еще ни разу не слышала, чтобы Наталья назвала его Сергеем, только – по отчеству.
– Сегодня, Ксения Антиповна, располагайтесь, а завтра с утра – в контору, принимать дела. Наш Прокофий едва ноги волочит, совсем сдал старик. Директор уже спрашивал о вас. Вы с ним еще не знакомы? Ну да, он тогда был в отъезде, – говорил Левенков, разливая по стаканам настойку. – Значит, за новоселье?
– Нет, Сергей Николаевич, новоселье мы вечером отметим, как и заведено, в новой хате. – Ксюша запнулась и рассмеялась смущенно. – В квартире, вернее. Непривычно: квартира…
– Ничего, привыкнете.
– Придется, – вздохнула она. – А начальник, он что? Наслышана я о нем.
– Челышев? Хм… – Левенков повел бровью, сощурился. – Сложный человек начальник наш. Мм-да, своеобразный. Я его, откровенно говоря, еще и не распознал до конца.
– Хозяин, – заметила Наталья с уважением.
– Верно, хозяин. Даже слишком. Ну, с приездом, Ксения Антиповна, за все хорошее, за работу новую!
– И за жизнь, Николаевич, – добавила Наталья.
– И за жизнь, – согласилась Ксюша, а про себя подумала: куда деваться, не от добра ведь эта новая жизнь. Ей бы старую, да при Савелии…
Они выпили и принялись за еду. Артемка уже приканчивал свою тарелку борща и поглядывал на взрослых, видно не понимая, как это можно лясы точить, когда на столе такая вкуснятина?
Ксюша ждала разговора об отце, о Тимофее. Не то чтобы она хотела его, но знала, что без этого не обойтись.
А раз так, то чего уж тянуть. Но Левенков говорил о ее новой работе, о заводских делах, людях, о директоре Онисиме Ефимовиче Челышеве. Левенков о нем плохо не отзывался, но чувствовалось, что между ними не все ладно: хорошего тоже не говорил, а на похвалы Натальи Челышеву отмалчивался. Ксюшу даже обидело невнимание к деду Антипу, к Тимофею, с которыми Левенков некоторое время вел дружбу. Но она поторопилась со своей обидой. Левенков их помнил, а не заводил поначалу этого разговора, как она после поняла, чтобы не омрачать хорошего настроения за столом. Какое уж веселье – говорить о покойнике и о заключенном!
Они пообедали и пересели на сработанный местным столяром диван. Артемка отправился в свою новую квартиру «поглядеть, что к чему», как он сообщил, – можно было говорить откровеннее.
– Ты останешься, Николаевич? – спросила Наталья.
– Нет, нет, надо идти. Но полчасика у меня есть.
– Веришь, Ксюш, ни днем, ни ночью покоя не дают, – пожаловалась она, но в голосе слышалось довольство, мол, без ее мужа и завод – не завод. – Зовут и зовут. Измотали человека.
– Это временно, Наталья. Вот наладим все как полагается – буду отсыпаться, по грибки ходить. Грибов здесь, Ксения Антиповна, у-у… белые! А сейчас пока что не до них. Завод – в три смены, и все на честном слове держится. Оборудование еще довоенное, так что… – Левенков развел руками, помолчал и вдруг спросил: – От Тимофея ничего нового?
– На прошлой неделе прислал письмо, – сказала Ксюша задумчиво, с расстановкой. – Жив, здоров, у них уже холода начинаются – и ни слова больше.
– Ну да, конечно… Разберутся-таки, поверьте. Без ошибок не бывает даже в самом малом деле. А тут!.. После этого… Захара Довбни должны разобраться. Кстати, Наталья говорила, что его сын у Тимофеевой жены?
– Да, Максимка у нее остался.
– Странно жизнь оборачивается, – покачал головой Левенков.
– Он же, никак, племянник ей. Куда ему?
– Да нет, я не о том. Что вы! Просто сама ситуация необычная и, знаете, поучительная. Вдумайтесь только: Захар оклеветал Тимофея, жестоко оклеветал, подло. Враг семье. И эта самая семья кормит и воспитывает его сына – разве не поучительно?
– Тут, Сергей Николаевич, не до поучений. – Ксюша улыбнулась. – Хочешь не хочешь, а жить надо и за живыми глядеть. Кто ее раскусит, жизнь эту.
– Верно, верно. Жалко, Антип Никанорович не дожил.
– Не дожил… – Она пожала плечами. – Нежданно-негаданно… Не болел, с утра бойким был, поворотливым…
– Устал жить, видимо.
– Как вы сказали? – встрепенулась Ксюша.
– Жить устал, говорю. Со стариками такое случается: организм еще крепкий, на десяток лет хватит, а вот ложатся и умирают. Почему так, не знаю – это дело психиатров. Обычно же в таких случаях говорят: устал жить.
Ксюша задумалась над словами Левенкова. То, что он говорил, походило на правду, только все равно не верилось. Дед Антип – и устал жить! Как-то не увязывалось, не подходило к нему. Она заметила, что уже может совершенно спокойно рассуждать о смерти отца, и с грустью подумала, что все-таки быстро уходит горе, успокаивается боль. Слишком быстро!
– Однако же беспричинно не устают, – произнесла она тихо, как бы про себя.
Они посидели еще маленько, и Левенков засобирался на работу. Ксюша пригласила их «обмывать углы новой хаты» вечером и также заторопилась к себе. Наталья вызвалась ей помочь расставиться, распаковаться. Дела торопили – на раздумья и разговоры не оставалось времени.








