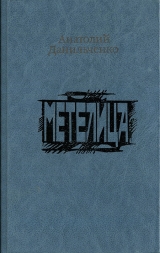
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
12
Ранняя скорая весна всегда веселит душу, бодрит тело, вызывая нетерпеливое желание двигаться, куда-то идти, что-то делать. Для Демида же эта весна была радостной вдвойне. Наконец-то он почувствовал себя в безопасности, когда можно не думать о завтрашнем дне, не озираться воровато на милицию в постоянном ожидании ареста. Никому в Сосновке не пришло в голову копаться в его прошлом, документы на руках – чистенькие, новенькие, еще не утратившие запаха типографской краски, бережно завернутые в непромокаемый пакет. Молодец Башлыков, товарищ начальник паспортного стола, оказался мужиком с понятием и с памятью завидной – не забыл, как они вместе голодали в добрушском лагере. Теперь и трава не расти – есть свой угол, крыша над головой, а главное – больше никуда не тянет уезжать. С Ксюшей ему покойно и хорошо. Даже и не предполагал, что может привязаться так накрепко к одной женщине и не замечать других. Такого с ним еще не случалось. Когда направлялся в Сосновку, и в мыслях не держал становиться на прикол, а вот поди ж ты, нравится, хозяйством занялся, корову с Ксюшей завел, поросенка. Демид Рыков – и поросенок… Хоть стой, хоть падай!
А сейчас вот – корчевание, огородишко кой-какой завести. Работа нелегкая, но приятная, Демид ворочает в охотку, азартно. Да и как тут не разохотиться, когда синь над головой бездонная, солнце лопатки пригревает, будто поглаживает мягкой шерсткой, когда воздух и свеж, и густ от весенней прели, щекочет в горле, обдает его прохладой, как молоко из погреба, когда пичуги тревожат слух и сердце будоражат веселым перещелком.
На пустырь, что за старыми карьерами, заводчане высыпали дружно, не сговариваясь. Воскресный день – само поработать для дома. Мелькали бабьи платки над кустами лозняка, меж бурыми хворостинами ольшаника, молодых гибких березок слышался крик детворы, стук топоров, мужское кхэканье. В лесу еще лежал местами снег, но здесь, на пустыре, он давно стаял, на чистых прогалинах подсохло и затвердело.
Демид скинул тужурку, картуз и работал в одной рубашке. Мелкую поросль лозняка, загрубевший бурьян, молодые побеги ольшаника он выдергивал из земли руками, даже не подкапывая лопатой, и отбрасывал в сторону; Артемка с Ксюшей стягивали все в одну кучу, чтобы потом сжечь. Пока растения не проснулись от зимней спячки и корни их не успели укрепиться в земле, корчевание давалось относительно легко. Недельки через две-три их и зубами не угрызешь. Деревца, которые побольше, приходилось подкапывать, а то и срубать и уже вагой выхватывать из земли корневище. У Демида работа шла быстрее, нежели на других участках, и он, время от времени поглядывая на соседей, самодовольно усмехался: дохлый народец, над каждой лозиной кряхтит.
– Не упарился еще? – спросила Ксюша, подтягивая вагу, поскольку впереди, в ложбинке, стояла крепкая уже, роста в полтора березка, а по соседству бугрился старый замшелый пень. Тут предстояло повозиться.
– Чего хватаешься, надорваться вздумала? – упрекнул ее Демид. Упрекнул не сердито – так, к слову пришлось и от хорошего настроения. Он знал, что Ксюша к таким тяжестям привычная, как, впрочем, и все деревенские бабы. И потом, он не любил, когда при нем поднимали тяжести. И вовсе не из жалости к кому-то, а скорее из ревности, считая тяжести своим делом, доступным только ему одному.
Она благодарно улыбнулась и повела плечом.
– Ладно…
Подбежал Артемка.
– Распалим? Куча большая. – Ему не терпелось развести костер.
– Распалим, – кивнул Демид. – Вот только ковырнем эту красавицу да пенек – и распалим.
Демид достал пачку «Беломорканала» и присел на вагу. Еще с осени он отказался от привычкой «Красной звездочки» и курил только эти папиросы, потому что они были и достаточно крепкими, и считались «толстыми», в отличие от «Прибоя», «Бокса» и прочих «гвоздиков». Он бы шиковал и «Казбеком», подобно Челышеву, будь они чуть покрепче. Теперь Демид мог позволить себе многое. А все – кормилица-машина. С машиной и море по колено, с машиной он человек, с ней он – Князь, как прозвали его в Сосновке за привычку обращаться к своим собутыльникам: «Пей, князь! Гуляй, душа из меня вон, плачу́!» На прозвище свое он не обижался, даже совсем наоборот. «Княжить» любил.
И в самом деле, кто в поселке осмелится сказать ему слово поперек? Любого скрутит в бараний рог. Кто больше всех заколачивает денег и сорит налево и направо, угощая всякого прохожего? Демид не жи́ла, привык не копить, а тратить. Чья жена лучше, красивее, умнее Ксюши? А на худшую он не согласен, знает себе цену. Вокруг кого собираются мужики и пошутить, побалагурить, душу отвести от повседневных забот? Кто расшевелил этот запущенный, заплеванный клуб? То-то же! Демид по праву – Князь.
Зимой, от нечего делать и от избытка сил, он вызвался оживить работу в заводском клубе. В этом разбирался больше не от знаний, а по наитию, хотя и до войны, на гражданке, и в автобате был постоянным участником самодеятельности. Ему удалось главное – сколотить драмкружок, остальным занялся одноногий Михаил Гаврусь, неразворотливый, тихий, какой-то рохля-мужик, только и поставленный завклубом из-за своей инвалидности и умения пиликать на баяне. К Новому году отрепетировали чеховского «Медведя». Помещика Смирнова играл, конечно, сам Демид, вдовушку Попову – завмаг Маруся Палагина, у которой вдруг обнаружились драматические способности. Вообще любителей «изобразить на сцене» в поселке оказалось много.
Новогодний концерт удался на славу. Пьеска понравилась заводчанам скорее не действием, а тем, что вот Демид Рыков, шофер поселковый, – и помещик, с бакенбардами, с тросточкой, а Маруся, завмаг Маруся, – помещица! «Ах, как я зол! Как я зол!» – гремел Демид на весь клуб, остервенело скрипя зубами и тараща глаза. Демид-помещик злился, а зрители смеялись. Особенно вдохновенно он изобразил финальную сцену, зная наперед, что тут зрители возьмутся за животы: «Двенадцать женщин бросил я, девять бросили меня…» Это к Демиду подходило, сам Челышев хохотал.
Ползимы у них с Ксюшей не случалось никаких размолвок, жили душа в душу, миловались, как молодожены. Демид старался пить поменьше, зная, что, потеряв контроль над собой, может натворить глупостей. Но эта постоянная сдержанность, напряженность, как за баранкой в гололед, начинали утомлять и нервировать. В конце концов, хозяин он в доме или примак, на котором воду возят? Почему стакан-другой может себе позволить, а от третьего должен отдергивать руку и врать собутыльникам о каких-то срочных делах? Тоже мне – Князь!..
Однажды не отдернул и выпил лишнее. Как добрался до дома и что было потом – не помнит, только назавтра пришлось просить прощения. А в общем-то все обошлось благополучно, Демид ждал худшего. После обычных упреков и расспросов Ксюша попросила:
– Не напивайся так – страшным становишься. Боюсь я.
– Знаю, буйный, – сказал он виновато и отметил про себя: «Хоть пьяного боишься – и то дело. Хозяина должны бояться, а то какой же он хозяин».
– Тарелки вот поколотил…
– Не помню. Убей – не помню. Верно, что-то сказала поперек. Ты вот что, Ксюш, когда я в подпитии, не перечь, потом скажешь. Не знаю, отчего это у меня, но стоит чуть перебрать, появляется желание крушить все подряд, ломать. Потом каюсь, а удержаться не могу.
Это было полуправдой, Демид лукавил. Сдержаться он не мог в редких случаях, когда его доводили, что называется, до белого каления, в остальном же отчетливо осознавал происходящее. Другое дело, что сдерживать себя не очень-то хотелось. Да и какого черта? Перед кем осторожничать? Обматерил кого-то, в зубы съездил – так не перечь, не доводи до злости. Сами же и виноваты.
– Тарелки будут новые, – заметила Ксюша. – Не поломал бы семью, Демид.
– Семью… – прогудел он с деланной обидой. – Живешь как чужой и не поймешь, то ли гость, то ли хозяин в доме. Вон и сынок твой до сих пор не признает.
– Как это не признает? Привязался он к тебе, неужто не видишь?
– Чего же папкой не назовет?
Ксюша потупилась, щеки ее пошли красными пятнами.
– Трудно ему, Савелия хорошо помнит…
– Подсказала бы – назвал, – уже не оправдывался, а напирал Демид.
– Говорила… Потерпи, не все сразу. Дай привыкнуть.
– Терпеть я привык, – вздохнул он вполне натурально, дескать, и тебе надо в чем-то потерпеть, не одному мне.
Из этого разговора Демид понял главное для себя: Ксюша в его власти. Внешняя строгость – это напускное, а так она мягкая, отходчивая и жалостливая, как и большинство баб, стерпит и простит, лишь бы покаялся вовремя.
А с Артемкой вскоре образовалось. Парнишка он ничего, нравится Демиду, вот только больно себе на уме и с норовом. Ну, положим, что с норовом – это хорошо. Хорошо вообще, в целом, да не перед Демидом же его показывать. Но когда Артемка заболел и две недели пролежал пластом, Демид понял, насколько привязался к нему. Ксюша осунулась лицом, изнервничалась, исплакалась в страхе за сына, и Демида его болезнь взяла за живое. Он помогал ей чем только мог: прогревал рефлектором, бережно поворачивал с боку на бок, рассказывал ему разные истории, подбадривал, вселяя уверенность в выздоровлении, хотя ни у него, ни у Ксюши (он замечал это) такой уверенности не было, завалил комнату гостинцами – только бы ел. Ревматизм отступал неохотно. Сначала боль оставила шею, затем плечи, руки, грудь и дней на пять застряла в ногах, угрожая оставить его инвалидом. Наконец и вовсе отпустила. Чудна́я болезнь, Демид ни разу с такой не встречался.
Однажды, когда Ксюши в доме не было, Артемка попытался встать на ноги и грохнулся на пол. Вот тогда он впервые и позвал его:
– Па-апка!
Демид влетел в комнату, как пушинку, подхватил его на руки и уложил в постель.
– Ходить не умею, – пожаловался Артемка и расплакался.
– Да ты что, Артемка! Держись, мужик, ослаб просто. Ну… – Глядя на него, Демид и сам готов был уронить слезу, такая вдруг жалость его охватила. – Ноги подкосились? Ничего, через недельку будешь на коньках гонять. Будь мужчиной, слезы – это не наше дело. Пускай бабы плачут.
– Правда, пап?
– Ну! Ну!.. – только и смог выговорить Демид, потому что в горле перехватило и защекотало в носу.
Все это вспомнилось Демиду невесть чего – может, от хорошего настроения, от весенней благодати, может, от мысли, что сегодня, после корчевания, он обязательно выпьет, а то уже неделю ко рту не подносил. Вчера вечером Маруся привезла три бочки пива, само ко времени. Дышите глубже, Демид Иванович, жить можно.
Березку он выдернул без особых усилий, лишь крякнул, налегая на вагу, а вот пенек уперся, заскрипел, сопротивляясь.
– Ксюша, давай-ка вместе, моего веса не хватает, – позвал Демид.
– И я! – подлетел Артемка.
– Давай и ты. Дедка – за репку, бабка – за дедку…
Они втроем навалились на вагу, но, как ни раскачивали, пень не поддавался, видно, в корнях еще теплилась жизнь. На арапа не возьмешь, надо обкопать со всех сторон.
– Крепок, старичок, – сказал Демид и взялся за лопату.
Он прокопал на один штык вокруг пня, начал второй, и вдруг лопата провалилась под самый держак. В следующую секунду Демид отпрянул назад, холодея от мгновенного испуга, – из-под пня выскользнула серая гадюка и завиляла по свежевзрыхленной земле, пытаясь улизнуть. Он едва успел опомниться и рубануть ее лопатой, ругнувшись при этом и на змею, и на себя за лихорадочный постыдный испуг.
Рядом уже стояли Артемка и Ксюша.
– Что такое, Демид?
– Гадюка вот…
Ксюша взвизгнула и отскочила в сторону.
– Да не бойся, перерубил.
– Может, уж? – засомневался Артемка, подступая к пню, но Демид осадил его:
– Не суйся, кажется, тут змеиное кубло. Гляди, вон лежит.
– Гадю-ука, – подтвердил Артемка с видом знатока.
– Чего ж теперь делать-то? – растерялась Ксюша. – Ой, надо народ предупредить, гадючье место. Артемка, отойди, не лезь, слышишь? Кому говорю! – И она заторопилась на соседнюю делянку.
– Да мы их с пацанами прошлым летом!.. – похвалился тот. – Счас, только лозину возьму. А ужа́ку, так я в руки запросто…
Демид по примеру Артемки вооружился гибкой лозиной и запасся шестом. Со всех сторон уже стекался народ. Первой прибежала детвора, за ними мужики и бабы.
– Гадючье место!
– Хватает нечисти.
– Нашли деляночку… – только и слышалось вокруг.
Детвора, кажется, боялась меньше взрослых, лезла к пню без оглядки, на них покрикивали матери, но это не помогало. Демид шуганул их и попросил Акима Кривошлыкова пошурудить шестом с другой стороны пня, став наготове с лозиной напротив. Тот разворошил сырую землю, но змеи не показывались.
– Может, одна? – отозвался кто-то из баб.
– Они поодиночке не зимуют.
– Не зимуют, – подтвердил молчаливый Аким. – Бензинчику бы.
Артемка принес бутылку с бензином. Облили пень с одного боку, плеснули в развороченную шестом дыру, подклали хвороста и подожгли. Пламя взметнулось столбом, но через минуту спало, оставив гореть небольшой костерок хвороста.
Все ждали.
И гадюки поползли – одна, вторая, третья… пятая. С остервенением и гадливостью Демид вместе с мужиками хлестал их лозиной, перебивая хребет, они извивались, гнулись кольцами и, лишенные возможности передвигаться, шипели с таким же остервенением и злостью, с какой их били мужики. Добивать не успевали, из-под пня выскальзывали все новые и новые, их надо было остановить хоть одним хлестким ударом, не дать улизнуть в кустарник. Когда из ямы выскользнула последняя гадюка, у пня копошилось омерзительное живое месиво.
Первыми не выдержали женщины, отплевываясь и ругаясь, стали расходиться, одну из них стошнило. Не выдержали и мужики: убедившись, что ни одна из гадюк не уползла, отошли в сторонку и торопливо закурили. Зато детвора охотно накинулась с лозинами на недобитых змей.
– Верно, гадючье место, – сплюнув гадливо, прохрипел Демид.
– Ничего, раскорчуем – перестанет быть, – обмолвился угрюмый Аким.
Хлопцы во главе с Артемкой, поскольку он был хозяином на этой делянке, пересчитали змей (их оказалось тридцать восемь), облили остатками бензина и сожгли.
13
Ужина Демид не стал дожидаться.
– После этих гадюк не полезет в глотку, – объяснил Ксюше. – Дойду до магазина, там пиво привезли.
– Только ненадолго, скоро сготовлю.
– Угу.
Против пива не могла возразить никакая жена, потому что завозили его от случая к случаю. И все-таки молодец Ксюша, не стала зудеть, чтобы не пил, заговорила, видно, совесть. Целую неделю являлся домой как стеклышко, весь выходной ворочал на делянке – другая бы сама поднесла стаканчик-другой.
У крыльца и в самом магазине собрался весь «цвет» Сосновки. Одно слово: пиво! Готовое вот-вот окунуться в лесную чащу солнце било прямо в распахнутые двери магазина, словно приглашало заходить. Пивной вечерок, ничего не скажешь.
Перед Демидом почтительно расступились, пропуская к прилавку. Он вообще не привык стоять в очередях, а тут еще оказался «свеженьким», не отведавшим пенной благодати. Кто не посочувствует.
– Просим, Демид Иванович, – это которые не прочь угоститься.
– Проходи, Князь, а то не достанется, – которые и сами угостят.
Но все с одинаковым любопытством поглядывали вслед, ожидая от него чего-то этакого, необычного. Демид и сам не знал, когда и как сложилось мнение, что он должен хоть чем-то да отличиться. Хорошо ли, плохо, но – выделиться, удивить или позабавить. Как на сцене. От него ждали, и он, может быть и не желая того, должен был держать марку. Только поди попробуй всякий раз что-то новое придумать. Порою это веселило Демида, порою злило, но деваться было некуда, он понимал, что всякая популярность требует усилий.
– Демид Иванович, наливаю, – расплылась в улыбке чернявая Маруся: покупатель видный, да к тому же на сцене в клубе обнимались.
Он мельком окинул наблюдающих и ухмыльнулся. Послать их в три колена, что ли? Хотя нет, к чему портить себе хорошее настроение. Собирался выпить четушку, но раз так…
– Для начала, Маруся, подай-ка мне пузырек.
– Четушку или полную? Белоголовую?
Демид взглянул на нее небрежно и слегка развел руками, мол, за кого принимаешь? Конечно, полную и конечно же белоголовую, когда он брал у нее этот паршивый «сучок»?
Сургуч скрутил одним движением, зажав горлышко в кулаке, мизинцем ковырнул пробку и перелил содержимое бутылки в граненый бокал. Одним духом, не отрывая бокала от губ, опустошил до дна, кхэкнул и запил предупредительно подставленной кружкой пива.
За спиной пробежал шепоток.
– Еще кружечку.
Маруся уже приготовила и услужливо пододвинула к краю стойки, повернув к нему ручкой – для удобства. Выпил и эту без передышки.
– Пожалуй, еще одну…
Маруся подала третью и на тарелочке – кусок холодца.
– Закусил бы, Демид, – попросила она озабоченно.
– Княгиня, что за волнения? Мы ж не на сцене.
Он выпил третью, четвертую, заказал пятую и наконец услышал, как за спиной принялись считать. То-то же, паршивцы!
Одолел десять кружек – больше не шло. Ну и хватит, главное, счет круглый, хорошо запомнится. А теперь домой. Хотя нет…
– Княгиня, – прогудел он, едва сдержав отрыжку, – подай еще пузырек на дорожку.
За спиной повисла гробовая тишина. Большие Марусины глаза испуганно округлились, но возразить она не посмела. Демид неторопливо рассчитался, сунул бутылку в карман и, ни на кого не глядя, вышел из магазина. Следом вывалили все «болельщики». Он спустился с крыльца и ровно, как по шнурочку, наметив вдали ориентир, зашагал через Большой двор, улавливая ухом голоса у магазина.
– Ну, врезал!
– Десять, слышь, десять!..
– И не пошатнется.
– А со второй как надул? Я за чистую монету принял.
– Кня-язь!..
Большой двор Демид пересек благополучно, только на шляху, уже у самого гаража, его шатнуло в сторону. Не следовало, конечно, натощак глотать столько, да что поделаешь, когда ничего другого в голову не пришло. Он еще не опьянел, заявится бодрым, плотно поужинает… Все путем, все толково. Еще и с Ксюшей можно по стопарику под хорошую закуску. Заслужил нынче. А если и нет? Что он, в батраках – заслуживать? Не хозяин сам себе?
– Хозяин – ба-арин, хозяин – ба-арин… – пропел он и направился в дом.
Ксюша его встретила укоряющим взглядом, однако промолчала, только подала торопливо на стол и сказала:
– Ешь.
Ее молчаливый укор, недовольно поджатые губы сердили Демида больше, нежели слова. Злишься – скажи, найдется что ответить, так нет же, молчит, оправданий ждет. Дождется… Врезать бы разок – живо развяжет язык. Барыня, вишь ты! И на стол сунула, как батраку, – «ешь». Зафиндилил бы эту сковородку, не будь голодным.
– Ну чего молчишь? – не выдержал он.
– А что толку пьяному перечить.
– Не перечь, верно. А других слов нету? Брезгуешь? Губы поджала… Ну, выпил – принудили, душа из них вон!
– Принудили, – криво усмехнулась она. – Прямо в рот налили, да столько, что еле на ногах стоишь.
– Э-э, баба! Что ты понимаешь в мужских делах.
– Где уж нам…
Ксюша заговорила, и злость от Демида отошла. В самом деле, зачем настроение портить. Никак, выходной сегодня.
– Ладно, давай-ка еще по чарке да поедим. – Он выставил бутылку и грузно опустился на табуретку. – Где наша не пропадала.
– Да куда же тебе больше? Поешь лучше – свалишься, совсем пьяный.
– С тобой хочу. – Демид чувствовал, что пьянеет с каждой минутой все больше, надо бы поесть, но теперь, когда уже выставил бутылку и предложил ей выпить, должен настоять на своем, иначе какой же он, к черту, хозяин в доме.
– Я не буду. Ешь – стынет.
– Будешь, – повысил он голос. – Будешь, душа из меня вон! Я так хочу. Садись!
– Не могу я, дела у меня, идти надо.
– Дай стаканы. Дела-а…
– Демид, я серьезно говорю, некогда мне, завтра отчет, – сказала Ксюша твердо.
– Стаканы дай! – загремел он на весь дом.
«Барыня! Ты у меня шелковой будешь», – подумал он, глядя на Ксюшу. Она выставила стакан, крутнулась у печи, сдернула с крючка свою жакетку и заторопилась к выходу. Этого Демид не ожидал.
– Вернись! – крикнул он, вскакивая с табуретки, но Ксюша уже скрылась в сенцах.
Демид выругался и плюхнулся на прежнее место. Ушла – и черт с ней, никуда не денется.
Глотнув одним духом полстакана водки, Демид с жадностью навалился на еду. Первый, кружащий голову хмель отошел, наступило тупое опьянение, когда все видишь, все понимаешь и кажешься сам себе трезвым, только тело наливается свинцом, а назавтра (Демид это знал по себе) ничего не помнишь. Он уминал жареную картошку с салом, хрумтел соленым огурцом, ругался про себя и все больше наполнялся злостью. Ушла, побрезговала выпить с ним, не послушалась, паршивка. Дела у нее… Какие, к черту, дела, убежала к Наталье или к Степаниде, сидит там, жалуется. Пойти бы устроить разгон, да много чести за бабой бегать.
– Придет. Куда денется, приде-ет…
Он уставился на бутылку. Хотелось выпить, но в одиночку не привык, требовался собутыльник. Не сидеть же, как болвану, молча. Хотя бы кого черти принесли, что ж он один?.. Становилось обидно и досадно, и злость на Ксюшу закипала все сильней. Убежала, не послушалась его приказа. Говорил он ей садиться или не говорил? Говорил! Выходит, его слово не закон?
Демид выглянул в окно, надеясь увидеть прохожего, но никого из мужиков не было, только Марфушка, мать Петра Андосова, восьмидесятилетняя старуха, промаячила под окном. Через минуту она вошла в дом.
– Здоров был, хозяин. А Ксения где ж?
– Ушла, – махнул Демид неопределенно. – Проходи, гостьей будешь.
– Ой, скажешь! Яки з мяне гость. Отгостилася я у людей, вона кладбище в гости кличет, – затараторила словоохотливо Марфушка, крепкая еще, подвижная бабка. – Отгостилася, будя з мяне… Ну, дык я апосля зайду.
– Чего апосля? Надо что – я дам.
– Дык это… за укропцем я… У Ксении был сушеный.
– Угу, за печкой где-то. – Демид размягчел, заулыбался. – Ты вот что, соседка, садись-ка. К столу садись.
– Спасибочки, Демид, сытая я.
– Брезгуешь? Соседом брезгуешь? Садись, я сейчас вот… – Он повернулся к ящику, достал еще один стакан. – По чарке с тобой, по-соседски.
– Христос с тобой! Свят-свят! Куды мне, помру, – напугалась Марфушка.
– От водки еще никто не помирал. Садись! – повысил он голос.
– Будя тебе, будя, я сяду. – Она покорно присела к столу, сложив на коленях худые руки. – Ты выпей, выпей, я посижу. Одному оно, вестимо, несподручно.
– Верно, соседка, несподручно. Только вдвоем. И пропади все пропадом! – Демид плеснул ей в стакан пальца на два, налил себе. – Будем!
– Очумел мужик, – прошептала Марфушка, собираясь встать из-за стола, но Демид остановил ее зычным окриком:
– Сиди! И ты брезгуешь?
– Господь с тобой, Демидушка! Не гребую я. Што ты, што ты! Старая я для выпивок, окстись. За ради христа прошу.
– Вот и помолодеешь. Пей, душа из меня вон!
– Спаси меня всевышний, – вздохнула Марфушка, дрожащей рукой перекрестила стакан, пригубила разок и ухватилась за огурец.
– Вот это по-нашенски, – захохотал довольный Демид. – Твое здоровье, княгиня!
От второй она отказывалась не так рьяно, без упоминаний Христа, третий раз пригубила без лишних слов. Демид опорожнил бутылку и раздумывал, как бы раздобыть еще одну. Ксюша не возвращалась, Артемка где-то запропастился – выпороть бы разок, паршивца, чтоб знал дом, – сам он отяжелел, не пойдет…
– Княгиня, ты как, на ногах стойкая?
– Ой, не, соседушка, голова шатается, – заулыбалась Марфушка. – Будя, итить надо. А за чым же это я… Ага, за укропцем, за ним…
– За печкой, там… – Демид с трудом поднялся из-за стола, икнул. – А их нет, душа из меня вон, и не надо. А, княгиня?
– Не надо, соседушка. Христос з ими. Итить мне, итить…
Он дал Марфушке укропу, проводил ее до крыльца и, возвратись в дом, завалился на кровать – не раздеваясь, поверх одеяла.
* * *
Наутро болела голова и смутно помнилось вчерашнее. Чувство вины и тревога – не натворил ли чего из рук вон выходящего – не давали покоя. Ксюша сердито молчала, и Демид не решался заговорить первым, поскольку не знал, с чего начать. Просить прощения – так за что, может, и не за что? Если просто перебрал и свалился – не беда, потерпевший один он, вернее, его раскалывающаяся надвое голова, а если скандалил? Помнится, что-то в магазине было…
– Ну, не томи, что было? – не выдержал наконец Демид.
– А то не помнишь!
– Убей – не помню.
И Ксюша ему выдала. Закрыла дверь в кухню, чтобы не разбудить Артемку, и выдала – о «концерте» в магазине, о Марфушке, о том, что ей приходится убегать из собственного дома, что такого позора она еще не испытывала, что теперь ей стыдно на улице показаться, и еще, и еще…
На душе у Демида отлегло, даже боль в голове унялась – ничего страшного, перемелется. Эка важность – голос повысил на собственную жену!
– А чего убегала? Зверь я?
– Ты бы глянул вчера на себя…
– Нет, ты скажи, когда пришел из магазина, скандалил? Ага, не скандалил. Трудно было посидеть за столом, пригубить рюмку? Или больная ты, нельзя тебе? Чего убежала? Не уйди ты – и с Марфушкой не получилось бы, сто лет нужна мне эта старая перечница! Так она ж – человек с понятием, составила компанию. Или я силком ей вливал, или обидел старуху? Да провалиться мне на этом месте!..
– Я же и виновата! – всплеснула руками Ксюша.
– Ну-у, не только ты. И я перебрал, не следовало столько натощак. Вынудили, душа из них вон! И потом, не витай, Ксюша, в облаках, помни, что мир держится на трех китах: на водке, на любви и на работе.
– Для тебя – на одном: на водке.
– Э-эх, и не стыдно тебе такое говорить? Я ли не работаю, не люблю тебя! – упрекнул он Ксюшу с искренней обидой и, не дожидаясь ответа, поторопился выйти из дома.
Все обошлось, все путем, теперь бы пивка кружечку – и катись все… Раз в неделю выпил Демид, так его еще и пилят. С бабкой, правда, накладка получилась, зря он старуху напоил, виноват. Надо поскорее выехать – и с глаз долой, чтобы не встретиться с Петром Андосовым. Мужик он неплохой, но любит позудеть по всякому пустяку. А тут старушку-мать напоил! Никуда не денешься, придется слушать да терпеть.
Так оно и случилось. Не успел Демид выгнать машину из гаража, как во дворе появился Андосов, видно, караулил. Тут бы дать по газам, да не бросишь гараж раскрытым – пацанва весь инструмент растащит. Демид выругался и, будто не замечая мастера, уткнулся в багажник, копаясь в ветоши.
Андосов подошел, посопел за его спиной и, не дождавшись, когда Демид повернется, обрушился без лишних предисловий:
– Ты чего ж это позоришь мою старую голову, шельмец!
Демид обернулся и разыграл удивление:
– А-а, Петр Матвеевич, доброе утро. Тороплюсь вот, Челышев в Гомель посылает.
– Торопится он… Успеешь!
– А что такое?
– Что такое? – взвился Андосов, наливаясь краской. – Глаза твои бесстыжие! Ты зачем вчера мою старуху напоил?
– Да ну? Марфу Егоровну?! Вот черт, надо же. Это я, значит, вдрызг был. Перебрал, Матвеевич, не серчай, если что. А как она?
– Никак! – взорвался пуще прежнего Андосов. – Ты еще будешь передо мной коника ломать!
И понес, и понес мастер перемалывать Демидовы косточки, красный весь от негодования и от того, видно, что не может ни выговора влепить, ни наказать иначе нежели словами. Демид слушал его равнодушно, с напускным покорством, украдкой поглядывая на крыльцо Левенкова, – не хватало еще, чтобы и он подключился к Андосову. Посчитает нужным, пускай наедине упрекнет.
Остановила Андосова сама Марфушка. Она подошла незаметно и спокойно оборвала сына:
– Ну, будя человека мочалить. В рот мне силком не наливал.
А когда тот ушел, пригрозив напоследок пальцем, она посмотрела Демиду в глаза и, сокрушенно покачивая головой, заключила:
– Э-эх, па-аскудник ты!
Демид вынужден был все это молча проглотить.








