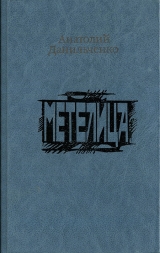
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
10
От заведующего облоно Чесноков вышел в благодушном настроении, с широкой улыбкой на лице. А заходил к своему начальнику представиться, так сказать, по поводу выхода на работу после очередного отпуска. Заведующий поинтересовался его отдыхом, вспомнил, как сам прошлым летом «полоскался» в Черном море, все на том же сочинском берегу, пошутил насчет курортных вольностей, повздыхал с сожалением, что в этом году не удалось отдохнуть как следует, и отпустил, напутствовав дружелюбно:
– Ну, впрягайся, Казимирыч, дел поднакопилось.
Назвал не Ильей Казимировичем, как обычно, а по-свойски, тепло и непринужденно «Казимирычем», и это Чесноков сразу же отметил про себя. Отметил он и то, с каким удовольствием сказал заведующий о «курортных вольностях». Казалось бы, мелочи, пустяки, не заслуживающие внимания. Ан нет, Чесноков знает цену таким «мелочам», ловит их на ходу и откладывает до подходящего случая, поскольку из них-то и складывается жизнь. Во всяком случае, его жизнь. Все зависит от того, как ты умеешь ими пользоваться. Давно ли он бегал в инспекторах, мотался по области как неприкаянный? Но вот одна «мелочь», использованная умело, другая, третья – и дело пошло: за каких-то полдесятка лет он поднялся от инспектора до заместителя заведующего. И надо заметить, это не предел. Нет, далеко не предел, Чесноков своего не упустит.
Он прошелся по длинному коридору шагов двадцать и только тогда вдруг почувствовал, что продолжает улыбаться, как бы увидел со стороны натренированную перед зеркалом, доведенную до автоматизма свою предупредительную улыбку. Тут же принял деловой вид, опасливо оглядываясь – не заметил ли кто, – и сердито чертыхнулся. Глупейшее положение. Слава богу, кажется, никто не видел.
В своем кабинете расслабился, снова улыбнулся, но теперь уже одним уголком губ, иронически. В самом деле, как тут не усмехнуться, когда только и приходится, что держать уши топориком да принюхиваться – откуда чем дует. В этом отношении Чесноков был откровенен перед собой и не стеснялся, как это делают другие, называть вещи своими именами. Да – он изворачивается, как вьюн на сковородке, да – бог не наделил его особыми талантами, и если он чего-то добился, то единственно благодаря своему умению жить. Цинично? Может быть, зато откровенно, без важного надувания щек. Конечно, на людях Чесноков не станет изгиляться, где надо, выдержит марку, но и представлять из себя Сократа, когда в общем-то волей случая уселся в кресло, не намерен, потому что, слава богу, не круглый дурак. Многие ли умом и талантом добились положения? Раз, два – и обчелся. Ну, так и нечего корчить из себя незаменимых. Он-то хорошо знает, что святое место черти одолеют, всегда найдется желающий занять его, столкнув сидящего. И ему, Чеснокову, если перестанет оглядываться, не замедлят дать пинка. Но это – извините, это еще надо суметь сделать.
А пока что он в персональном кабинете и сам кое-кому может очень даже запросто дать щелчка по носу. И в кабинете каком! Стол двухтумбовый, зеленого сукна; два телефона: белый – городской, черный, с особым сигналом, – прямой с заведующим (третьего – с высшим начальством, правда, пока еще нет), журнальный столик с двумя мягкими креслами по бокам – для посетителей, стулья вдоль стены, книжный шкаф с ровными рядами томиков собраний сочинений вождей и никелированная вращающаяся вешалка в углу. Вот уже три месяца, как он перебрался в этот кабинет, а все не может привыкнуть к его уюту и солидности.
В первый послеотпускной день приниматься за дела не хотелось. Чесноков бегло просмотрел почту – ничего существенного, – пролистал бумаги, принесенные секретаршей, и, не обнаружив срочных, неторопливо закурил, поглядывая в окно, за которым (через улицу) раскинулся тенистый сквер в полквартала. У центрального входа торговали газировкой и за плату взвешивали всех желающих на белых аккуратных весах. Это было новинкой в городе, и около весов постоянно толпился народ. В общем-то привычная скучная картина.
Он отвернулся и тоскливо поглядел на дверь. Зашел бы кто из сослуживцев – можно поболтать, поделиться отпускными впечатлениями. Самому же шататься по кабинетам несолидно, особенно теперь, когда стал заместителем. Другое дело, если к нему зайдут, – приветит, уделит внимание, оторвется от дел. Однако никто не заходил, и Чесноков со вздохом пододвинул к себе бумаги. Он вовсе не считал себя лодырем, иначе не сидеть бы ему здесь, просто настроение было нерабочее.
Не успел он вникнуть в суть первой бумажки, как в дверь постучали, и на пороге появился Лапицкий. Чесноков опешил – ничего себе, подарочек с утра!
– Здравствуйте, – сказал учитель.
– День добрый…
– Не узнаете? – Лапицкий натянуто улыбнулся.
– Ну как же, как же, – оживился Чесноков, лихорадочно вспоминая его отчество. Имя помнил – Тимофей, а вот отчество… Кажется, Андреевич. Отец у него был колоритный мужик, дед Андрей.
– Тимофей Андреевич… Проходите, садитесь, что же вы у двери…
– Антипович, – поправил учитель.
– Ну да, Антипович, – кивнул невозмутимо Чесноков. – А я как назвал?
– Андреевичем.
– Неужели? – удивился Чесноков почти искренне и прибегнул к своему излюбленному приему: – Оговорился, извините. Тут у нас один товарищ работает, на дню по пять раз встречаемся, а зовут Тимофеем Андреевичем. Так что немудрено…
Он не знал, что делать с Лапицким. С одной стороны, тот был осужден с ходовым клеймом «враг народа», хотя и верилось в это с трудом, а начистоту – совсем не верилось. Но это личное мнение, и Чесноков давно уже привык держать его при себе. Официально же – враг. С другой стороны, освобожден. В воздухе запахло переменами, туг его чутье безошибочно. Не сплоховать бы.
И еще одно обстоятельство беспокоило: знает ли учитель содержание его разговора со следователем? По всему, не должен знать, о ходе следствия ему, конечно, не докладывали. Как бы там ни было, но лучше всего не сторониться учителя и не разыгрывать из себя официальное лицо. Да и жалко все-таки, намытарился.
Лапицкий присел на указанный ему стул (приглашать в кресло за журнальный столик и садиться рядом было бы уж слишком), снял фуражку, открыв начинающие отрастать, с проседью, волосы, и вздохнул с облегчением.
– Поседели, – заметил невольно Чесноков.
– Есть немного. – Учитель машинально потрогал волосы. – Был я у вас недели две назад. Сказали – в отпуске, придете сегодня. Вот я и не откладывая… Может, не ко времени?
– Ничего, ничего, работы всегда под завязку, так что и не поймешь, когда ко времени, когда нет. Ну, рассказывайте, как вы, что, когда вернулись?
– В начале июня, уже после амнистии.
– Но ведь, насколько я знаю, амнистия распространялась только на уголовников.
– Верно, на уголовников. Я по пересмотру дела освобожден. Трижды посылал, и вот наконец вняли, как говорится, моим молитвам.
– Значит, вас оправдали?
– Конечно.
– Да-а, – протянул Чесноков, успокоясь: если оправдан, тогда другое дело. – И как это вас угораздило?
– Землячок помог – вот и угораздило.
– Донесли?
– О чем донесли? – насторожился учитель, вопросительно вскинув брови.
– То есть… нет, – смутился на мгновение Чесноков, поняв, что допустил бестактность. – В обиходе так принято… Я хотел сказать: оклеветали. Знаете, когда услышал – не поверил. Просто невероятно. Вот ведь, подумать только… Вы знаете, конечно, из газет о переменах. Невероятно! Невероятно! Вот уж истинно: хочешь понять человека – гляди ему в глаза, а не на модель обуви.
– Да-да, конечно. Только дело в том, возле кого поскрипывает эта обувь.
Чесноков насторожился, невольно глянул на дверь – плотно ли прикрыта. Что-то не туда заворачивает учитель, за такие разговорчики можно и кувырком из кресла… Ишь, нахватался!
– Позвольте, Тимофей Антипович! – произнес он сухо, почти официально. – Ваши рассуждения, знаете ли, умозрительны.
– Хорошо, хорошо, оставим. Время покажет. Даст бог, может, скоро и перестанем бояться.
Чесноков видел, что Лапицкий понял его опасения правильно: опасения за собственное благополучие. Боится же тот, у кого совесть нечиста. Лучше всего было прекратить этот скользкий разговор, но и оставлять учителя при таком мнении не годится. И потом, он, Чесноков, лицо официальное, значит, и вести себя должен соответственно.
– Не понимаю, кто и чего боится? – заговорил он поучительно. – Честным людям бояться нечего. Конечно, без ошибок трудно обойтись, и я могу понять ваше состояние после всего, что вы перенесли, пережили. Однако, дорогой мой, нельзя личные ощущения возводить в нечто общее. Все эти страхи надуманы, поверьте мне.
– Надуманы?
– Конечно же! Чего нам бояться, в самом деле.
Учитель иронически улыбнулся, покачал головой и вдруг спросил:
– А знаете, что самое страшное?
– Ну-ну.
– То, что мы боимся даже признаться вслух о самом существовании этой боязни. Удобнее всего провозгласить: не существует. Иначе, если признать что-то, нужно давать объяснение причинам его существования.
– Ну-у, батенька, в какие материи вас потянуло. Сейчас вспомним философию, а там и до эклектизма недалеко.
Чесноков заставил себя рассмеяться, свести все к шутке, хотя ему было вовсе не до смеха. Глупая откровенность, прямолинейность и независимый до дерзости тон учителя начинали раздражать. Лапицкий держался по старинке, как директор школы с рядовым инспектором, не соблюдая никакой дистанции. Не хватало еще по плечу похлопать. Забывается учитель, ситуация в корне изменилась: он, Чесноков, второе лицо в облоно, а кто такой Лапицкий? Нуль, никто, сомнительная личность, помилованный. Какой там, к черту, оправданный! Это ему только хочется верить, что оправдан. Что ж, пусть верит. Верить никто не запрещал.
Надо было одернуть учителя, указать место, но грубить не хотелось, особенно теперь, когда сложилась такая обстановка, что и не поймешь, как все обернется. Авось пригодится еще Лапицкий.
Выручил телефонный звонок. Иван Семенович, второй заместитель заведующего, коллега и приятель, собирался зайти расспросить об отдыхе, повидаться после отпуска.
– Чуть попозже, Семенович, – сказал Чесноков, перекинувшись с ним двумя-тремя фразами, и положил трубку. – Ну, так по какому делу, Тимофей Антипович? – И глянул прямо в глаза, дескать, пришел просить – проси, по старой памяти, может, в чем и помогу.
Не ожидая такого резкого поворота в разговоре, учитель смутился (то-то, милок!), нервно поерзал на стуле.
– Я, собственно, по поводу работы. Но прежде хотел узнать о детях.
– О каких детях?
– О детдомовских, что в оккупации…
– А-а, ну как же, как же! – перебил его Чесноков, ясно вспомнив трагический случай с девятью мальчиками, и насторожился, приняв озабоченный вид. – Они ведь у вас, в Метелице. Что-нибудь случилось?
– Да нет, все по-старому. Я думал, может, у вас что новое.
«Что еще новое? О чем он? Ах да, о болезни».
– Врачи ничего не обнаружили, я занимался этим вопросом. Лично занимался. Вероятно, вы ошиблись, Тимофей Антипович, в своих предположениях. Да и время показывает, что ошиблись.
– Дай-то бог, если так. А что с Поливановым? О нем в Метелице ничего не знают.
– Все хорошо, учится, здоров. Здесь он, в городе. Так что можете быть спокойны, уж кого-кого, а детей мы без внимания не оставим.
Чесноков произнес это с таким видом, словно вчера еще видел Поливанова. Собственно, какая разница – вчера, позавчера, год назад. Сам учитель говорит, что все по-старому с метелицкими, а Поливанов… Когда же это приходила к нему генеральша, года три назад? Точно, в пятидесятом. Тогда с сыном ее было все нормально, значит, и сейчас то же, иначе прибежала бы генеральша, дамочка шустрая. В общем-то благодаря ее настырности он и интересовался судьбой детей в сорок шестом – сорок восьмом годах, а потом как-то выпустил из виду. В конце концов, не опекун, на его плечах целая область, всего не упомнишь. Тем более что с детьми все нормально.
Нет-нет, совесть Чеснокова тут может быть спокойна.
– Ну и что с работой? – напомнил он Лапицкому.
– В районо отказали в восстановлении.
– Вы имеете в виду место заведующего школой?
– Да.
– А какое в настоящее время положение в школе? Поподробнее, не был давно – запамятовал.
– Школа, как и до войны, начальная, классы сдвоены. Одна учительница уходит, переезжает в Гомель – замуж вышла. Другая, Маркович Елена Павловна (может, помните, начинала у меня в сорок пятом), сейчас заведующей. Но она отказывается, хочет учителем. – Он замялся, помолчал немного и продолжал, как бы извиняясь: – Вы правильно поймите, дело вовсе не в должности. Люди всю жизнь меня заведующим знают…
– Ясно, ясно, конечно же не в рублях дело, – успокоил его Чесноков и вскользь, будто между прочим спросил, наверняка зная ответ: – В партии восстановлены?
Учитель насупился, снова заерзал на стуле. Видно было, что этот вопрос для него болезненный.
– Не так сразу, вы знаете…
– Да-да, конечно, – заметил коротко Чесноков и умолк, надеясь, что учитель сам поймет бессмысленность своих притязаний.
И какого черта суется в облоно с такими просьбами – на старое знакомство рассчитывает? В общем-то, будь другая ситуация, чего стоит помочь: один звонок в районо. Однако ситуации другой не имеется, есть одно-единственное: бывший лагерник. Вот когда в партии восстановят – милости просим, тогда всякому будет ясно, что оправдан.
Лапицкий молчал, уставясь в пол, и это начинало раздражать. Чего ждет, спрашивается? Помочь ему – значит взять всю ответственность на себя. Рискованную ответственность. А кому это надо? Нет, милок, береженого бог бережет.
– Как я понял, – заговорил наконец учитель упавшим голосом, – решение районо останется без изменений?
– Зачем же такой пессимизм, Тимофей Антипович, – развел руками Чесноков. – Я посмотрю, что можно для вас сделать, разберусь… ну, скажем, к концу недели. Устраивает?
Разбираться он конечно же ни в чем не собирался, но не в его привычках было отказывать посетителям, не оставляя надежд. Люди должны верить в лучшее в любых ситуациях. Это было бы жестоко – лишать надежд. Грубо. Невежливо. Да и хлопотно. Вот именно: хлопотно, утомительно для себя же самого.
Он поймал себя на этой мысли и невольно улыбнулся, но тут же поднял глаза на учителя, адресуя свою улыбку ему.
– Значит, до пятницы.
Лапицкий со вздохом поднялся. Его громоздкая увесистая деревяшка выглядела на свеженатертом паркете нелепо, и Чеснокову вдруг захотелось сделать для учителя хоть что-то хорошее.
– Тимофей Антипович, а что вы не закажете себе протез?
– Протез? – смутился Лапицкий. – Не знал…
– Делают! Отличные протезы делают. Подождите-ка, я сейчас, – оживился Чесноков, беря телефонный справочник и ощущая при этом легкость и приятную удовлетворенность самим собой.
Через минуту он навел необходимые справки.
– К сожалению, у них сегодня выходной. Но – делают, отлично делают, сам видел. Я вам сейчас адрес запишу…
Когда учитель вышел, Чеснокову стало жаль его. По-хорошему жаль, чисто по-человечески. Намаялся мужик, настрадался не за понюшку табака. Сейчас он нисколько не сомневался в невиновности Лапицкого. Но это сейчас. А тогда, в сорок пятом, кто мог сказать с уверенностью, что по навету, по стечению обстоятельств забрали человека, а не за его черные дела. Да и попробуй скажи, порассуждай о милосердии, о любви к ближнему. Любить человека – не значит гладить его по головке и прощать всякие пакости. Это в сорок пятом знали твердо.
Жалость к учителю увеличивалась еще и от сознания (а может быть, главным образом от сознания), что на его месте мог оказаться сам он, Чесноков. Почему бы и нет? Вполне вероятно, никто не застрахован. Нет, никто. Вон какие люди кувыркались со своих кресел!
Принялся было рассуждать о превратностях судьбы, но тут вошел Иван Семенович, и мысль его спуталась, переключилась на другое, забылась.
Забылся и хромой учитель.
11
В райком Челышева вызвали спустя неделю после проверки завода. Никакого особого значения этому он не придал: сколько таких проверок было на его веку, и не упомнишь. Беспокоиться не о чем. Главное – план завод выполняет, а уж как это делается – забота его, директора, а не секретаря. Правда, что за штучка этот новый секретарь Кравчук, еще неизвестно. Говорят, молодой, напористый… Это подходяще, таких Челышев уважает, с напористыми только и можно что-то сделать. Ничего, со старым секретарем, Иваном Даниловичем, он заседал в президиумах чуть ли не рядышком и с новым будет заседать.
Челышев знал, что на него есть жалобы в райком, но не тревожился, лишь наполнялся злостью. Распустились за последнее время, жалобы, видишь ли, строчить начали. И кто жалуется-то? Лодыри, бездельники, прогульщики, которых не только матом крыть – под суд отдавать надо. На то он и начальник, чтобы крепко держать узду. Пустяки, мелочи, это даже хорошо, что секретарь вызвал. Давно пора познакомиться, а заодно и узнать, что там за грамотеи завелись на заводе. Он им, этим грамотеям, завтра покажет кузькину мать.
Явился Челышев к десяти, как и было назначено. В приемной стучала на машинке Валечка Петровна, всегда приветливая, спокойная блондинка с завитушками на висках. До того спокойная и уравновешенная, что казалось, настроение у нее никогда не меняется. И хотя ей давно уже перевалило за тридцать, все называли ее по-свойски: кто интимно, кто снисходительно, кто заискивающе. Лет пять назад ее называли просто Валечкой, теперь же стали прибавлять отчество. Так и получилось – Валечка Петровна.
Никого из посетителей в приемной не было, и это удивило Челышева. Десять утра, самое бойкое время, и никакой толчеи. При Иване Даниловиче в это время постоянно толпился народ, встречались знакомые, обменивались новостями. Живо и непринужденно было в приемной.
– Добрый день, Валечка Петровна, – поздоровался Челышев и повесил свой летний белый картуз на круглую вешалку у входа. – Давненько я у вас тут не бывал. Как живется-можется?
– Живем, Онисим Ефимович, живем, – улыбнулась Валечка Петровна, прекратив стучать по круглым пуговицам «Олимпии». – Присядьте, еще без трех минут. Он сейчас освободится.
– Ну! – удивился Челышев. – Какие точности.
– У нас теперь так, – улыбнулась она снова.
«Ишь, – подумал Челышев неприязненно, – быстро же ты, девка, перестроилась на другого».
– Ну и как он, новый-то, в духе сегодня?
– А он всегда в духе.
– Хм! Интересно.
Через минуту от секретаря вышел незнакомый посетитель. Валечка Петровна заглянула в кабинет, пропустила Челышева и прихлопнула за ним дверь.
Навстречу поднялся из-за стола Кравчук, подтянутый, крепкий мужчина лет сорока, в хорошо отутюженном, но каком-то нестрогом, в клеточку, костюме, с таким же пестрым галстуком. Иван Данилович не позволял себе «театральных» галстуков.
– Челышев? Онисим Ефимович? Здравствуйте, – протянул руку секретарь. – Вот и познакомимся поближе. – Он указал ему на стул и сам вернулся на прежнее место. – Как здоровье?
– Какое здоровье в мои годы, Андрей Владимирович! Скриплю помалу.
– Да-да, понимаю, устали. Годы – не шутка. Сколько вам?
– Пятьдесят девять скоро, – ответил Челышев и насторожился, досадуя за необдуманно высказанную жалобу на годы. При чем тут его здоровье и годы? Куда гнет Кравчук?
– На покой не тянет?
Вот и ясно, куда гнет. Не ожидал Челышев такого начала разговора – слишком уж откровенное предложение подумать о пенсии. Ну нет, шалишь, завода он никому не отдаст.
Челышев шевельнул усами и произнес хмуро, стараясь придать своим словам как можно больше строгости:
– Такие, как я, на покой не уходят.
– Почему же?
– Такие падают на ходу.
Хотел сказать естественно, по-деловому, но прозвучало с пафосом. Он это понял по дрогнувшим в едва приметной улыбке губам Кравчука и разозлился. Разозлился на себя за то, что сразу же, с первых слов, стал ошибаться перед молодым, по существу, не оперившимся еще секретарем, и на него – за самонадеянную ухмылку. Вон ты какой, новый секретарь, круто забираешь, не по годам, не по заслугам.
– А какая в том необходимость – падать на ходу?
– Необходимость?
– Ну да. Что заставляет?
– Моя партийная совесть заставляет, – проворчал Челышев, окончательно поняв, что общий язык с секретарем найти будет нелегко.
– Да-да, партийная совесть… – произнес Кравчук задумчиво, щурясь и сверля Челышева своими блестящими глазами. – Только смотря как ее понимать. Тут мне доложили о результатах проверки вашего завода…
– А зачем она понадобилась? Наши показатели известны.
– Жалоб много, Онисим Ефимович. Жалоб на вас.
– Ах, жа-алоб, – протянул Челышев скептически и доверительно поглядел в глаза секретарю, дескать, мы-то с вами знаем цену этим жалобам. Однако тот не принял его доверительности, отвел глаза в сторону. – И кто эти обиженные? Лодыри, конечно, и разгильдяи?
– Люди, товарищ Челышев. Рабочие люди.
Стало ясно, что секретарь не назовет имен жалобщиков. Это означало недоверие к нему, к директору. Так он понял. С Иваном Даниловичем было по-другому. Он сначала выслушивал руководителя, а затем только его подчиненных. Этот же заходит с другой стороны. Обидно, оскорбительно заходит.
– Я в партии с шестнадцатого года, – жестко произнес Челышев и метнул колкий взгляд на секретаря, недвусмысленно давая понять, что он в те времена еще барахтался в пеленках. – Я около трех десятков лет руковожу предприятиями. И мне не верят?
– Откуда вы взяли, что не верят, – невозмутимо пожал плечами Кравчук. – Просто есть служебный этикет или, если хотите, правило, при котором руководитель не должен знать тех, кто на него жалуется. Неужели это для вас новость?
– Нет, не новость. Только этикеты хороши на балах, а не в серьезном деле.
– Не скажите, не скажите, – улыбнулся секретарь. – Практика ложной доверительности порочна. Глубоко порочна и закоренела. Надо изживать.
«Эка замахнулся! Красиво говоришь, красиво одеваешься, и зубки ровные, красивые – надолго ли хватит?» – подумал Челышев и спросил:
– Так в каких смертных грехах меня обвиняют жалобщики? – Он умышленно повторил это слово – «жалобщики».
– Во многих, – посерьезнел Кравчук и стал перечислять, загибая пальцы на руке: – В нарушении финансовой дисциплины, закона о восьмичасовом рабочем дне – я имею в виду манипуляции с гудками, – в игнорировании своих подчиненных, нетерпимо грубом отношении к людям, в зажиме – опять-таки незаконном – частного строительства, ну и так далее. Вы сами знаете не хуже меня, в чем вас можно обвинить. Одним словом – в стиле руководства. – Он резко распрямил согнутые пальцы. – Да, кстати, вы что же, действительно носите с собой милицейский свисток? И что это там у вас за карьер, в котором запрещено купаться и удить рыбу всем, кроме вас?
Челышев выругался про себя и полез в карман за папиросами. С Иваном Даниловичем он привык держаться на одной ноге, не собирался менять этой привычки и с новым секретарем, тем более что секретарь-то ему в сыновья годится. Неторопливо закурил, обдумывая ответ, затянулся дымком. Оказывается, проверяли не только завод, но и его. Все вынюхали, все отметили, каждую пустяковину. Вот именно, пустяковину, мелочь.
Ну да, есть у него карьер, в котором Челышев не разрешает баламутить воду сосновской ребятне. Маленький старый карьер-озерцо, достаточно глубокий и заросший по берегам молодыми деревцами. Ну и что, спрашивается, что из этого? Карьеров на заводе вдоволь на всех – купайся-полоскайся, стирай белье и уток разводи. Что им, мало? Да нет, не мало, и все это понимают. Понимают также и то, что не пристало директору завода красоваться телешом перед мальцами-сопливцами, перед молодыми девчатами-резальщицами. Не в его положении и возрасте делать это. Так что ж, выходит, директору и ополоснуться в летнюю жару нельзя?
Грамотные стали, понимаешь! Жалобы научились строгать. Свисток им не по нутру. А что имеет Челышев взамен? Рассыльных держать он себе не позволит – каждая заводская копейка на учете, адъютантов тоже не предвидится. Вот сидит Кравчук за широким столом – и телефончик, да не один, под рукой. А где они у Челышева? Что он может, кроме свистка-тюркалки?
Наковыряли мелочей, насобирали мусора, а главного-то не хотят замечать, тут у них на глазах слепота куриная. Неужели и секретарь не понимает, что главное в другом – в результатах, в показателях, черт возьми, а не в шелухе семечной. Эк словечко – «издержки». Шелуха, какие там издержки!
– Карьеров у нас много, всем хватает, – сказал он наконец. – А мой стиль руководства, смею надеяться и утверждать, оправдал себя в самые грозные годы и сейчас оправдывает. Менять не намерен. Что же мне, распустить людей, чтобы они план сорвали? Вы же меня потом вызовете и будете снимать стружку за невыполнение.
– Верно, вызову.
– Ну вот и весь разговор о стиле, – крякнул удовлетворенно Челышев. – Я так понимаю, что вы хотите обсудить заводские дела. Комиссия, как мне кажется, наковыряла мелочей, шелухи. И не заметила, что пятый год – пятый! – переходящее знамя района у меня.
– У завода, – поправил Кравчук.
– Конечно, у завода. Не ловите на слове, – буркнул Челышев.
– Когда бы эти слова не переходили в дело…
– Наши дела на виду.
– На виду, знаю, – кивнул секретарь. – Но суть ведь в том, что сейчас мы говорим не о заводе, а лично о вас.
Челышев поглядел удивленно на Кравчука – не оговорился ли? Было странно и непривычно слышать, как единое целое расчленяют надвое. Он не представлял себя без завода, как и завод без себя.
Это не укладывалось в голове, было неверным по существу, потому как Челышев буквально вынянчил завод, словно малое беспомощное дите, вырастил его и поставил на ноги. С нуля, считай, начинал. Гохмонская печь – сердце заводское – была разрушена, вытяжная кирпичная труба взорвана бегущими с белорусской земли фашистами, все гамовочные сараи и сушильные сожжены вчистую, жилья никакого… В общем, пустырь в развалинах, перемешанных с пеплом. Да и директором ли он приехал на завод? Лишь формально – директором, а на самом деле – начальником строительства. Кто знает его бессонные ночи, кто видел, как он пригоршнями глотал всевозможные лекарства, только чтобы не свалиться, не оставить завод без присмотра? Никто не видел, никто не знает, кроме Степаниды. Разве не мог Челышев подыскать местечко поспокойнее, работу полегче? Не просил – сами предлагали. Предлагали, но он отказался, как отказался бы и сейчас, и в любое другое время. Его партийная совесть, его долг тому порукой.
Как же он может, этот Кравчук, совершенно новый человек, разделять неразделимое – завод и Челышева, который сам, на своих собственных руках, можно сказать, вынес этот завод из пепла и грязи, сделал одним из лучших в районе! Нет, не укладывается в голове такое. Невозможно вести речь о директоре и умалчивать о заводе – о его делах и достижениях.
Об этом он и сказал безо всяких душевных сомнений, даже с некоторой гордостью:
– Мне странно, Андрей Владимирович, что вы говорите обо мне, отбрасывая все заводские успехи. Я поставил этот завод на ноги, я лично с двумя-тремя помощниками. И мне вовсе не совестно произносить это «я». Не со-ве-стно! – повысил он голос.
– Значит, не поняли, – сказал Кравчук с прежним спокойствием, разве что с едва заметным сожалением. – Комиссия проверяла не результаты, не итоги – они-то нам известны, – а способы их достижения. Не что, а как. Разница существенная.
– Ну-у, это уж кто как умеет, вопрос второстепенный. Потому я и говорю, что комиссия подошла не с той стороны.
– Вы убеждены, что это второстепенный вопрос? Твердо убеждены?
Челышев взглянул на секретаря с любопытством: что же он – проверяет его, прощупывает, экзаменует? Если так, то это возмутительно, молод еще проверять ветеранов, Челышев сам кого хочешь проэкзаменует. И если он никогда не занимал секретарского кресла, то только потому, что производственник.
– Да, убежден, – ответил он. – В конце концов, цель оправдывает средства. Этим мы жили и достигли немалого. Что же касается моих огрехов в работе, то я готов за них отчитаться и, если надо, ответить. Я не привык увиливать, если в чем-то допустил ошибку. Не ошибается тот, кто не работает.
Кравчук слушал его внимательно, но с каким-то равнодушием. Оскорбительным равнодушием, словно видит своего собеседника насквозь и знает заранее, что тот скажет. Может быть, Челышеву это только показалось, потому что он сам не понимал секретаря, не мог найти с ним общего языка и оттого нервничал, был настороженным и подозрительным. В словах Кравчука он уловил знакомые нотки, примерно так рассуждал его бывший инженер Левенков – либералишко, слюнтяй. Но Левенкова можно было и одернуть, чего не сделаешь с секретарем райкома. Однако и поддакивать ему, если только это не игра, не прощупывание, нет никакой возможности. Принципиально невозможно.
– Ну, а как быть с таким, например, положением: цель, достигаемая неправыми средствами, не есть правая цель? – спросил Кравчук, уставясь на него немигающим взглядом.
Челышев не помнил, чьи это слова, да и вспоминать не хотел. Он знал другие, проверенные в деле, прошедшие огонь и воду. Не одним десятилетием проверенные положения.
– Всякому положению свое время, – ответил уклончиво.
– Вот и хорошо, попытаемся жить по-другому, согласно времени.
– Как – по-другому?
– Без оправданий средств целями.
– То есть без учета цели? – попробовал съязвить Челышев, но только вызвал у секретаря скептическую улыбку. – Это, знаете ли, не по мне. Я привык видеть перед собой конкретную цель.
– Я тоже. – Кравчук прихлопнул по столу ладошками и скрытно глянул на часы, не желая, видно, входить в дальнейшие объяснения. – Ну что ж, теперь мне ясно, что комиссия в своих выводах не ошиблась.
– В каких выводах?
– Вы узнаете об этом на бюро райкома. Собственно, я и пригласил вас, чтобы познакомиться поближе, прежде чем обсуждать ваш вопрос на бюро.
– На бюро-о?! – загудел Челышев, ошарашенный неожиданной новостью. – Мой вопрос? Уже существует мой вопрос? – Он захлебнулся от возмущения. – Какое еще бюро! Вы что же это, в самом деле!
Челышев не находил слов. Первым его желанием было встать и уйти, яростно хлопнув дверью. Кравчука он уже ненавидел, не мог спокойно смотреть на него. Ненавидел его щеголеватую прическу с удлиненными висками, выскобленный до белизны округлый подбородок, самоуверенный взгляд, его клетчатый костюм, галстук, всю его холеную интеллигентность. Откуда взялся, кто такой, за какие заслуги?
И этот франт бесцеремонно создает персональное дело на него, Челышева! На признанного руководителя, всю свою жизнь отдавшего производству. Обсуждение на бюро означает снятие с должности директора завода. Он-то знает, бюро по пустякам не собирается.
Впервые в жизни Челышев явственно ощутил, как уходит почва из-под ног – медленно и неотвратимо. Он торопливо закурил новую папиросу, чтобы хоть немного сосредоточиться, уяснить, что же вокруг происходит. Почему стало возможным такое: совсем еще неопытный, нетертый молодой человек сидит в секретарском кресле и запросто решает судьбу опытного партийца и руководителя? И решит ведь по своему усмотрению – вот в чем штука.








