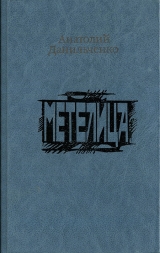
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
15
К полудню вся Метелица знала о приезде Сашиной матери, вдовой генеральши Поливановой. Артемка, а за ним и другие хлопцы разнесли эту весть по деревне в один момент.
Знал о приезжей и Антип Никанорович. Любопытствовал взглянуть на генеральшу, но было неловко сунуться незвано в хату Лазаря.
Он пересушивал свежую бульбу и корзинами относил в подполье, когда во двор влетел Лазарь.
– Бяда, Никанорович! Ой, бяда! – запричитал он от самой калитки. – Сашку отымают. За што? Скажите, ради бога, за што?
Антип Никанорович поставил корзину и развел руками.
– Родная матка… Чего ж поделаешь.
Лазарь просеменил через двор и бочком присел на крыльцо. Нижнюю губу он отвесил и растерянно моргал, бессмысленно шевеля пальцами рук на коленях. Весь его вид был жалким и беспомощным.
– За што, Никанорович? Сашку отымают… – повторял Лазарь плаксивым голосом. – Ой, бяда! Она ж, генеральша, штой-то задумала недоброе. Грозилась Тимофею. Захар ей наговорил там об Сашке… Идтить надо, Никанорович, втолковать там чего. Может, оставит Сашку?..
– С Захаром говорила? – обеспокоился Антип Никанорович. – Об чем же?
– Не знаю. Пойдемте к нам… Целый год Сашка по документам у нас… Ай закон какой имеется – не отдавать, Никанорович?
– Чего ты толкуешь…
Ему было жалко Лазаря, который надеялся невесть на что, и хотелось успокоить, утешить этого большого ребенка, но тревога за Тимофея заслонила все другие чувства.
Разузнал, долго ли пробудет Поливанова, когда уезжает, и обещал зайти немного погодя, чтобы его приход выглядел как бы случайным.
Лазарь повздыхал, поохал и ушел.
Антипу Никаноровичу не терпелось кинуть все и пойти к этой генеральше, но он выжидал время и, только переносив в подполье всю бульбу, направился к хате Лазаря уже далеко за полдень. Он так и прикидывал – застать ее накануне отхода на станцию.
Поливанова взглянула приветливо, но когда узнала, что он батька Тимофея, строго стиснула сердечком подкрашенные губы и вздернула тонкую бровь.
– Значит, вы и есть отец того самого директора детдома? – спросила она, ощупывая Антипа Никаноровича колючим взглядом.
Он утвердительно кивнул и насторожился, озадаченный ее враждебным тоном.
Подбежал Лазарь, суетливо потянул его через горницу, усадил на табуретку.
– Батька он, батька Тимофея. Антип Никанорович. Он вам все расскажет, Елизавета Вячеславовна, – тараторил Лазарь. – Я што? Я так… С ним поговорите.
– О чем же?
– Об Сашке. Он все как есть знает. А Захар поклеп возводит.
Поливанова пожала плечами и сухо сказала:
– Вы уж простите, Лазарь Макарович, но говорить об этом я предпочитаю в официальной обстановке. – Она увидела выходящего из хаты сына и забеспокоилась: – Сашенька, ты куда? Ах, мальчики пришли проститься… Только недолго, сынок, мы сейчас уходим. Дай им конфеток.
Антип Никанорович шел с намерением узнать, что ей нашептал Захар, поговорить откровенно и рассказать правду о Сашке, даже надеялся через нее как-то помочь Тимофею, но с первых же минут понял: говорить с этой заносчивой генеральшей бесполезно. Не защитника, а нового врага нажил Тимофей.
– Ну, коли вам по душе брехня всякого шкурника, то, конешно, говорить нам не о чем, – сказал он хмуро. – Я думал, вы захочете правду узнать.
– Нет, вы только посмотрите! – возмутилась Поливанова. – Меня еще и во лжи подозревают! Да, я хочу знать правду, и я узнаю ее. Но, кажется, не от вас. Боже мой, подумать только! Отец пострадавшего ребенка у них – шкурник. А этот… этот… – Она прерывисто задышала, вскочила с табуретки, пробежалась по хате и остановилась у окна. – Но я добьюсь, я найду правых и виноватых! Нет, это просто в голове не укладывается!.. Пока наши мужья сражались на фронтах, здесь преспокойненько… Боже мой! Боже мой! – Она торопливо достала носовой платок и поднесла к глазам.
– Виноватых шукать приехали? – спросил Антип Никанорович. – Что ж так припозднились?
Поливанова резко обернулась, поглядела на него с прищуром и сказала раздельно:
– Много берешь на себя, дед! Не забывай, с кем разговариваешь!
– Не забываю, – в тон ей ответил Антип Никанорович. – Мужу вашему – низкий поклон и спасибо наше. А вам, мадамочка, виноватых шукать не пристало.
– Это что еще значит! – повысила она голос.
– А то, што в своих грехах мы сами разберемся, без посыльных из Ташкентов али же из других краев.
– Да… да как вы смеете?! – вскрикнула Поливанова.
Антип Никанорович понимал, что не следовало так разговаривать с генеральшей, но сдержаться не мог. И почему он должен сдерживаться перед какой-то капризной бабенкой? Кто она, эта «кукушка», просидевшая всю войну в Ташкенте? По какому праву обвиняет людей, переживших оккупацию? Нет у нее такого права!
Захотелось обругать генеральшу, встать и уйти, хлопнув дверью. Он приподнялся, засопел сердито, но заметил укоряющий взгляд Глаши, растерянного, словно виноватого в чем-то Лазаря и сразу остыл, успокоился. Чего ради должен уходить? Какой прок из его ругани? Поливанова пришла, уйдет и забудется, а ему оставаться вместе с Лазарем и Глашей.
– Смею, мадамочка. Смею, – только и сказал он.
Глаша уже успокаивала гостью, извинялась неизвестно за что, охая и молитвенно складывая на груди мужские, широкие ладони. Поливанова тут же переменилась, суетливо забегала по горнице, то и дело поднося к сухим глазам батистовый платочек.
– Что вы, что вы, Глафира Алексеевна, – тараторила она. – Это я погорячилась. Простите, ради бога! Милая вы моя, я так взволнована… Пора уходить? Да-да, время. Где Сашенька?
– Тут он, тут, не беспокойтесь. Я кликну. – И Глаша выбежала на улицу.
Поливанова выглянула в окно, взяла свой макинтош, положила обратно, покопалась в сумочке, еще раз поглядела в окно и подошла к стоящему у печки Лазарю. На Антипа Никаноровича не обращала внимания, как будто того и не было в хате.
– Лазарь Макарович… Сашенька, он единственный у меня и остался. Не знаю, как и благодарить. Я понимаю, вам было тяжело, вы столько сделали… – Она покосилась на дверь, выхватила из сумочки туго свернутую пачку денег и сунула в руку Лазарю.
Тот поглядел на деньги, на Поливанову, растерянно заморгал и сказал плаксивым голосом:
– За што?
– За Сашеньку. Возьмите, Лазарь Макарович, не обижайте меня. Сейчас такое время… Дорогой вы мой, я понимаю… – Она торопливо обняла его, пробежала через горницу, смахнула с подоконника свой макинтош и скрылась в сенцах.
– За што?.. За што, Никанорович? За што-о?..
Губы Лазаря совсем по-детски искривились, плечи затряслись, он осунулся на скамейку и заплакал навзрыд.
Через минуту вошла Глаша.
– Лазарь, пошли проводим… – Она увидела плачущего мужа, красную пачку денег на полу у его ног и растерялась. – Чтой-то такое?.. Никанорович, как же?.. Господи-и!.. – Схватила деньги и опрометью вылетела во двор.
Антип Никанорович подошел к Лазарю и положил руку ему на плечо:
– Не надо, Лазарь! Чуешь, не надо!
Ему и самому хотелось заплакать. То ли от жалости, то ли от злости…
* * *
Прошло две недели, и Поливанова забылась. Не стоила она думок Антипа Никаноровича. Другое угнетало его, другое лежало камнем на груди и не давало дышать свободно. Тимофея не отпускали, и в деле его не было видать просвета.
Ноги истоптал Антип Никанорович в хлопотах за Тимофея, а проку никакого. К кому только не ходил, в какие двери не стучался, все гомельское начальство потревожил, доказывая невиновность своего сына. Одни обещали разобраться и восстановить справедливость, другие звонили по телефону, наводили какие-то справки и потом, подозрительно оглядев его, отвечали сухо, что ничем помочь не могут – это дело следователей и суда, третьи попросту разводили руками в знак непричастности к НКВД. Дважды приезжал в Метелицу майор Брунов, дважды разговаривал с ним Антип Никанорович и смог понять всю сложность положения Тимофея. Но знал он и другое: его сын ни в чем не виноват, значит, и держать его под арестом никто не имеет права. А Тимофея держат и обвиняют в страшном преступлении. И не кто другой, как следователь Брунов. О каком же доверии может быть речь, о какой справедливости, когда никто не может освободить невинного человека? Что-то здесь не так, но что? Неужто контра голову подняла? Так не двадцатые годы, слава богу – сорок шестой на носу. Нет, однако, не может такого быть. А если так, то должен ведь Антип Никанорович правду найти. Ан нет, не выходит. Или ищет не там? Или ищет плохо? Непонятно.
Сдал за последнее время Антип Никанорович, рубаха болталась на плечах мешковиной, глаза впали, стали злыми и колючими, хоть в зеркало не глядись. Прося вконец его доконала своими слезами, а тут еще и Ксюша нюни распустила. Что ни вечер – усядутся в горнице на диване и плачут друг перед дружкой.
Вот и сегодня уложили детей спать, управились с делами и сидели как в воду опущенные, хлюпали носами.
– Будя вам! – накинулся на них Антип Никанорович, когда ему стало невмоготу от бабьих слез.
– Не отпустят Тимофея. Ой, не отпу-устят, – протянула Прося нараспев.
– Каркаешь больно много! – осерчал он на невестку. – Только слез и не хватало! Хоронить их надо, слезы-то.
– Для чего хоронить? – вмешалась Ксюша, тяжело вздохнув и вытерев глаза рукавом кофты.
– Для радости, – буркнул Антип Никанорович. – Чем зазря керосин палить, спать ложились бы.
– Скажешь ты, батя…
Антип Никанорович недовольно засопел и вышел во двор заложить сена корове да по привычке запереть на ночь калитку.
Накрапывал мелкий дождь. Тоскливо и протяжно поскрипывали ворота, прерывисто сопел ветер в саду, наплывала темнота. Было зябко и неуютно.
Антип Никанорович передернул плечами, прошел в хлев, заложил две охапки сена в ясли и по привычке, прежде чем запереть калитку, выглянул на улицу. В темноте разглядел приближающуюся фигуру и решил подождать – кого это в такую непогодь носит?
Это был Яков Илин.
– Никанорович? – спросил он. – Не улеглись еще, вот и добре. К вам я.
– С вестью какой или до Ксюши по делу? – насторожился Антип Никанорович, зная, что Яков ездил сегодня в Гомель.
– Весть не весть, а так…
– Ну, проходь, проходь, чего ж мокнем, – пригласил он Якова в хату.
Ксюша с Просей и взаправду вняли воркотне батьки и улеглись спать, погасив лампу в горнице. Только в трехстене горела коптилка.
Яков скинул брезентовый дождевик и умостился у теплой печки, зябко поводя плечами. Антип Никанорович присел напротив и выжидал, пока тот закурит. Он догадывался, что Яков пришел неспроста, что-то проведал о Тимофее, хотел поскорее узнать новость и боялся спросить.
– Погодка… – начал Яков издалека. – Пока по Гомелю пошастал, прозяб до костей. Да… Везде пришлось побывать. Следователя этого, как его, Брунова, видел, – проговорил он с какой-то неохотой и умолк, отплевываясь от попавшего в рот табака.
Он так долго это проделывал, что Антип Никанорович не выдержал:
– Ну, чего там? Не тяни!
Яков покорябал ногтем мизинца кончик языка, утер ладонью губы и наконец сказал:
– Плохо, Никанорович, вот что!
Антип Никанорович выдохнул удерживаемый в груди воздух и опустил плечи, пальцы рук его, сцепленные на коленях, расслабились и разошлись.
– Маху мы дали, – продолжал Яков. – Надо было сговориться. Я ведь мог знать о Тимофее еще будучи в отряде? Мог. Знай, что так выйдет… Черт! Видно, судить будут.
– Чего ж сговариваться, когда вины за ним никакой? – заволновался Антип Никанорович. – Супротив кого сговариваться-то?
– Клин клином, Никанорович, чего там… Как бы все просто было… А теперь поздно. Этот Брунов хитер, еще в первый приезд разузнал все, взял показания, как они говорят, а потом только объяснил, что к чему.
– Погодь, ты мне не ответил, супротив кого сговариваться? Выходит, там чужие позасели, ежели брехать приходится?
– Ай, Никанорович! «Супротив кого, супротив кого…» В настоящем случае – против обстоятельств!
– Да-а… Я давно уразумел, што без суда тут не обернется. Вот ты говоришь, обстоятельства виной тому, а я скажу: люди! Это што ж то творится, Яков? Неужто управы на следователей энтих нету? Один арестовал невинного человека, и нихто не может его вызволить. Или не хочут вызволять? Я так смекаю: на обстоятельства всего не свалишь, тут – контра, вот што!
– Ну, Никанорович, загнули вы! – удивился Яков. – Брунов, по всему видно, старается разобраться по справедливости, да все оборачивается против Тимофея. А тут еще эта генеральша подлила масла в огонь. Вот стервоза, мужем козыряет! Одно к одному. – Он беспомощно развел руками и умолк.
– Чего он старается, Брунов этот! – осерчал Антип Никанорович. – Он же возвел поклеп на Тимофея, закрутил дело. В войну, видать, по тылам ошивался, а теперь виноватых шукает, старается, как и эта вертихвостка. Тьфу, падла!
– Он тут ни при чем. Оклеветали Тимофея, донесли…
– Хто? – Антип Никанорович вскочил и уставился на Якова. – Хто, ежели не он?
Яков затянулся папироской, кинул в печку окурок, почесал затылок, повел бровью и выдохнул:
– Захар!
– Захар… – прошептал Антип Никанорович и опустился на табуретку. – Захар, а, Яков? Ловко, ничего не скажешь. Лей грязь в соседский двор – свой чистым останется. А я догадывался, слышь, догадывался, да не мог поверить. – И, не в силах больше удержать подкатившую к самому горлу злость, прохрипел: – В гроб вгоню, гада!
– Ну вот, не хотел говорить, – вздохнул Яков, – черти за язык дернули.
– Это чего ж не хотел?
– А того и не хотел. Вам не легче, а в деревне лишняя вражда.
– А ты в мире хочешь с этим падлой жить? Нет, Яков, легче. Теперь я знаю своего ворога, знаю, кого за глотку брать!
– Голыми руками его не возьмешь, Никанорович. Проверяли, уцепиться не за что. В чистенькие, сволочь, попал! Ведь вот в чем загвоздка: все знают Захарову «партизанщину», а подтвердить никто не может. Никто не видел, никто за руку не поймал. И о Тимофее все знают, что он работал на отряд, передавал сведения, которые удавалось раздобыть в комендатуре, через его руки проходили партизанские листовки, через него держалась связь отряда с деревней. Все знают обо всем, все, от мала до велика, а конкретно подтвердить никто не может. Спроси любого, ответит: «Да, знаю, Тимофей работал на отряд». – «А откуда знаешь?» – «Да как же не знать, ведь все знают!» Замкнутый круг какой-то.
– Выходит, все, Яков, будем глядеть, как над Тимофеем измываются? – спросил Антип Никанорович с кривой усмешкой.
– Но что я могу? – Яков вскочил, пробежался по трехстену и закурил новую папиросу. – Мне уже намекнули, чтобы не совался в чужие дела! Понимаете, чем это пахнет? У меня трое в хате… – Он торкнул горящий конец папиросы прямо в губы, выругался и кинулся к ведру с водой.
– Я не укоряю тебя, Яков. Чего ж укорять-то, каждый жить хочет. Ничего, сам сдюжу. Найду концы.
Поговорили еще немного, и Яков ушел домой, а Антип Никанорович остался один на один со своими неспокойными думками и тишиной наступившей ночи. К бессоннице он уже привык, как привыкают к застарелой болезни.
* * *
Назавтра Антип Никанорович поднялся позднее обычного и с болью в голове. Прося уже возилась у печки, Ксюша замешивала поросенку в треноге. Еще не рассвело, и в хате горела керосинка.
Он потоптался в трехстене, вышел на улицу, вернулся, но боль не проходила. Поставил примочку из огуречного рассола и присел на лежанку.
– Ай захворал, батя? – спросила Ксюша.
– От печки, видать. Учадел.
О вчерашнем разговоре с Яковом Антип Никанорович решил умолчать – только слезы лишние.
Пока семейство Антипа Никаноровича завтракало и расходилось по своим делам, он все время чувствовал какое-то нетерпение, что-то надо было ему сделать срочное. Наконец понял: должен увидеть Захара, должен поглядеть в глаза своему кровному врагу и сказать… Что сказать? Этого он еще не знал. Какими словами выразить Захарову подлость?
Захар был дома, но пойти к нему Антип Никанорович не мог, остался караулить во дворе. Через плетень сада хорошо виделась новая Захарова хата, без крыльца, без пристроек, еще не обжитая и не отделанная ни снаружи, ни внутри. Кругом по неогороженному двору бесхозяйственно была разбросана щепа, доски, обрезки бревен и всякий строительный мусор, под окном – куча битого кирпича и желтый речной песок. Недели две назад вселился Захар и загулял, оставив незаконченную работу до весны. Есть крыша над головой – и ладно.
Вскоре в дверях появился Захар, поставил два порожних ведра на землю и подался за угол хаты. Антип Никанорович кинулся к себе в сенцы, схватил подвернувшийся под руку подойник, выплеснул воду в пустое корыто у плетня и заторопился к колодцу. Захар уже поднимал тяжелую дубовую бадейку, перехватывая волосатыми руками отполированный до блеска шест.
Захар вытянул бадейку, перелил воду в ведро, покосился на Антипа Никаноровича и отвернулся, берясь за шест.
– Што глаза-то ховаешь? – не выдержал Антип Никанорович.
– А чего мне ховать? – ухмыльнулся Захар.
– Чистый, значит, отмылся от грязи?
– От какой это?
– А от той, што Тимофея обляпал.
На мгновение метнувшиеся по сторонам глаза Захара спрятались под веками, но тут же опять стали спокойными и самоуверенными.
– К чистому грязь не пристанет, – сказал он. – А таиться я ни от кого не собираюсь. – И добавил грубо: – Все!
Он наполнил ведра и собрался уходить. В груди у Антипа Никаноровича зашлось, и пальцы помимо воли сжались в кулаки, но показывать перед Захаром свою злость он не хотел.
– Нет, не все, – сказал как можно спокойнее. – Завтра ж поедешь в Гомель и скажешь кому положено, што возвел поклеп на Тимофея. Горячку спорол, скажешь, может, и простят.
Захар сложил руки на груди и нагло уставился на Антипа Никаноровича.
– Ну, а ежели не поеду?
– Ежели не поедешь – не жить тебе.
– Постарел, Никанорович, постарел, – издевался Захар с самодовольной улыбкой. – Бачь, и руки трусятся, и с одним подойником по воду пришел…
– Другой раз повторять не буду, – прохрипел Антип Никанорович, еле сдерживаясь, чтобы не взорваться. – Засудят Тимофея, тебя, суку, спалю вместе с хатой!
Улыбка с лица Захара стаяла, видать, понял, что Антип Никанорович не шутки шутит, терять ему нечего, может и взять грех на душу.
– Пуганый, – процедил он сквозь зубы, подхватил ведра и зашагал прочь от колодца.
Антип Никанорович поглядел на широкую Захарову спину, засопел тяжело и направился к своему двору, размахивая пустым подойником.
16
Сентябрь стоял сухим, а в октябре зарядили дожди, задули холодные ветры, срывая последнюю листву с деревьев. Проселочные дороги вконец развезло, даже надежный «козлик» Брунова буксовал чуть ли не на каждом километре. Работа следователя заставляла его часто ездить по районам, он хорошо знал бездорожье Гомельщины и не любил в распутицу выбираться из города. Но ездить приходилось, и каждая такая поездка расшатывала его душевное равновесие, изматывала нервы, отнимала последние силы. Нужен был отдых, но одно дело сменялось другим, и конца тому не предвиделось. В октябре выпала возможность взять отпуск недельки на две, и опять он не смог даже заикнуться об отдыхе – удерживало дело Лапицкого.
По этому делу и ездил Брунов на прошлой неделе в Метелицу, уже не в первый раз, без всякой надежды узнать что-то новое, единственно – успокоить свою совесть. Как он и предполагал, поездка ничего не дала: кто-то что-то слышал, кто-то о чем-то догадывался, все удивлялись неожиданному аресту Лапицкого, но никто не мог сказать ничего существенного. Попутно проверил Захара Довбню и опять, кроме неопределенных слухов, ничего не узнал, а налицо было следующее: Довбня прошел с боями от Белоруссии до Берлина, имеет ряд наград, военкомат охарактеризовал его с лучшей стороны. В военкомате же Брунов узнал о том немаловажном факте, что Савелий, на которого ссылался Лапицкий как на одного из погибших свидетелей, во время оккупации до ухода в партизанский отряд, был дома. Оказывается, не такая уж святая эта семейка Лапицких, какой представлялась на первый взгляд. Опрос детей мало чего дал, только одиннадцатилетний Саша Поливанов, хитрый и разболтанный мальчик, со взрослой озлобленностью сказал про своего бывшего директора детдома: «Якшался с немцами! За ручку здоровался…» Такие показания были, конечно, несерьезны, и принимать их не следовало, но все же и они находились в серой картонной папке, на которой стояло: «Дело Лапицкого».
Брунов в который раз пересматривал содержимое знакомой папки, проверял все «за» и «против». Время не терпело, пора было подводить итог. Получалось: «против» – все в этой папке, «за» – ничего, если не считать его следовательской интуиции.
За окном шелестел дождь, молодой тополек покачивал своими голыми ветвями, медленно ползли рваные тучи. В кабинете было сумрачно, накурено и тихо.
Брунову не хотелось передавать дело в суд: а вдруг еще что-нибудь прояснится? Но надежды на это были малые, а обстоятельства поторапливали. Ему уже дважды звонили «сверху», тактично интересовались «странным делом Лапицкого». Два звонка по одному и тому же делу – уже много. Чувствовалась в этом рука капитана Малинина.
«Прислали работничка на мою голову», – подумал Брунов.
Минут через пять легкий на помине Малинин появился в кабинете. Он собирался в район и зашел предупредить об отъезде.
Заглянув мельком в папку на столе, он с притворным вздохом заметил:
– Все Лапицкий…
– Все он, все он, – ответил Брунов.
– Звонили вчера… оттуда. – Малинин вскинул кверху брови. – Вас, кажется, не было в то время. Интересуются…
Брунов взглянул на капитана и с неприязнью подумал: «Значит, мне уже не звонят – прямо ему. Хорошенькое дело! А следователь из тебя никудышный, капитан. Весь день я просидел в кабинете».
– Вот хочу еще раз пересмотреть.
– Да что он вам, этот Лапицкий, Павел Николаевич? – не то спросил, не то удивился Малинин и улыбнулся тонкими бледными губами.
Сказано это было как бы вскользь, но Брунов почувствовал откровенный намек, даже – вызов себе.
«Не сработаюсь я с тобой, капитан, не сработаюсь, – подумал Брунов, и тут же в голове мелькнуло: – Или он со мной не сработается? Ведь может и такое случиться».
– Разрешите идти? – спросил Малинин официально.
Брунов отпустил капитана и задумался. С делом Лапицкого надо кончать, это ясно как день. Или подождать все-таки? Но чем обосновываться, своей интуицией? Это несерьезно. Неужели его упорство, с каким искал оправдания Лапицкому, выеденного яйца не стоит? Видимо, так оно и есть. Не похож Лапицкий на предателя? А кто из предателей похож на предателей? «Стареешь, майор, стареешь… Да нет, я просто устал».
Брунов поглядел на моросящий дождь за окном, послушал отдаленный перестук пишущей машинки, пригасил папиросу, закрыл серую папку и нервно прихлопнул ее сверху растопыренной пятерней.








