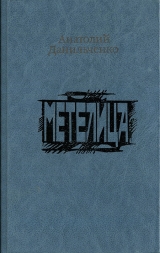
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
3
Гомель немцы удерживали долго и упорно. Целый месяц сельчане прислушивались к отдаленному гулу канонады, по вечерам видели красное, полыхающее зарницами небо в стороне города и тяжко вздыхали. Пока Гомель в чужих руках, они не могли считать себя свободными. Слишком близкая и тесная связь у Метелицы с городом: у одних там дети, у других сватья, зятья, снохи… Наконец 26 ноября наши войска вышибли немца из Гомеля, фронт откатился на запад.
Через неделю вернулись бабы и мужики, угнанные немцем при отступлении. Все изможденные, понурые, непохожие на себя.
– Чего ради оставались, и доси не уразумею, – говорил дед Евдоким. – Энто ж, как подались вы в лес, назавтра поутру пришла ихняя команда, повыгоняли нас из хат и поперли по шляху. Господи свет, чего там было! Ровно скотину гнали, а куда, и сам не ведаю. Попервое – к Гомелю, а там – у свет белый… Тыщи народу, старых и малых. Нагляделся перед смертью, не приведи господь! Кабы наши не догнали – все бы скопытились. Слава те, ослобонили!
– А Макар – што ж? – спрашивал Антип Никанорович.
– Уходили, царствие ему небесное! – вздыхал дед Евдоким. – Уходили нашего Макара. Силов не хватило итить. Уже за Гомелем при дороге и порешили. Сколь народу полегло… Изуверы! Эх, Антип, плохо мы их в первую мировую били. Брата-ались, едрит твою корень!
– Немец немцу рознь. Не путай! – повышал голос Антип Никанорович.
– Э-э, чего там – не путай! Немчура, она и есть немчура. Испокон веков.
Антип Никанорович осерчал:
– Где ты разум сгубил, Евдоким? У тебя ить сколько от гражданской, два пулевых?
– И одно сабельное, – уточнил дед Евдоким с гордостью.
– То-то! За што ж ты кровя проливал? Не путай, Евдоким. Пущай там молодые не разумеют, а тебе грех.
Дед Евдоким, бессменный колхозный сторож, вступил в свою должность и поселился в правлении, в небольшом чуланчике. Копать землянку ему было не по силам, да и нужды особой в том не было. Яков Илин, избранный председателем, уже с осени начал готовиться к посевной. Он понимал, что, не собери зерно сейчас, за зиму сельчане подметут все подчистую. Сдавали картофель, жито, просо, ячмень – что у кого было, кто сколько мог.
По вечерам, приходя домой, Ксюша беспомощно разводила руками и сокрушалась. Семян явно не хватало, а забрать у людей последнее Яков не мог.
Задул напористый северяк, легли снега, закружила, запела свою монотонную и тоскливую песню метель. Надвигалась третья военная зима. Что она сулила людям на разоренной земле, какие беды и лишения несла с метелями и морозами, чье бездыханное тело спешила завьюжить в простуженных полях? Но все понимали: самое страшное позади, оккупация миновала.
Баню Антип Никанорович закончил к первым морозам. Всю осень провозился в саду, но сделал не хуже старой. И сразу же во двор потянулись мужики и бабы со своими дровами, ведрами, тазиками. Мылись в эту зиму, как никогда, часто. Антип Никанорович только диву давался, откуда вдруг такая любовь к чистоте? Даже дед Евдоким, который до войны мылся раз в месяц, теперь, что ни пятница – суется с березовым веником: «Удружи, Никанорович, лопатки зачесал, ажно полосы красные скрозь по телу!»
Всю зиму курился дымок над баней, печка не успевала остывать, бревна стен разбухли от сырости, наглухо законопатив щели. Антип Никанорович стал непривычно хлопотливым и услужливым, испытывая довольство оттого, что делает людям добро, и приглушая смутное чувство вины за свою уцелевшую хату, двор, хозяйство, в то время как у соседей-сельчан все погорело.
– Ну, Никанорович, вы теперь у нас вроде апостола Петра, – пошутил однажды Яков, отдуваясь после бани, распаренный и довольный.
– В каких смыслах?
– Да вот, перед новой жизнью через баню прогоняете.
– Это оно так, – усмехнулся Антип Никанорович. – В новой жизни грешникам не место. Однако ж прошмыгнут, не углядишь. Держи ухо востро, Яков.
– Ничего, – уже серьезно заметил Яков. – Пускай приходят, зачтется всем. А за баню спасибо! От всех сельчан и от колхоза спасибо. Удружили.
Антип Никанорович согласно кивал и усмехался сам себе.
– А я, грешным делом, недобрую думку держал: сомневался строить. Всяк могли подумать, разруха ить. Слава те, ошибся! Теперь прут кажен день, особливо бабы. И с чего бы такая прыть? До войны меней мылись.
– Радости-то другой нету, Никанорович. Попаришься – и будто праздник у тебя. Да и вша заела.
– Вшу баней не вышибешь, – говорил Антип Никанорович, вздыхая. – Она ж, лярва, не к грязи липнет, а к горю людскому. Возьмет нуда – парься, не парься… На бедах человеческих жира нагуливает. Одно слово: паразит.
В морозную стужу, чтобы не застыть после бани, сельчане отсиживались в трехстене, вели беседы, обменивались новостями, и постепенно хата Антипа Никаноровича стала центром всей метелицкой жизни. Случалась какая радость – шли с радостью, случалась беда – шли с бедой или просто забегали на огонек поточить лясы да посидеть в тепле под крышей нормального человеческого жилья. Сырые, как подвалы, землянки-норы удручали своей теснотой и затхлостью, томили сельчан. Единственное, что превращало их существование в жизнь – это вера в скорую победу и в скорую весну, когда можно будет строить дома и вспахивать освобожденную землю. Никто почему-то не сомневался в том, что эта зима – последняя военная. А пока что заготавливали строительный лес и возили в сожженную деревню. Возили на себе, запрягаясь в сани, потому что двух коней, добытых Яковом для колхоза, не хватало.
Изредка наведывался Савелий, и тогда в хате все приходило в радостное волнение. Счастливый Артемка не слазил с батьковых колен, Ксюша с делом и без дела подбегала к Савелию, вертелась возле него, нетерпеливая, с горящими щеками, ревнуя ко всем домашним, сердясь за ненужные разговоры, отнимающие у нее мужа. Савелий был веселым, свежим, всегда чисто выбритым и подтянутым. Из мирного, по-деревенски степенного агронома он превратился в строевика. Теперь и разговоры, и мысли у него были другие. В эту войну ему доводилось отступать, выходить из окружения, отсиживаться в оккупации, партизанить, только наступать не довелось.
Антип Никанорович наблюдал за зятем и тревожился. Ему что-то не нравилось в этом «новом» Савелии. Отрывается мужик от земли, думки в голове другие, не крестьянские. Понимал Антип Никанорович, что время военное, значит, и разговоры, и заботы военные, однако война-то из-за чего? За нее, за землю, и воюют, она всех произвела и примет обратно в чрево свое, чтобы возродить для новой жизни, она – истинная родительница, а человек произрастает из нее, как трава или дерево, разве что думать и двигаться научился. Да научился ли думать, коли не бережет, не заботится о ней, а покоряет грубо и насильно. Кого покоряет?!
Все чаще и чаще приходили такие думки к Антипу Никаноровичу в долгие зимние вечера и настраивали на невеселый лад.
4
Кабинета у Чеснокова не было – ютился в крохотной каморке, где умещался письменный стол да три коричневых жестких стула на тонких ножках. До кабинета ли теперь, когда на западе еще громыхает война, когда и есть нечего, и отдыхать некогда. Работы невпроворот. Почти все школы в области сгорели, средств на строительство новых предельно мало, не хватает учителей, нет книг, тетрадей, а со всех районов наступают на горло: «Дай!» Но в свободные минуты нет-нет да и пригрезится Чеснокову кабинет заведующего, массивный стол, покрытый зеленым сукном, мягкое кресло, два телефона по правую руку, кожаный диван у стены и вешалка в углу, круглая обязательно, чтобы вертелась.
Улыбнется он мечтательно, вздохнет и склонится над очередной кипой бумаг. К черту иллюзии! Размечтался… А почему бы и нет? Теперь он как-никак старший инспектор в облоно. Не шутка после всей этой заварухи, работы при немецком режиме. Ведь всякую легальную работу в оккупации теперь могут расценить как сотрудничество. Какую изворотливость надо иметь, какой нюх, какую тонкую восприимчивость, чтобы уловить, куда ветер дует, уцелеть, и не только уцелеть, но и шагнуть вверх по служебной лестнице! Что ж, все закономерно, Чесноков не лыком шит и кое-что в жизни умеет. И все же ему повезло, как игроку, который не передергивает карту. Просто и на этот раз ему к восемнадцати пришла дама.
Еще до освобождения Гомеля он понял, что дожидаться в городе прихода своих не следует, и, как только фронт стал приближаться, ушел в деревню Зябровку к дядьке. Ровно через неделю волна фронта прокатилась над ним, и Чесноков очутился на спасительной суше. И опять везение: в Зябровке остановилось белорусское правительство. Чесноков оказался как нельзя кстати, тем более – единственный из работников облоно, который был под рукой.
А потом – освобождение Гомеля, и Чесноков вошел в него как освободитель. Кому в голову придет подкапываться под такого человека? Чесноков не совершал ни преступлений, ни подлости. Он просто жил. Разве можно обвинять человека за то, что тот живет и хочет жить – это его естественное состояние.
Сейчас некоторые его знакомые и коллеги думают, что Чесноков был связан с подпольем… Так что же ему, кричать на всех перекрестках, что ни с каким подпольем не знался? Думают, ну и пусть думают себе на здоровье, только поменьше говорят об этом – любые разговоры к добру не приведут. Хорошо еще, что Брунов так не думает, а то и расспрашивать начнет, не с умыслом – так, по знакомству и по профессиональной привычке следователя НКВД.
С Бруновым Чесноков свел знакомство уже после освобождения Гомеля. Случайно, на областном совещании. Да что там, все в этом мире случайно, просто надо уметь случайностями пользоваться и не упускать, коль скоро они подворачиваются под руку. Сейчас для Чеснокова знакомство с Бруновым, пожалуй, самое ценное, жизненно необходимое. Такое знакомство надо поддерживать и укреплять. Чего проще: поболтал о погоде, безобидный анекдотик подкинул, а к случаю и стопочку пропустить можно. Нет, что ни говори, а Чесноков себе цену знает.
Он встал из-за стола, потянулся, размял замлевшие от долгого сидения ноги и сладко зевнул. Хорошо, черт побери, жить на белом свете. И интересно.
В дверь постучали, и на пороге появился Тимофей Лапицкий. Вот кого не ожидал увидеть Чесноков: он удивился поначалу, потом радушно раскинул руки и просиял:
– Какими судьбами? Рад, рад видеть! Ну, здравствуйте, проходите, дорогой. – Чесноков потряс руку Лапицкого и усадил его на стул. – Давненько я вас не видел, давненько. По делам или по старой памяти зашли? По делам, по делам, вижу.
– Кто сейчас по знакомым ходит? – улыбнулся Лапицкий. – Не до этого, Илья Казимирович. Работы – под завязку. – Он снял свой поношенный серый картуз, пригладил волосы. – Вот, за помощью к вам, в районо пороги оббил – без толку. Усадьбу-то детдомовскую у нас отнимаете, а на школу – ни гроша.
– Надо детдом открывать, ничего не поделаешь, Тимофей Антипович. Сирот девать некуда, сами знаете.
– Знать-то я знаю. А наших детей куда? В Зябровку за десять верст не пошлешь. Да и там классы переполнены.
– Да-да, без школы вам никак. Что же они там, в районо, думают?
– Послали к вам. Говорят, облоно забирает, облоно пусть и дает. Колхоз помочь не может, сами пупок надрывают.
Чесноков поиграл пальцами по краю стола, хмыкнул. Хорошенькое дело – подтягивать хвосты за районо. Взяли моду свои заботы переваливать на чужие плечи. Он поглядел на озабоченное худое лицо учителя, на темные впадины под глазами и пожалел этого честного, даже наивного в своей честности человека, о котором всегда думал с уважением и некоторой долей иронии: «Тянет лямку мужик».
– Ладно, Тимофей Антипович, обсудим это дело, лето еще впереди. – Он улыбнулся располагающе, как умел это делать в любой момент, при любых обстоятельствах. – Вы о себе-то расскажите, а то с порога и за горло: давай школу! Как там ваша Метелица, жизнь как? Старик еще топает, не сдал? Крепкий дед, помню. А вы сдали, сдали, седина-то как высыпала.
– Чего рассказывать… – Лапицкнй вздохнул, взял зачем-то свой картуз, помял в руках и положил обратно на соседний стул. – Сначала договоримся, Илья Казимирович. Лето уйдет на строительство, мне сейчас нужны средства, потом будет поздно. Так что давайте сразу решим.
Чесноков весело рассмеялся:
– Да будет вам школа! – Он тут же принял серьезный вид и добавил: – Голодать станем, а детей будем учить. Тяжело, слов нет, все отдаем фронту. Но помяните мое слово: никакая война, никакой мор не помешает нашему делу. – Он почувствовал, что говорит с пафосом, и улыбнулся по-домашнему. – Ну, давайте о себе.
Получив заверение насчет школы, Лапицкий успокоился, расслабясь, откинулся на спинку стула, и лицо его подобрело.
– Да живем, Илья Казимирович, как и все. Метелицу спалили, вы, наверное, знаете. Батя мой еще крепится. Вы знали Маковского, председателя нашего, потом – командира отряда? Погиб он при нападении на липовскую комендатуру.
– Вы держали с ним связь? – спросил Чесноков с интересом.
– Да, связь с отрядом была. Помните коменданта Штубе?
– Как же, помню.
– Нашел-таки свой конец, сволочь! Поздновато, правда, успел натворить. Те дети, у которых кровь брали…
– Да-да, что же с ними, как они? – спохватился Чесноков, досадуя, что не он первый вспомнил о детях. Ведь с этого вопроса и надо было начинать. Но Лапицкий, кажется, не заметил его забывчивости.
– Плохи они, Илья Казимирович. С виду как будто все хорошо, но бывают странности: неожиданное помутнение и потеря памяти. А потом опять нормально. Я расспрашивал их, как это происходило, и, знаете, мне кажется, у них не только кровь брали.
– Неужели? А что же?
– Делали им какие-то уколы. Подозреваю – прививки. Экспериментировали… – Лапицкий скрипнул зубами и умолк. Лицо его сделалось землистым и каким-то уродливо-страшным.
– Фашисты проклятые! – выругался Чесноков, чтобы хоть как-нибудь поддержать и успокоить Лапицкого.
– Теперь я даже убежден, что они проводили какие-то эксперименты, – продолжал Лапицкий сухо и отрывисто. – Штубе проговорился, точнее, говорил, но я тогда не понял и не придал значения его словам. Болтал, как обычно, о цивилизации, о прогрессе, но вот врезалось: «Детей мы использовали в высших целях научной медицины», еще и повторил: «Ничего страшного не произошло – простой медицинский эксперимент, какие проводят в любой клинике». Я думал, заговаривает зубы, а он даже не находил нужным скрывать своих дел. Теперь все ясно и… жутко. Знаете, иногда до того жутко – волосы на голове шевелятся.
Рассказ Лапицкого озадачил Чеснокова. Он слушал надорванный, с хрипотцой, голос учителя, думал о детях – что для них можно сделать, но почему-то неотступно вертелась мысль о Маковском, об отряде. Он еще не понимал, зачем ему партизанский отряд, но эта мысль мешала по-настоящему глубоко воспринимать страшный рассказ о немецких экспериментах над детьми.
– С ними надо что-то делать, – заговорил Чесноков. – Показать врачам, непременно. Я займусь этим, дожидаться конца войны нельзя. – Он привычно постучал подушечками пальцев по столу. – Те дети сироты?
– Шестеро из них. Трое метелицких.
– Надо устроить.
– И не думайте, Илья Казимирович. Они уже прижились в новых семьях. Бабы не отдадут их – усыновят. Я спрашивал.
– Но – к врачам непременно.
Лапицкий задвигался, взял картуз, словно собрался уходить.
– Вы что, уходите? – заторопился Чесноков. – Не отпущу, не отпущу, Тимофей Антипович. Мы еще и не поговорили толком. Так при каких обстоятельствах, вы говорите, погиб Маковский?
– Маковский? – переспросил Лапицкий задумчиво. – Да тогда же, при нападении на комендатуру, когда и Штубе прикончили. Понимаете, у них оплошка вышла. Даже не оплошка – просто не повезло. Перед налетом на гарнизон в Липовку прибыл карательный отряд Гартмана, о чем они и подозревать не могли. Знаете этого вешателя? Он здесь, в Гомеле, был.
– Знаю, знаю, – охотно отозвался Чесноков.
– О карателях я узнал только вечером, сразу же послал отца в отряд предупредить. Да поздно. Вот они и напоролись. Отряд уцелел, в ту же ночь ушел из своих лесов и соединился с отрядом Кравченко. Об этом отряде вы должны знать.
– Да-да, Кравченко в чечерских лесах действовал.
– Да нет. – Лапицкий взглянул на Чеснокова, и тот понял, что допустил ошибку. – Насколько мне известно, Кравченко был под Добрушем.
– Вполне возможно, – ответил Чесноков с невозмутимой улыбкой и ругнул себя: «Простофиля!» – Отряды ведь не стояли на месте, все время петляли по лесам, потому-то и были неуловимы.
В ту же минуту он понял, почему заинтересовался Маковским, отрядом и вместе с ними самим Лапицким. Ведь через этого сельского учителя он сможет узнать о действиях партизан, названия отрядов, имена командиров гораздо точнее и обстоятельней, чем от других, которые и сами-то знают понаслышке. А такие знания сейчас для Чеснокова – капитал. Хоть недвижимый, но капитал, который всегда сможет пригодиться. Нет, Лапицкого нельзя упускать, когда еще выпадет такой счастливый случай?
– А вы с кем держали связь, Илья Казимирович? – спросил неожиданно Лапицкий.
Этот вопрос на какое-то мгновение напугал Чеснокова и поставил в тупик. Но вместе с тем он понял, что Лапицкий, как и другие, верит в его связь с подпольем. Разубеждать Лапицкого сейчас уже поздно, да и стоит ли? Тогда учитель может замкнуться в себе и ничего не рассказать. Убеждать же его в чем-то несуществующем, обманывать Чесноков не может, это не в его правилах. Идеальный выход из любого положения, по его твердому убеждению, – держать людей в неведении: и не пятнаешь себя обманом, и оставляешь им возможность верить. Это вообще, а в данном случае так ли необходимы Чеснокову знания о партизанских делах? За них не купишь ни выпить, ни поесть, ни сережки для Машеньки. А с другой стороны, всякое знание – капитал, значит, выигрыш чистый. И только дурак может отказаться от выигрыша у неумелого банкомета.
– С вами, – отшутился Чесноков, оставляя за собой некую загадочность, и весело рассмеялся. – С вами, Тимофей Антипович! Вспомните-ка мой приезд в Метелицу. – Он снова озорно хохотнул. – Вот что, дорогой, не отужинать ли нам вместе? Времени сейчас… ого! Конец рабочего дня, пора и честь знать. Мне с вами очень серьезно поговорить надо.
– Нет, нет, Илья Казимирович, – заволновался Лапицкий. – Мой поезд скоро.
– Да что вам поезд? Завтра выходной, переночуете у меня. Зина будет рада, вспоминала вас. Вы мне во как нужны! Когда еще доведется встретиться? Так и быть, раскрою секрет, – перешел Чесноков на доверительный тон. – Я еще до войны немного пописывал…
– Знаем такой грешок за вами, – улыбнулся Лапицкий.
– Ну вот, тем более. Есть мечта написать о партизанах, обо всем движении партизанском. Да, фантазия, вы не смейтесь, но не дает покоя, хоть ты что с ней! О партизанах я знаю, как говорится, в целом, а для такого дела необходима конкретность, детали там, быт и прочее. Ну, поможете?
– Хорошее дело, Илья Казимирович. Но, может, в другой раз?
– Когда тот другой раз! – Чесноков уловил неуверенность учителя и решил настоять на своем во что бы то ни стало.
После долгих колебаний и отговорок Лапицкий сдался.
* * *
Дом Чеснокова находился в пятнадцати минутах ходьбы от облоно, на короткой уютной улочке с таким же мирным, домашним названием: Вишневая. Такие улочки обычно называют боковушками или тупичками: они образуют небольшие кварталы, которые есть в каждом городе и считаются лучшими, потому что находятся в самом центре и вместе с тем – тихие, как окраины, с частными бревенчатыми домами, отдельными двориками, пристройками, утопающими в зелени садов. Вишневая лежала между двумя главными улицами города – Советской и Комсомольской и была удобна тем, что от нее рукой подать к вокзалу, к торговому центру, к лучшему в Белоруссии парку имени Луначарского с древним дворцом над рекой, бывшим владением князя Румянцева, затем – Паскевича, затем – гомельских пионеров и школьников.
Сейчас дворец был разбит.
Разбит был и весь город.
Чесноков и Лапицкий шли по выщербленному тротуару, обходя груды не убранных еще глыб сцементированных кирпичей, переступая выбоины и рытвины на дороге, опасливо минуя провисшие, казалось, готовые рухнуть в любую минуту балконы домов. Весенние лужи пересохли, и в носу щекотало от невидимой, носимой слабым ветром кирпичной пыли, смешанной с пылью дорожной и с пылью золы, ощутимо пахнущей пепелищем.
Улица была безлюдна, и от этого безглазые дома, обугленные стены просматриваемых насквозь каркасов зданий, сломанные и опаленные деревья выглядели угрюмыми и устрашающими. Эти кирпичные скелеты, убегающие по обеим сторонам в даль улицы, казались двумя рядами колючей заградительной проволоки, образующей длинный коридор. Весь же город походил на разоренное и покинутое птицами гнездо, остатки которого беспорядочно торчат то стебельком сухой травы, то сучком, то изогнутым перышком, когда-то теплым, бархатно-нежным, невесомым, теперь же – отяжелевшим от слипшейся грязи, сырым и уродливым.
Но город жил. Где-то за углом ворчала машина, слабо доносились голоса людей, клубился дым из трубы хлебозавода, слышалось мяуканье одичавшей кошки, полуобгорелые деревья зеленели то одним боком, то верхушкой, то чудом ожившей веточкой, из-под камней, из пробоин асфальта тянулась к солнечному свету трава, и не было такой силы, не было такого огня, который бы смог испепелить ее навечно, не дав возродиться. Изрытая бомбами, изрезанная саперными лопатами, прижатая каменными громадами домов, окованная булыжником и асфальтом, земля продолжала жить, поить своими соками растения, вселять веру в людей.
– Опустел город, – проговорил Лапицкий. – Людей совсем нет.
– Въезд ограничен, – ответил Чесноков и, заметив вопрос в глазах учителя, уточнил: – Кормить нечем, жить негде. Принимают только трудоспособных. Надо восстанавливать заводы в первую очередь. Война-то еще не окончена.
– Не окончена, – как эхо, отозвался учитель, припадая на свою культю.
С центральной улицы свернули в боковушку и очутились как на острове в весенний паводок. Пять-шесть уцелевших домиков утопали в зелени и после вида растерзанного города казались сказочным уголком.
Чесноков заранее знал, что такой контраст удивит учителя. Просто не может не удивить. Он и сам, привыкший к этой картине, часто останавливался, свернув на Вишневую, и всякий раз задавал вопрос: «Чем же ты отличился перед судьбой, Чесноков? Почему тебе так везет?» – и его охватывала смутная тревога. Он понимал, что всю жизнь везти не может, когда-никогда покарает судьба и чем ему живется легче сейчас, тем тяжелее будет после.
Лапицкий остановился от неожиданности и стал озираться.
– Повезло, Тимофей Антипович, – улыбнулся Чесноков. – Везучий я, просто страшно за такое везение. Ну, проходите в мою хибару. – И он открыл перед учителем калитку.
Жена Чеснокова Зинаида Дмитриевна встретила гостя радушной улыбкой и после приветствий и нескольких необходимых в таких случаях слов заторопилась в кухню, а Чесноков провел Лапицкого в зал и, усадив на диван, без лишних предисловий повел разговор о жизни в оккупации.
– Вы, Тимофей Антипович, о себе, о своих связях – это более достоверно.
Лапицкий подробно рассказывал о работе в детдоме, нужной и для деревни, и для отряда, о связи с Маковским, с Любой и об их гибели, о действиях и лесной жизни партизан, а Чесноков слушал и время от времени задавал себе вопрос: «Зачем я все это выспрашиваю?» Он видел в своем любопытстве что-то грязное, нехорошее, но чувствовал: надо, жизненно необходимо, и подавлял в себе просыпающийся стыд, неуместный сейчас, как ему казалось, по-детски наивный.
«Учись жить, Илья! – твердил ему с детства отец, бывший чиновник земской управы, а после революции – счетовод товарной конторы при железной дороге. – Человек – тварь злая, завистливая, ехидная, и человек же – высшее творение природы, одаренное гением разума, состраданием к себе подобным. Пойми два эти конца и умей пользоваться ими. Думай, Илья, думай и живи головой – не сердцем. Сердце – враг твой, разум – благодетель». Чесноков посмеивался над покойным родителем своим, потому что понял другое: человек просто слаб, даже самый сильный – слаб. И злость – его слабость, и доброта – слабость, важно понять, что в ком есть. Неуязвимых же не бывает. Но Чесноков понимал, что и он, как все остальные, уязвим. Отца же своего не любил в детстве за скрупулезность и фанатичный педантизм, в зрелом возрасте – за потаенную злобу ко всем окружающим: к сильным – злобу завистливую, к слабым – презрительную. А люди ведь заслуживают жалости и снисхождения к себе так же, как и он, Илья Казимирович Чесноков. И если он сделал кому-то недоброе, то исключительно по необходимости, чтобы отвести это недоброе от себя, и всегда жалел того человека, кому вынужден был причинять неприятности.
И сейчас Чеснокову было немного жалко Лапицкого за то, что обманывает его, использует в своих целях. Но жалость – жалостью, а необходимость – необходимостью. Эти два понятия он разграничивал четко и действовал сообразно своему пониманию жизни.
Зинаида Дмитриевна сновала между кухней и залом, хлопотала у стола и, как показалось Чеснокову, слишком усердствовала: выставила перед гостем все свои не по времени богатые запасы. Это ему не понравилось – не из скупости – единственно из обостренного, подсознательного чувства самосохранения. Жена старается угодить гостю, показать свое хлебосольство, и ничего плохого в том нет, однако зачем давать Лапицкому повод для размышлений: откуда в голодном городе такая еда? Во всяком случае, колбасу и тушенку могла бы не подавать.
Он извинился перед учителем и вышел на кухню.
– Зинуля, зачем такой стол? Неудобно.
Жена поглядела удивленно и пожала плечами:
– Не понимаю. Я хотела как лучше. Неудобно будет, если не угостим.
– Вечно ты чего-то не понимаешь! – проворчал он. – Ты прикинула, что он может подумать? В голодное-то время…
– Да что мы, украли? – чистосердечно удивилась жена. – Чем богаты…
– Ай! – отмахнулся Чесноков с досадой – бабе разве втолкуешь? – и вернулся к Лапицкому.
– Ну, Тимофей Антипович, сейчас мы гульнем, – уже весело, потирая руки и заговорщицки подмигивая учителю. – Зинуля, мы на старте! Ждем… Значит, все погибли, Тимофей Антипович? Все, кто знал о вашей настоящей работе?
– Я этого не сказал, – возразил Лапицкий. – Савелий жив, отец, сестра.
– Ах да, Савелий. Это муж вашей сестры? Где он, на фронте? Вот с кем поговорить! Так сказать, с живым партизаном. Знаете, я убежден, что партизанское движение и подполье оценят по заслугам. Сейчас мы еще до конца не осознаем их значения. Это и понятно, нужна дистанция времени.
Жена закончила свои дела на кухне, и они сели за стол. Чеснокова потянуло на откровенность. В разумных пределах, конечно. До конца он не был откровенным никогда и ни с кем, даже с самим собой, считая такую откровенность непростительной слабостью. Человек только потому и человек, думалось Чеснокову, только тем и силен, что умеет скрывать свои слабости.
– Понимаете, Тимофей Антипович, – рассуждал он, – никак не могу избавиться от чувства своей неполноценности и какой-то вины. Нет, нет, я осознаю, что мы необходимы именно здесь, делаем свое дело, большое, нужное дело, и все же… Когда представлю, что где-то люди стоят лицом к лицу со смертью, моя нужность отходит на задний план. Это не самоуничижение – так оно и есть. Мы отдаем силы, здоровье – все что угодно, только не жизнь. Жизнь мы оставляем себе, самое последнее, самое ценное для нас. А они и это последнее отдают. Какое еще дело может сравниться с их делом? Нету его! В общем-то геройского во мне мало, трусишка изрядный, но я просился на фронт. Несколько раз просился. Без толку, не отпускают.
Чесноков не врал, он действительно просился на фронт, понимая, что должен, обязан это сделать. Но всякий раз ему отказывали, и он испытывал облегчение после отказа. Старался скрыть это чувство облегчения, убеждал самого себя и окружающих в том, что могут принять заявление и отправить на фронт, хотя всякий же раз глубоко в сознании, отдаленно, смутно, но, как правило, наверняка, знал, что не отпустят. Так и получалось. Был ли он виноват в том, что чувство самосохранения в нем сильнее чувства долга? Просто хотелось жить. Такова натура, такова природа его, а против природы, по твердому убеждению Чеснокова, человек бессилен.
– Не отпускают, хоть ты что с ними! Ну да ладно, стерпим. Время военное, обязаны подчиняться приказам. Видимо, в том наш долг на сегодня. Раз уж так получается, будем тыловиками. Ничего не попишешь, жить-то надо, Тимофей Антипович.
– Да, да, вы правы, Илья Казимирович. Сложное время, особенно в оккупации было, – отозвался Лапицкий задумчиво. – Жить надо, только смотря как.
– Как можно лучше! – Чесноков весело рассмеялся и продолжал своим обычным тоном – полушутя-полусерьезно: – Как можно лучше, дорогой вы мой! В том истинный смысл жизни. Надо быть оптимистом в любых условиях и не усложнять сложное. Я лично не из тех, кто создает трудности, потом с доблестью их преодолевает. Лучше без трудностей этих. Я имею в виду, искусственных, зависящих от нас самих. А, Зинуля, правильно я говорю?
– Куда от них денешься? – вздохнула Зинаида Дмитриевна. – И стоит ли уходить?
– Это точно, не уйдешь, – подхватил Чесноков. – Однако уходить нужно. Во всяком случае, стоит пытаться это делать. Вы меня понимаете, Тимофей Антипович? Я не в смысле «увиливать», а в смысле «избегать». Иначе все мы зайдем в тупик. Сами себя туда заведем.
Говорили в этот вечер допоздна. Чесноков ощущал потребность выговориться, пусть не до конца, но – свободно, раскованно. Это он называл «размагнититься», отдохнуть от повседневного напряжения, когда контролируешь каждое слово, поступок, ведешь только деловые, только конкретные разговоры. Это ограничивающее «только» утомляло.
Но с Лапицким он не чувствовал желаемой раскованности. Видел настороженность учителя, скрываемое недовольство, замечал внутреннюю борьбу у Лапицкого, словно тот в чем-то раскаивается. Это в свою очередь настораживало, наводило на вопрос: «Что у него в голове? Почему недоверчивый?» И хотя Лапицкий ни единым словом не показал своего недовольства, Чесноков с его умением понимать людей не мог не заметить состояния учителя. Он только сейчас понял: этот деревенский учитель гораздо умнее, чем кажется с виду, и его простодушная «наивность» вовсе не наивность, а нечто иное. Может быть, углубленное понимание людей и жизни? Может быть, тонкое ощущение человеческих слабостей и молчаливое, снисходительное прощение их? Может быть?.. Все могло быть. Но Чесноков не знал, что именно, и оттого становилось неспокойно.








