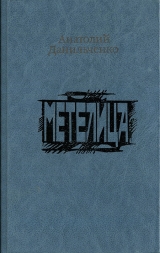
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц)

Анатолий Данильченко
МЕТЕЛИЦА
Роман

Москва
«Современник»
1988
© Издательство «Современник», 1988.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Редкое безветрие на Лысом холме радует людей, как праздник. Можно передохнуть от серой дорожной пыли, что клубится вихрем над землей знойными летними днями, перехватывая дыхание и застилая глаза, забиваясь в уши и за ворот сорочки; зимой – от бешеных метелей, снежных заносов, острого, как четырехзубые крестьянские вилы, северяка́. В спокойные дни люди добреют, становятся веселыми, и в осипших голосах их чувствуется мягкая приветливость; разговаривают тише обычного, словно боятся нарушить наступившую тишину.
Люди издавна осели на Лысом холме и назвали свой хуторок Метелицей. Нынче Метелица – небольшая деревня со школой, лавкой, колхозным двором в полверсте за околицей и детдомом по соседству, в лощине, заросшей сплошь садами и приземистыми вербами вдоль дороги. Прямо под холмом – болото с речушкой-канавой посередине и множество торфяных карьеров, заполненных черной водой, на другой стороне – колхозные поля и выгон версты на три, за которым темнеет лес; в двух верстах от Метелицы проходит нитка железной дороги, там же – станция и пристанционный поселок. Не богата Метелица ни землей, ни лесом, и люди в ней простые, не горделивые.
Августовское небо колыхалось полдневным маревом, а по ночам роняло крупные яркие звезды на уснувшие поля и огороды. Конец лета выдался на редкость погожим и безветренным. Но люди той тишины не замечали. Тревожно было в Метелице. И страшно. Трогаться с насиженных мест, бежать на восток или оставаться и ждать – так чего? В первую очередь эвакуируют город. Из деревни угнали только колхозный скот да увезли детдомовских.
До войны усвоили твердо: не уступим и пяди земли родной. Как же так получилось? Где наши? Где немцы? Ничего не поймешь. А может, остановят немчуру поганую, не пропустят? Говорят, на Березине дают им крепко. Должно быть, есть сила, коли мужиков не всех призвали…
Артемку Корташова эти заботы не касались – занимался строительством. Он сидел у плетня, широко расставив ноги, и старательно похлопывал ладонями по песчаной горке. Утрамбовав песок, ребром ладони срезал одну стенку горки, лишнее сгреб, стенку пригладил. Склонив голову на плечо, полюбовался своей работой. Хмыкнул довольно и принялся за вторую стенку, деловито и серьезно. Строить хату для солнышка – это не баловство, это – ого! А то что ж выходит: у него, у Артемки, хата есть, у коровы Зорьки – хлев, у свиньи – закуток в углу гумна, там же, под крышей, – нашест для кур с петухом Бойцом, у вислоухого Валета – будка добрячая под хлевом, кот живет на куске старого половика за печкой, а солнышко нигде не живет. Артемка это знает во как! Дед Антип так сказал: «Солнышко, Артемка, нигде не проживае. Нету у него хаты». А дед Антип знает все на свете.
Артемка отгладил последнюю стенку, ткнул в нее пальцем, покрутил – получилось окно. Спереди сделал квадратное углубление наподобие двери. Вот, кажется, и все. Встал, потоптался на месте и задумался. Чего-то не хватало. Окна есть, двери есть, дорожка к хате – тоже. Артемка засунул палец в рот, хрустнул песок на зубах, и он сердито сплюнул, проговорив точь-в-точь как дед Антип:
– Тьфу, пакость!
И вдруг улыбнулся: не хватало трубы. Отломил от плетня палочку, воткнул сверху и плюхнулся в песок на старое место. Надо бы огородить «хату», как у добрых мужиков, и палисадничек под окнами разбить.
Но тут на Артемку надвинулась тень, и широкая босая нога, наступив на «хату», развалила ее вчистую. Он испуганно вскочил. Перед ним стояла мать.
– А-а-а! – заревел Артемка, уже на весу барахтаясь в руках матери.
– Господи, вот он где! – причитала мать. – А я кричу, кричу… Чего молчал? Ремня на тебя нет!
– Хату солнышкову развалила! Хату развалила! – кричал он, отбиваясь от матери.
– Какую хату? Чего ты мелешь? Немцы под Липовкой!
Это известие не подействовало на Артемку.
– Не пойду-у!
– Цыц! – прикрикнула мать сердито, поставила его на землю и дала увесистого шлепка. – Марш к возу, лихоманка на тебя! Ах ты, горечко! – И кинулась к воротам.
Артемка притих. Что-то здесь не то, раз мать носится как угорелая да еще и шлепает ни за что ни про что. Все лето только и бубнят: немцы, немцы… Что там еще за немцы?
Возле ворот стоял воз, доверху заваленный узлами, корзинами, сундучками, мешками сухарей, и дядька Тимофей укладывал все это добро поплотней, ковыляя на своей культе. Рядом топталась Анютка, худющая – кожа да кости – девочка с большими серыми глазами, не просыхающими от слез. «Рева лупатая!» – дразнил ее Артемка, но часто бегал на дядькин двор. Жена дядьки Тимофея тетка Прося и мать выносили из хаты всякие пожитки, им помогала тетка Наталья – материна двоюродная сестра, дед Антип выводил со двора корову Зорьку с намотанной на рога веревкой.
– Ну, Зорька, хватит кобениться! – приговаривал дед сердито.
Он подвел корову к возу, привязал к заднику веревку, беспричинно шикнул, сплюнул в пыль и повернул во двор.
– Что это? – спросил Артемка у Анютки.
– Немцы, – пропищала Анютка и захлопала длинными ресницами, готовая в любую секунду зареветь.
Все суматошные, перепуганные, бегали, натыкаясь друг на друга. Дядька Тимофей и тот вертелся у воза юлой. А с его культей не накрутишься. У соседнего двора Довбня Захар с теткой Полиной тоже собирались. Только Розалия Семеновна полулежала на возу, кутаясь в теплую кофту и дрожа от озноба. Розалия Семеновна – учительница, работала вместе с дядькой Тимофеем, у него квартировала, потому что – городская, приехала недавно и хаты у нее не было. Теперь вот заболела не ко времени.
По всей деревне – крик. Пыль на улице поднялась столбом, расплывалась в небе лохматой шапкой. Возы тронулись по шляху в сторону леса. Там, за лесом, в обход болота, дед Антип говорил, город Гомель. Большой город – целых сто, а то и больше Метелиц.
И страшно стало Артемке от пыли в безветрие, от криков и беготни. Он подошел к деду и ухватился за его домотканую штанину.
– Деда, а куда мы?
– Война, Артемка. Пусти штанину.
– А чего это – война? – допытывался он, семеня за дедом по пятам.
– Эго – когда люди один другого убивают и жрать нечего. Не лазь под ногами.
– А чего убивают?
– Швыть на воз! – осерчал лед и ругнулся куда-то в сторону станции.
Непонятно говорил сегодня дед. И все какие-то непонятные. Война, немцы… Чего война? Что за немцы такие страшные?
С грехом пополам уложились. Мать сунула Артемке в руку сорочку, он натянул на себя и перестал сверкать голым пузом. Взобрался на воз, умостился на мягком оклунке рядом с Анюткой. Хромой дядька сел впереди, за вожжи. Захар Довбня уже отъехал, и тетка Полина кричала:
– Поспешай!
– Ну, с богом! – сказал дед Антип. – Пора. Бачь, люди уже на шляху.
– Батя, – заговорил дядька Тимофей, – может, поедем? Пропадешь ведь.
Голос дядьки мягкий, просящий. Щеки его дергались, и весь он как-то кривился, часто и с трудом глотая воздух.
– Не-не, сын. Решено. – Дед Антип повел рукой, подтверждая свое решение.
– Ну, батя… – К деду подошла мать Артемки со слезами на глазах. – Ну, чего тебе тут?
Она не выдержала и разрыдалась, уткнувшись в дедово плечо.
– Не береди, Ксюш. Не замай, – пробормотал дед и погладил ее по плечу.
– Не валяй дурака, батя, поехали! – уже твердым голосом сказал дядька Тимофей.
Дед Антип зашевелил носом, засопел громко и крикнул, притопывая ногой:
– Сказано, не поеду с дома свово! Вбито! Моя земля – тут зачался и кончусь тут! Все!
Дед Антип раскраснелся, сдвинул к переносице черные мохнатые брови и глядел сердито. В эту весну деду стукнуло шестьдесят девять годков. Бился дед за царя в двух войнах, бился за Советскую власть в одной войне и вернулся к родной земле белорусской. «Кровя родная к себе тянет, – говорит обычно дед. – Много хоромов понастроено, а свой дом лучше всех». Трое сыновей было у деда и одна дочка. Двое полегли в гражданскую: один – в степях донецких, второй – за Уралом, в боях с Колчаком, третий, Тимофей Антипович, – учитель школьный, сидит сейчас на возу, держит вожжи. Дочка – самая младшая, запоздалое дите, – Артемкина мать. Внук Артемка у деда да внучка Анютка – вот и все, кто остался от дедова семейства. Бабка Акулина последние годы болела нутром, так и слегла, не дождавшись внуков, в тридцать шестом отнесли на кладбище.
Дед Антип еще своими зубами колет орехи, плечи у него широкие, но костлявые, задубелые руки с длинными потресканными пальцами рвут веревку с карандаш толщиной, как соломину. Может, оттого и крепкий дед, что худой? Борода у него редкая, торчит, как трава после покоса, из ноздрей выпирают пучки черных волос, да таких, что впору вязать силки для птиц. Походка у деда твердая и размашистая, не уступишь дорогу – сшибет плечом.
– Не волнуйтесь, – продолжал дед спокойнее. – Бог даст – сбачимся. Долго ему тут не засидеться, проклятому. Малых доглядайте, а я сдюжу. Не бойся ворога, когда наступает, тогда он сытый, волчара, не тронет, бойся, когда побегить. Ну, с богом!
Дед подошел к возу, чмокнул в лоб Анютку, кольнул бородой Артемку, обнял всех по очереди. Тимофей крутнул в воздухе вожжой, цокнул языком, и воз тронулся. Пригнув рога от натянутой веревки, замычав надсадно, следом двинулась корова Зорька. А дед Антип с вислоухим Валетом остался стоять у раскрытых ворот.
* * *
За возами не видать дороги. Казалось, вся деревня поднялась разом и двинула цыганским табором на восток. Торопились, понукивали коней. Бабы причитали, как на похоронах, ревела детвора, мычали коровы. Обоз тянулся по улице мимо коренастых верб, знакомых дворов, мимо белых столбов, еще не успевших просохнуть, пахнущих смолой. С апреля начали их ставить от самой станции, да не успели довести до конца деревни, не успели навесить провода, как в станционном поселке. К зиме обещали подключить электричество. Теперь, видать, не жди.
Пыль над шляхом поднималась густая и горячая, долго висела в воздухе неподвижно, заслоняя солнце туманной пеленой. Страшная, слепящая пыль безветрия.
За деревней, на спуске с Лысого холма, Тимофей догнал Лазаря, недотепу-мужика, двоюродного брата Артемкиного отца, и Захара. Захарова жена Полина и Прося – родные сестры из семьи Трусевичей, липовские, в Метелице часто бегали друг к дружке, но мужики их особого родства не вели, Тимофей – учитель, человек грамотный, а главное, непьющий, Захар же мужик жуликоватый и пропойца несусветный. Какое тут родство? Жили они на разных концах деревни: Тимофей – в новой хате подле школы, Захар – рядом с Корташовыми. Зато Артемку с Захаровым сыном Максимкой, соседом-одногодком, водой не разольешь.
Артемка заметил на возу Максимку, ощерился, показав молочные, гиблые, как говорил дед Антип, зубы, замахал рукой и крикнул:
– Максимка!
Рыжий Максимка крутнул головой и отозвался:
– Артемка!
На этом их разговор закончился. Оба уселись поудобней на своих возах, оглядываясь по сторонам. На выгоне пыли не было, сколько видит глаз, стлалась желто-зеленая, иссушенная зноем трава. Вдали темнел лес, куда и торопились сельчане.
Анютка как разревелась при отъезде, так и всхлипывала до сих пор.
– Чего хныкаешь? – Артемка толкнул ее локтем. – Рева лупатая!
– Деда жалко, – пискнула Анютка и размазала грязь по щекам.
– Га! Дед знаешь какой сильный! Он им всыпет!
– Всыпет? – Она перестала плакать.
– А то не? И батя всыпет!
– А где твой папка?
– На хронте! – важно ответил Артемка.
Подошел председатель колхоза Маковский и положил руку на ребрину воза рядом с рукой Розалии Семеновны. Она отдернула руку, но Маковский улыбнулся и накрыл тонкие длинные пальцы своей объемистой ладонью, спрятав от посторонних глаз срезанный наполовину уродливый палец Розалии Семеновны. Мизинца она лишилась уже здесь, в Метелице: прошлой осенью шинковала капусту и ненароком напоролась на косой нож шинковки. С тех пор и стыдилась своего мизинца. Вообще чудная Розалия Семеновна, не похожа на деревенских баб. Приехала в Метелицу: ногти накрашены, косы обрезаны, юбка в обтяжку – сразу не понравилась сельчанам. «Фуфыра городская», – прозвали ее поначалу и воротили носы в знак неуважения. Розалия Семеновна была тихая, застенчивая, глядела на всех большими черными глазами и на откровенную неприязнь метелицких баб отвечала кроткой улыбкой. Вскоре ее прозвали «блаженной» и стали относиться мягче, а когда узнали, что она сирота, и вовсе оттаяли бабьи сердца. Первая с ней подружилась Любка Павленко, дети гужом ходили за своей Розалией Семеновной, и сельчане незаметно для себя полюбили молодую учительницу, хотя она и не думала подделываться под деревенские вкусы – ходила все в той же юбке в обтяжку и красила ногти. Бабы метелицкие полюбили! О мужиках и говорить не приходится, даже у самого председателя Маковского от нее, как говорил дед Антип, «голова ходуном».
Воз Тимофея обступили мужики. Все шли пешком, ехали только дети, больная Розалия Семеновна да одноногий учитель. Мужики хмурые, озабоченные.
– Куда ж мы теперича? – спросил Захар Довбня, глядя мимо дядьки Тимофея. Он всегда глядел мимо дядьки, показывая свой гонор перед ним.
– Пока что – к Добрушу, а там – на восток. Под Добрушем они засядут, – рассуждал дядька Тимофей. – Как ты считаешь, Григорий Иванович?
– Должны забуксовать. – Маковский покрутил свой пепельный ус. – Только б успеть…
– Што – успеть? – спросил дядька Лазарь.
– Не свернул бы на Метелицу, – продолжал Маковский.
– Што, немец – дурак? Через лес не сунется, – затараторил Лазарь тонким, бабьим голосом. – Пока в Липовке осядет, а там по главному шляху и попрёть. Надо ему наша Метелица. Пока туды-сюды – мы до Добруша докатим, а там он забуксует.
– Не балабонь! – оборвал Лазаря Захар.
– А я што? Я так… – Дядька Лазарь виновато умолк.
Председатель Маковский склонился к возу, голова его в сером картузе замаячила перед глазами Артемки. Одет Маковский необычно: в старых галифе и сапогах, в летнике, перетянутом сверху широким кожаным ремнем с дырочками в два ряда; на ремне диковинная сумка, внутри которой, насколько знает Артемка, наган, всамделишный, весь из железа. Вот и сейчас из сумки виднелась круглая рукоятка с блестящим колечком посередине. Вот бы поглядеть этот наган! Но попросить председателя, чтобы показал, у Артемки духу не хватало.
– Ты здесь, Тимофей Антипович, за старшого остаешься, – проговорил Маковский тихо. – Я с ополченцами сверну…
Он долго и внимательно поглядел на дядьку Тимофея, тот молча кивнул и похлопал вожжами по конской спине.
– Григорий Иванович, а как же я? – заволновалась учительница и повернулась к нему.
– Все будет хорошо, Розалия Семеновна. Пока что с Тимофеем Антиповичем… – Он склонился еще ниже и проговорил совсем тихо: – Ты не беспокойся, выздоравливай. Выздоравливай, голубушка!
Розалия Семеновна покраснела еще больше и опустила ресницы.
Подкатил дядька Лазарь, как гусак, вытянув длинную шею.
– Куды? Што? Григорий Иванович, а мы как же? Вместях надо, вместях зручней. Негоже…
– Лазарь! – прикрикнул дядька Тимофей.
– А как же, Антипович? Вместях надо. Вместях…
Артемке надоело коситься на наган – все равно председатель не покажет. Стал глядеть на приближающийся лес, куда они с дедом Антипом и Максимкой ходили по ягоды в начале лета. Красные ягоды, вкусные, на полянке растут. Может, и сейчас возы остановятся? Артемка хоть жменьку да успеет насобирать.
Немного погодя возы начали въезжать в лес и скрываться в нем, как в темном коридоре. Был воз – нырнул в чащу – и нет его, только слышался скрип не смазанных впопыхах колес.
Едва тень первой сосны прикрыла Артемку, только он хотел спросить у матери насчет ягод, как с хвоста в голову обоза прокатился гул людских голосов. Над Метелицей и на выходе из деревни темной полосой поднялась пыль. Послышалось отдаленное тарахтение и несколько рыкающих выстрелов: д-ррр, д-ррр!
– Мациклетчики! – взвизгнул дядька Лазарь.
– Немцы! – поддержал его бабий голос.
И понеслось:
– Господи, когда успели?
– Что ж то буди-ить?!
– Ой, горечко-о-о!
Запричитали бабы, заголосили что есть мочи. Кто-то кинулся за куст, потом обратно к возу, кто-то свернул в лес, кто-то кричал «но-о-о!», кто-то «тррр!». Мужики зашикали на баб – не время причитать.
Анютка тут же раскрыла рот:
– А-а-а!..
– Цыц! – прикрикнул Артемка по-мужски, но сам поглубже втиснулся между оклунками.
Подбежал Маковский.
– Чего я и боялся, – заговорил он торопливо. – Быстрый, гад! Как снег на голову… Что же, не успели, Тимофей Антипович, придется поворачивать. Ах, черт! – Он скрипнул зубами.
– Я – с вами. – Дядька Тимофей соскочил с воза, оступился и чуть было не упал.
– Нет, Тимофей Антипович, – сказал Маковский. – Не успеешь за нами. И потом… в деревне ты нужней. Я скоро дам знать.
Он взял дядьку Тимофея за плечо, потряс, потом быстро склонился над Розалией Семеновной, чмокнул ее в губы, потом отскочил метра на два, взмахнул рукой, закричал: «Скоре-ей!» – и нырнул в лес. Все ополченцы разом отвалили от возов и скрылись за деревьями.
– Гриша!.. – простонала Розалия Семеновна и откинулась на мешки.
Захар Довбня с минуту постоял около своих, оглядываясь по сторонам, и неожиданно выругался. Он схватил с воза Максимку, торкнул губами куда-то в лицо, посадил на место, торопливо обнял заголосившую тетку Полину и кинулся вслед за мужиками.
– Штой-то, Антипович? Штой-то? – повторял дядька Лазарь, неловко разводя руками.
Немцы догнали обоз. Несколько мотоциклов с колясками проскочили вперед, треском и дымом отпугивая скотину. Люди шарахались в стороны, тесней прижимались к своим возам. Разнеслась по лесу незнакомая речь, непонятные отрывистые выкрики. Мотоциклы остановились вдоль обоза.
Артемка прижался к материному плечу и глядел на немцев, о которых целое лето шумели в деревне, на их диковинные черные «мациклеты» на трех колесах и такие же черные винтовки с короткими дулами.
– Чего это? – спросил он у матери.
– Тише, сынок, автоматы.
Автоматы эти почище председателева нагана, а про мотоциклы и говорить не приходится. Артемка таких и не видел. Машину полуторку видел, веялку на колхозном дворе видел, даже паровоз на станции видел, а мотоцикла – нет.
Один немец, длинный и носатый, как цапля, крикнул что-то непонятное, остальные попрыгали с мотоциклов, схватили автоматы и устроили такую трескотню по лесу – хоть уши затыкай. Полетела по сторонам кора деревьев, закружилась, как осенью, листва. Анютка завизжала с перепугу.
– Не пищи под ухом! – попытался унять ее Артемка. Ему было интересно поглядеть, как немцы воюют. Страшно, а интересно.
«Навоевавшись», немцы начали выкрикивать что-то по-своему, указывая назад, на Метелицу.
Здоровый немец с закатанными рукавами топтался около Артемкиного воза.
– Рус – лодарь! – кричал он, показывая в улыбке большие белые зубы. – Лес – не корошо. – Он подбежал к возу, поглядел веселыми глазами на Анютку, Артемку, надул щеки что есть мочи, ткнул в них пальцами – получилось «п-ш-ш-ш», да так, что брызгами полетели слюни, и опять рассмеялся.
Подбежал носатый и начал что-то строго говорить веселому немцу. Тот вытянулся по струнке и сделал виноватое лицо. Покалякав минуты две, носатый указал в сторону мотоциклов.
Веселый немец кинулся к своему мотоциклу, а носатый строго глянул на баб, на дядьку Тимофея и зашагал на своих ногах-жердинах в голову обоза.
– Чего он ему, Тимофей? – спросила мать.
– Ругал, – ответил дядька Тимофей. – Говорит: «Ты позоришь мундир немецкого солдата». Ну, и все такое, мол, нельзя ни озлоблять, ни заигрывать с местным населением. Хозяин, говорит, должен быть строгим и заботливым… Хозяин!.. – дядька Тимофей проворчал что-то себе под нос и умолк.
Немцы проехали дальше по лесному шляху. Возы с шумом, треском развернулись и понуро покатили назад, в деревню.
2
Ворота закрывались с протяжным надсадным скрипом. Антип Никанорович подумал, что надо бы смазать, негоже петлям ржаветь. Пересек двор, отыскал под навесом жестянку с тавотом, взял в руку и задумался, уставясь невидящими глазами в березовые поленья у стенки гумна. В закутке захрюкала свинья, взвизгнула требовательно, почуяв хозяина. Антип Никанорович поставил банку на прежнее место, подошел к закутку. В щель просунулся шумно сопящий свиной пятак.
– Эк ты ее, прорва ненасытная! – проворчал он. – На-к, почавкай.
Он согнулся, взял пучок свекольной ботвы и кинул через загородку в продолговатое, отполированное свиньей корыто. Свинья торопливо зачавкала. Антип Никанорович крякнул, тяжело вздохнул и направился в хату. В сенцах взял две жмени зерна из решета, вышел на крыльцо и сыпнул на утрамбованную землю. Куры во главе с петухом тут же начали клевать. Любуясь петухом, он опустился на ступеньку крыльца и просидел минут десять, пока не почуял надобность сходить до ветру. Загородка находилась в углу сада, под сараем, и Антип Никанорович посунулся вдоль плетня к низенькой калитке. На плетне донышками к небу торчало несколько глиняных желтых кувшинов. Тут же он заметил и сохнущие Артемкины сатиновые трусики.
– Забыла Ксюша, – проговорил Антип Никанорович с досадой.
И такая вдруг тоска сдавила сердце, такая пустота и боль охватила все нутро, что он привалился к плетню и застонал. Судьба треклятая, и когда ты выпустишь человека из своих когтей, когда перестанешь выкручивать его, как постиранное белье, выжимая последние соки? Не одно, так другое, а все неладно. Мыслил Антип Никанорович дожить остаток дней своих в счастии и покое, ан нет. Новое горе навалилось на стонущие к непогоде стариковские плечи. Куда от него уйдешь? Куда спрячешься? А не сплошал ли по стариковскому разуму он, что расстался с родными – кровь от крови – людьми? Еще больней сжалось в груди, еще тоскливей заныло под ложечкой… Нет, не сплошал, однако. С земли родной уходить в такие-то годы негоже: не ровен час – настигнет косая, и сохнуть тогда дедовым костям в чужих краях. Нет, не сплошал. Ведь кровь его, Антипа Никаноровича, замешена на соках этой земли, от них он зачался, возрос из них и детей своих зачал с их помощью, благодаря им. Так неужто уйдет он мыкать горе по белу свету, спать на чужих полатях, прятаться от непогоды под чьей-то крышей, под которой не упала ни одна капля его пота!
В хате ему не сиделось, за какое дело ни брался – все валилось из рук. Вышел на улицу, умостился на скамейке у палисадника, в тени сиреневого куста. Метелица вымерла. Не шумела малышня, не скрипели привычно колеса возов, не слышно было ни бабьей перебранки, ни пьяной песни загулявшего мужика. Тоска.
Взбитая беженцами пыль опустилась на землю и лежала теперь на шляху, тяжелая и серая. Вербы застыли в полуденном зное, уныло свесив чуть пожелтевшие, начинающие усыхать ленточки листвы. Изредка проплывала паутинка и цеплялась за верхушку дерева, белые столбы торчали из земли, как незажженные свечи вокруг покойника в скорбно притихшей хате.
Послышался легкий шорох, и Антип Никанорович увидел, как с крыши Лазаревой хаты поднялись три аиста и плавно полетели в сторону болота, вытянув свои длинные тонкие ноги. Через минуту они превратились в три белые точки на синем небе и скрылись за соломенной крышей. Антип Никанорович протяжно вздохнул и подвинулся на лавочке, будто уступая кому-то место. Из подворотни вылез Валет, потерся боком о дедово колено и улегся у ног.
Антип Никанорович знал, что в деревне остались многие, но удивился, когда увидел Гаврилку во дворе, наискосок через улицу. Голь перекатная, беспутный мужик Гаврилка не подался с беженцами? Ему-то, кажись, нету никакого резону сидеть в деревне: в гумне – покати шаром, за душой – и того меньше. Он и землю-то не пашет, а ковыряет лениво, не ходит по ней, родимой, а пинает ногами, как падчерицу ненавистную. Или на чужих огородах поживиться надумал? С него станет.
Гаврилка заметил Антипа Никаноровича и направился к нему, цепляя пыль босыми ногами, как лопатой.
– И ты, Никанорович, значить… – сказал Гаврилка, подойдя и радушно улыбаясь.
– Значить, – буркнул Антип Никанорович.
Обменялись словами – вроде и поздоровались.
– А своих отправил? Я – не, куды им, бабам, сунуться, а?
Гаврилка подергал латаные штаны, плотно обтягивающие толстый зад и сходящиеся спереди на железной пуговице, потоптался на месте и осторожно опустился на край скамейки.
Антип Никанорович промолчал. Он не любил Гаврилку с давних пор. Гаврилка мужик хоть и незлобивый и безвредный, но последний лодырь и выпивоха. Шестьдесят третий год его зовут Гаврилкой, а беспутным, считай, годов сорок пять. Огород его вечно зарастает бурьяном до пояса, корова, сколько помнит Антип Никанорович, то яловой ходит, то – с выменем в два кулака, не больше, несколько кур снуют по грядкам, да и те несутся по великим праздникам. Всю жизнь только тем и промышляет Гаврилка, что варит лучший в деревне самогон. Оттого и не скучает его хата без гостей. Как ни пройди мимо Гаврилкиного двора – заливается мандолина, дым из окон столбом валит. Весело. Как тут уважать Антипу Никаноровичу этого мужика? И от гражданской увильнул Гаврилка – отсиделся за бабьей юбкой, и от колхоза отлынивает. Чертополох – не человек. Единственное достоинство Гаврилки и его бабы – плодовитость. Троих сыновей отправил на фронт, трое дочек определились своими семьями, две бегают еще в девках, а внуков – целый выводок, все мал мала меньше.
Старые счеты у Антипа Никаноровича с Гаврилкой. Старые, да не забытые. Когда-то Гаврилка довольно-таки крепко ухлестывал за покойницей Акулиной, а она вышла за Антипа Никаноровича. Гаврилка покрутил, повертел хвостом и сделал вид, что уступил девку по доброй воле.
Не дождавшись ответа, Гаврилка продолжал:
– Немец, он тоже небось человек. Проживем, Никанорович. Под царем было – куды-ы! А не скопытились. Птички ведь не сеют, не жнут, тоже живут. Мы ж, Никанорович, люди простые, не какие-нибудь председатели там али партейные. Нехай пужается хто командовал, а мы-то всю жизнь подчинялись. Чего нам пужаться? – Он пригнул голову и заглянул в лицо Антипа Никаноровича.
– А я и не пужаюсь! – ответил он сердито.
Разбирала злость на Гаврилку. Такая злость, что треснул бы по остаткам этих гнилых зубов, плюнул в масленые свиные глазки и ушел в сад, лег под яблоню на траву, прижался бы грудью к прохладной земле и лежал, лежал, ни о чем не думая, если бы смог не думать об ушедших бог знает куда детях. Тоска в сердце веет, как в поле перекатном ветер, и даже злостью не заглушить ее. Не хочется сидеть, разговаривать с этим человеком и вставать не хочется – ноги вялые, непослушные.
– Мы люди простые, – не умолкал Гаврилка. – Много нам потребно?
– Подчиняться привык? – не скрывая злости, спросил Антип Никанорович.
Гаврилка помолчал с минуту, потом улыбнулся, цокнул языком и ответил:
– Жизнь – баба, Никанорович, не пригладишь – повернется задницей. Истинный бог.
Он похлопал ладонями по своим коленям, погладил замасленные штанины, покряхтел и достал вышитый кисет. Не иначе Любка вышила, единственная комсомолка в обширном Гаврилкином роду, девка боевитая и с хлопцами обхождения строгого.
Колени Гаврилкины широко раздвинуты, освобождая место рыхлому животу, короткие толстые пальцы с рыжими, давно не стриженными ногтями медленно шевелились, скручивая цигарку, круглая большая голова с поблескивающей плешью на макушке пригнута и чуть повернута в сторону, отчего казалось, что Гаврилка вечно глядит как-то снизу вверх. Не глядит – заглядывает вопросительно и лукаво. Антипу Никаноровичу всегда неприятно становилось от этого взгляда и хотелось сказать: «Чего юлишь, что мусолишь в своем курином мозгу? Нету ведь в твоем нутре ни зла, ни добра настоящего. Выпрямись хоть раз, твою мать! Не собака ить – человек!»
Гаврилка извлек из широкого кармана кресало, шваркнул несколько раз железкой о камень, раздул трут и засмалил цигарку. Горький запах самосада, ненавистный Антипу Никаноровичу с детства, ударил в ноздри.
– Отрава! – буркнул Антип Никанорович и слегка улыбнулся. – На спички не разжился?
– Это оно некурящему… А курящему табак – лучшее зелье. – Гаврилка с наслаждением затянулся. – Я, Никанорович, ваш род уважаю, а ты все рыло воротишь. Теперича дружней надо, глядь, не сегодня завтра немец придет. Делить нам нечего, да-вно поделили…
Антип Никанорович напружинил ноздри, засопел. Опять Гаврилка за старое? Сколько лет, как преставилась Акулина, сколько лет парит ее кости земля сырая, а живым все неймется. Глуп человек, святотатствуешь ведь, укоряя покойницей. Голос Гаврилкин какой-то непривычный: не то дерзкий, не то наставительный. Нахальная улыбочка на губах, а круглые глазки так и сверлят. Безвластие почуял, гнида?
За околицей послышался непонятный шум, то затихая, то нарастая. Гаврилка вскочил и навострил уши. Антип Никанорович затаил дыхание. Через минуту донеслось отчетливое тарахтенье моторов, а еще через минуту на краю деревни поднялась пыль.
– Никак, немцы, – прошептал Гаврилка. – Как же это?.. – Он глянул на свои босые ноги, швырнул в песок цигарку и кинулся через дорогу, размахивая короткими руками.
Антип Никанорович, не раздумывая, не отдавая себе отчета в том, что делает, побежал вдоль плетней в другую сторону. Миновав дворов пять, он остановился, переводя дыхание. Будь у него аистовы крылья, догони он своих сельчан и предупреди об опасности, все равно ничего не изменишь. Обозу не уйти от мотоциклов. Понял он это и матерно выругался. Мотоциклы приближались, и Антип Никанорович ничего не мог поделать. Стал бы он поперек шляха, расставив руки, лег бы в эту треклятую и родную пыль, если бы не знал, что на его старых костях не забуксуют колеса вражьих мотоциклов. Крепкий еще мужик Антип Никанорович, хоть и ноет тело по ночам, держат еще плуг его руки, не гнутся плечи от шестипудовых мешков, а тут оказался слабее комара. И так ему стало обидно и больно от своей беспомощности, что в голове помутилось и к горлу подступил комок, упругий и колкий, как репей.
Мотоциклы пронеслись мимо Антипа Никаноровича. Валет с остервенелым лаем кинулся им вслед, но, пробежав метров сорок, вернулся.
– Пошли, Валет, – выдавил из себя Антип Никанорович и тяжело поплелся к своему дому.
* * *
У колодца, возле Гаврилкиной хаты, стояла немецкая машина. Шофер заливал воду в радиатор, несколько солдат скинули сорочки и с хохотом и довольными выкриками обливались, сверкая под солнцем здоровыми белыми спинами, как мужики у ручья после покоса. Длинный колодезный журавль с куском проржавленного рельса на перевесе беспрерывно двигался в небе, опуская в глубину и поднимая обратно тяжелую дубовую бадейку, обтянутую железным обручем. Все буднично, мирно, как будто не эти гладкие мужики еще вчера убивали и грабили, жгли людские жилища и вытаптывали гусеницами танков чужие хлеба.








