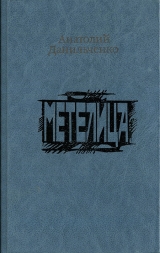
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
У Левенкова пропало желание продолжать разговор: это – что кричать в пустыне.
– Значит, можно рассчитывать, что с вашей стороны не будет никаких препятствий. Я правильно понял?
– Правильно. Можешь писать заявление об уходе. Только не откладывай, у меня дел много, нужен помощник хороший, – подчеркнул он последнее слово.
Все это время Челышев держался спокойно, сохраняя превосходство, но под конец сорвался. Кто-то приоткрыл дверь, пытаясь войти, и он рявкнул на весь кабинет: «Занят!», выдав свое состояние. Демонстрировать далее наигранное спокойствие не было смысла. Он задергал усами и жестко произнес:
– В управлении не советую хлопать дверью, если хочешь уйти сам.
– Это угроза?
– Нет, покуда что предупреждение. В твоих интересах, как я понимаю, не затягивать решение вопроса.
– Конечно. Уж поскорее от свисточков, от гудочков…
– Хм, поэт! Ну, так машина пойдет в Гомель через полчаса.
– Сейчас напишу.
– Давай. – Челышев поднялся, показывая, что разговор закончен, и, уже выходя из-за стола, язвительно заметил: – А быстро ты спекся.
Они поглядели друг на друга, оба презрительно усмехнулись, и Левенков вышел.
* * *
Последние слова директора крепко задели самолюбие Левенкова. Его кабинетный разговор – укус комариный, а Челышев как самоуправствовал, так и будет продолжать, если не зарвется еще больше. Так уж устроен человек: одержав верх над соперником, он всегда считает себя правым и возносится в своей «правоте», не задумываясь над тем, почему случилось так, а не иначе, и даже личные недостатки начинают ему видеться достоинствами.
Все это Левенков хорошо понимал, однако поступить иначе не мог. Ничего явно противозаконного Челышев не сотворил, руководитель он старый, проверенный, все козыри окажутся на его стороне, Левенкова же посчитают заурядным склочником, а то и более того. Не случайно директор предупредил, что может выдать его за клеветника, подрывающего престиж руководителя. А ведь может, такой человек все может. И тогда дело станут рассматривать в другой плоскости – вспомнят и окружение в сорок первом, и добрушский лагерь. Тут вопрос позаковыристей.
Спустя три дня после разговора с Челышевым пришло довольно сдержанное письмо от Нади. Она писала, что жилплощадь по закону остается за ним и он волен распоряжаться ею по своему усмотрению. Но были в письме и такие слова: «Приезжай, Светка очень обрадуется». Они-то и обнадеживали. Он понимал, что не может Надя так вот сразу обо всем забыть, и ее сухое письмо нисколько не обижало. Было ясно: она принимает его и готова простить.
За неделю в управлении нашли нового инженера, Левенков передал все дела и был свободен. Накануне отъезда он устроил небольшой прощальный ужин, пригласив Демида с Ксюшей да Петра Андосова с женой – соседей по дому и самых близких ему людей на заводе.
Невеселым было застолье. Гости чувствовали себя скованно, говорили о постороннем, несущественном, зная, что их дела и заботы теперь далеки от Левенкова, а он, понимая их состояние, пытался оживить разговор, бодрился, но делал это неумело, неестественно, потому что и самому, как ни опостылела ему Сосновка за два года, было грустным расставание. Демид налегал на выпивку, Андосов пробовал балагурить по своему обыкновению, но и у него не получалось, Ксюша откровенно грустила, видно вспоминая Наталью. Только под конец старший мастер высказал то, что было на душе у всех.
– Жалко, Сергей Николаевич, что ты уезжаешь. Жалко.
– По-другому нельзя.
– Да я понимаю, чего ж не понять. И все ж таки… – Он помедлил, поскреб подбородок и добавил как бы между прочим: – А я бы принял твою сторону.
Этого Левенков не ожидал. Андосов был человеком порядочным, но всегда держался серединки между инженером и директором, ни с кем не обостряя отношений; с Челышевым же он с первого дня на заводе, казалось, сработался как никто другой, и рассчитывать на его поддержку было бы самонадеянно. К тому же Левенков не искал ничьей поддержки, даже не пытался найти ее, он только сегодня с запоздалым сожалением подумал, что за два года так и не предпринял каких-то решительных действий, лишь противился в одиночку воле директора, думая больше о своем спокойствии, нежели о пользе дела. Может быть, потому Андосов и другие мастера боялись с ним откровенничать. «Чужой я для них. Чужой, и своим даже не попытался стать», – подумал он с досадой и, глянув мастеру в глаза, благодарно улыбнулся:
– Спасибо, Петр Матвеевич. Только, боюсь, без толку все.
– Под лежачий камень вода не течет. Чего ж не попробовать?
– Нет, – покачал головой Левенков. – Нет, бесполезно, рано. Сейчас время Челышевых. И потом, Петр Матвеевич, не тот я, видно, человек. Понимаете, не тот. Есть люди, как бы вам сказать, ну… борцы есть и созерцатели. Так вот я, скорее всего, созерцатель. – Он криво усмехнулся и, прицокнув языком, подчеркнул: – Не борец.
– Жалко, жалко, – вздохнул Андосов. – Ну да после драки кулаками не машут. Даст бог, сам споткнется.
– Значит, это правда, что он знал довоенную карту? – вмешалась Ксюша.
– Вряд ли. Карту – вряд ли, но залегание пласта знал. Вот ума не приложу: откуда. Петр Матвеевич, как думаешь? Ты с ним с сорок третьего.
Тот лишь пожал плечами.
– Силен, бродяга, душа из него вон! – подал голос Демид. – А мне он нравится – мужик! С огородами подкузьмил? Ну и подавись ими. Мы его на другом обставим.
– Ты-то обставишь, а другие? – спросил мастер.
– А плевать мне на других! Были б гроши да харч хороший, все остальное суета. Давайте лучше выпьем за Сергея Николаевича, за комбата моего. Живы будем – не помрем, Матвеевич. Наливай.
Назавтра Левенков уложил свои небогатые вещички в два чемодана, домашние пожитки и все Натальино отдал Ксюше, окинул в последний раз опустевший дом, безлюдный Малый двор, заводские корпуса с привычной красной трубой, и Демид отвез его к московскому поезду.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
До конца учебного года оставалось еще три месяца, а на уроки ходить становилось все трудней и трудней – так и подмывало проехать мимо Ново-Белицы, мимо своей школы, поблескивающей под утренним солнцем зеленой крышей, просидеть в вагоне до Гомеля, сбегать в кино, пошастать по городу.
Артем с Максимом (их давно уже не называли Артемкой и Максимкой, разве что мать когда-никогда оговорится) учились вместе, в одном девятом «Б» классе, вместе ездили на поезде, так как и в Сосновке, и в Метелице были школы-четырехлетки.
Первый урок начался обычно, но в середине, когда русичка Алла Петровна погоняла троих по домашнему заданию и приступила к объяснению новой темы, вдруг зазвенел школьный звонок. Все понимали, что это какая-то ошибка, однако оживленно захлопали крышками парт, загалдели, кто-то успел выскочить в проход.
Русичка с недоумением поглядела на свои наручные часики и сердито застучала мелом по доске, рассыпая крошки:
– Вы куда? На место! Урок не окончен! Я кому сказала, урок не окончен, это по ошибке. Обрадовались!..
Но звонок, с короткими перерывами, не успевая затихать, все звенел и звенел.
– Корташов, – попросила Алла Петровна Артема, сидевшего за второй партой в крайнем ряду, – сбегай узнай.
Не успел Артем выскочить из класса, как в дверях столкнулся нос к носу с директорской секретаршей.
– Всем – в вестибюль! – выпалила та.
– Что такое?
– В вестибюль, – повторила секретарша каким-то не своим голосом и, бледная, перепуганная, с широко раскрытыми блестящими глазами, побежала к следующему классу.
– Передали по радио, да? – спросила взволнованно русичка, подходя к двери.
– Всем – в вестибюль, – ответил Артем, пожимая плечами, и первым рванулся по коридору к лестнице, с третьего на второй этаж, где располагался просторный пустой зал с несколькими дверями в длинной стене: средняя из них – учительская, а через учительскую – кабинет директора, куда вызывали только в особых случаях, его, например, всего два раза за пять лет для основательного разноса, когда стоял вопрос об исключении за прогулы. Оставили единственно за хорошую учебу. Многие побывали в том кабинете, из сосновских почти все, за исключением девчонок.
По гулким коридорам и лестницам уже выбивали беспорядочную дробь сотни башмаков, все классы стекались в зал-вестибюль. Толком никто ничего не знал, все спрашивали друг друга, стараясь перекрыть общий гвалт, отчего шум крепчал, перекатывался, ширился, как ветер с наступлением грозы.
Артем пристроился на подоконнике напротив учительской и поглядывал по сторонам, отыскивая рыжую голову Максима. Такую же рыжую, как и в детстве.
– Ну чего тут? – спросил Максим, протиснувшись к подоконнику.
– А я знаю?
– Наверное, Сталин умер, он же болеет. Или – война. Неспроста все это.
– Да ну-у, скажешь! – хорохорился Артем, разыгрывая невозмутимого человека, на самом же деле волновался и с нетерпением ждал, когда объявят, в чем дело.
Максим верно сказал: неспроста, никогда еще такого не было, чтобы урок прерывали, да не в одном классе – по всей школе. Мысль о смерти Сталина как-то не укладывалась в голове, войны тоже быть не могло, потому что какой дурак полезет на них теперь, когда они сильнее всех, жить, что ли, надоело?
Ждать пришлось недолго, дверь учительской распахнулась, и вышел директор в сопровождении завуча и нескольких учителей. С первого взгляда было заметно, что они расстроены: понурые, пригорбленные, молчаливые, никакой строгости на лицах, лишь – растерянность и неподвижные глаза. Весь зал на удивление дружно, без окриков и предупреждений, мгновенно притих, даже малышня приумолкла.
– Дети, – сказал директор с хрипотцой и хыкнул, восстанавливая голос. – Дети, наберитесь мужества узнать… услышать… Вчера, пятого марта, в девять часов пятьдесят минут вечера после тяжелой болезни скончался товарищ Сталин.
По залу прошелся вздох – тихий, как шепот сосен под ветром, и опять все затаили дыхание. В груди у Артема что-то напружинилось, собралось в комок и застыло в ожидании.
– Перестало биться сердце гениального соратника Ленина, – продолжал директор срывающимся голосом, – нашего мудрого вождя и учителя, нашего любимого Иосифа Виссарионовича… – Голос его опять захрипел, и опять он хыкнул несколько раз. – Дети, бессмертное имя Сталина будет вечно жить в наших сердцах! Почтим его память молчанием.
Круглые щеки директора побагровели, он быстро-быстро заморгал и торопливо приложил к глазам носовой платок. Не скрывая слез, плакали учителя, стоящие за его спиной, плакал всегда нахмуренный и сердитый завуч, со всех сторон слышались всхлипывания.
Как Артем ни крепился, но слез удержать не смог. С первых слов директора они начали подпирать к горлу, щекотать в носу, туманить глаза и наконец прорвались. И он не стыдился их, не думал о том, что его могут увидеть плачущим. Сейчас он ни о чем не думал и никого не замечал. Так прошло несколько минут.
– Дети, – послышался снова директорский голос, – сегодня занятий не будет. Идите домой.
Расходились тихо, не торопясь, без обычного гвалта и толкотни, разве что бестолковая малышня суетилась и попискивала, как всегда.
В классе, заталкивая в сумку тетради и учебники, Артем спросил Максима:
– Ты куда сейчас?
– Поеду обеденным. Подождем?
– Долго. Наши собираются пешком.
– Тогда – пока.
– Бывай.
Можно было сходить в кино или просто погулять по Ново-Белице, только ничего не хотелось, даже не хотелось ни о чем говорить.
С Лешкой Скорубой и долговязым Санькой Колмаковым они вышли на улицу, где отдельной группой человек в десять собрались все сосновские – с пятого по десятый классы. Всей группой они и двинули по проулку, мимо базара, на сосновский шлях. Дорога была привычной и знакомой до каждого кустика на обочине, до малейшей колдобины в разбитой колее. За многие годы сосновцы истоптали ее и валенками, и ботинками, и босыми пятками, облазили все окопы в округе, старые траншеи и канавы, все ягодные и грибные места. Обеденный поезд шел раньше окончания занятий, вечерний слишком поздно, и дожидались его разве что в сильную непогоду, затянув туго-натуго пустые животы.
По дороге, возле базара, на широком застекленном щите прочитали в «Правде» сообщение о смерти Сталина: «Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа…» – все те же знакомые и привычные, как грамматические правила, слова, какие произносил директор полчаса назад, какие мог сказать без запинки Артем и любой из его одноклассников. От привычности этих накрепко заученных, ежедневных газетных и трибунных слов разбирала досада, и то чувство общей беды, которое было в Артеме во время школьного митинга, начинало притупляться, понемногу покидать его.
У щита толпились люди, переговаривались, вздыхали, дымили папиросами. Чаще всего слышалось растерянное:
– Что ж то будет теперь?
– А все, что хочешь. И на Западе хвост могут поднять. Так и до войны недалеко.
– Не полезут, это им не сорок первый.
– Ой, страшно! Чего будет?
– Да ничего не будет! – прохрипел кто-то.
– Кто ж править теперь станет?
– Найдутся, – отозвался тот же хриплый голос.
Но тут же раздался строгий басок:
– Что-что? Кто это сказал?!
Толпа притихла и быстро разошлась. К газете уже подходили новые люди, заводили новые разговоры.
День выдался ясным. Солнце пригревало плечи, снег размяк, легко уминался под ногами, кое-где начинал подтаивать и оседать, покрываясь крохотными воронками, и в них, в этих воронках, ярко поблескивали капельки только что образовавшейся воды. Деревья раскинули по сторонам свои бурые ветки, топорщились тонким гольем, и весь лес, просвеченный насквозь солнечными лучами, походил на причудливо сплетенную бесконечную, сколько видит глаз, решетку.
Артему хотелось нарисовать все это – по привычке, как он делал всегда при виде необычного, понравившегося ему пейзажа, но сегодня было не до зарисовок. Ему поскорее хотелось узнать, как воспринял смерть Сталина отчим. Разговор, услышанный у газетного щита, озадачил его, вернее, не сам разговор, а пренебрежительный тон и слова мужика с пропитым, хриплым голосом. Подобное он слышал от отчима, но тот – особая статья.
Когда Артем ходил в третий-четвертый классы, то верил отчиму, что бы тот ни говорил, сейчас же, после трехлетней его отлучки, все виделось по-другому. Он уже не был для Артема непререкаемым авторитетом, не восхищал своей расхристанной удалью и бычьей силой, более того, зачастую вызывал неприязнь и желание спорить.
Вообще отношения у Артема с отчимом стали сложными после его возвращения.
* * *
Еще в сорок девятом мать прогнала его, а перед этим прогнал директор: отобрал машину и уволил с завода за пьянку.
Заявился отчим конечно же снова пьяным и с бутылкой в кармане. Выставил ее на стол, плюхнулся на табуретку и приказал:
– Дай что загрызть да садись – обмозгуем это дело. Ишь, гад, он еще и милицией угрожает. А плевал я на него и на милицию! Чихал с высокой колокольни, мать его перемать!.. Ты мне даешь стакан?!
– Ложись спать, Демид, сегодня мы с тобой ничего не обмозгуем. Ложись, завтра.
– Чего? Стакан дай!
– Ну и пей, – вскинулась вдруг мать. – Пей и убирайся! Хватит, сыта по горло!
– Ах, вон ка-ак, и ты гонишь. И тебе я не нужен. Никому не нужен. Чихать! – Он сорвал пробку с бутылки, налил полный стакан и одним духом выпил.
Мать кивнула Артему и хотела выскользнуть из дома, но отчим заметил это и вытянул руку, перегородив дверь:
– Нет, постой! Посто-ой, давай до конца. Гонишь? Не нужен? Никому не нужен? – Он вытаращил красные глаза и заскрипел зубами. – Зарежусь! Ты этого хочешь – получай, душа из меня вон! Где бритва?
– Да ты что, Демид, – прошептала мать, бледнея, – ошалел? Завтра поговорим, проспись, чего сегодня… пьяный ты. Ложись, Демид, я так, понарошке. Никто тебя не гонит.
– Где бритва? – Отчим кинулся к шкафчику, перевернул там всякие мелочи. – Бритва… А-а, я ж ее Петру отдал. Артемка, мигом к Андосову, бритву мою… вернет…
– Я н-не знаю, – выдавил через силу Артем, поглядывая на мать. Коленки его подрагивали, в груди захолонуло от страха.
– Кому сказал! Ну! И чтоб ни слова там – прибью!
Артем вылетел из кухни, ничего не соображая, ни о чем не думая, двигаясь как заводной. Единственное, что стояло в голове, это вернуться скорее, ведь мать одна осталась.
Старшего мастера не оказалось дома, бритву отыскала полуслепая баба Марфа. Если бы бежать надо было чуть дальше, может, он и пришел бы в себя, позвал кого-нибудь на помощь, но Андосов жил по соседству, чуть ли не крыльцо в крыльцо. За десяток шагов туда и обратно не успел опомниться, так и вернулся с бритвой в руках.
– Вот, – протянул Артем бритву.
Отчим уставился на него ошалело, какое-то время молчал, меняясь в лице, потом вдруг рявкнул во все легкие:
– Змееныш! И ты моей смерти ждешь! – От страшного удара по руке бритва улетела за печку, под топчан. – Прибью-у!
Он поднялся было с табуретки, но мать встала между ним и Артемом, вся бледная, тяжело дыша.
– Не смей! – взвизгнула она. – Не смей ребенка трогать!
Ее неожиданный крик приостановил отчима, будто протрезвил на минуту. Этого было достаточно, чтобы выскочить из дома.
Ночевали они у чужих людей.
Назавтра, как отчим ни уговаривал мать, как ни просил прощения, щедро пересыпая заверениями и клятвами, она велела ему уходить. На три дня он исчез из поселка, потом снова объявился, и опять начались уговоры, клятвы, заверения, но мать оставалась непреклонной. Опасаясь появления пьяного отчима ночью, они поставили надежные запоры, шофер полуторки Никола приделал к ставням сквозные винты, чтобы можно было закрываться изнутри. Недели полторы жили как в крепости, прислушиваясь к улице и вздрагивая при каждом подозрительном шорохе. Вскоре отчим завербовался, устроил последний дебош в сосновском магазине и уехал куда-то на север – за длинным рублем и с глаз долой.
И вот прошлой осенью он снова объявился и сумел-таки войти в доверие к матери. Теперь они снова жили вместе, отчим ездил на работу в Гомель и склонял их перебраться туда. Артем особо не возражал против переезда, поскольку в городе, во Дворце имени Ленина, работала хорошая изостудия; он бывал там, его рисунки понравились руководителю Григорию Павловичу, старому опытному художнику. Но мать колебалась, опасаясь оказаться у отчима в зависимости. Пить он, конечно, не бросил, однако стал знать меру и не дебоширил, помня материн наказ: «При первом скандале уйдешь!» Артем с ним ладил, но близко к себе не подпускал, не откровенничал, как прежде, не позволял вмешиваться в свои личные дела и называл его Демидом Ивановичем, со стыдом вспоминая, что этого человека он когда-то признавал папкой.
* * *
С работы отчим пришел навеселе и на материн укоряющий взгляд ответил миролюбиво:
– Надо же было помянуть отца народов.
– Угу, была б причина, – кивнула она и, вздохнув, повторила уже слышанное Артемом много раз: – Что теперь будет…
– Хлеб небось не подорожает, – ухмыльнулся отчим.
– Как ты можешь! – нахмурилась мать и загромыхала в печке горшками, доставая ужин.
Отчим ничего не ответил, только ухмыльнулся еще раз и, сдернув с гвоздя полотенце, вышел в коридор, к умывальнику. Ополоснув руки, он вернулся в кухню и, кряхтя и отдуваясь, стал расшнуровывать ботинки. В последнее время он располнел, отрастил круглое пузо, с трудом нагибался, едва дотягиваясь короткими толстыми пальцами до шнурков. Мать выставила ужин, и они втроем уселись к столу.
Опорожнив тарелку борща и принимаясь за жареную картошку, отчим сказал, будто начатый разговор и не прерывался:
– А вот могу, Ксения. Могу, потому как даны мне богом язык и голова.
– Никак, веровать стал? То-то бога часто вспоминаешь, – ответила мать, имея в виду его матерщину.
– Это я к слову.
– Всем даны головы и языки, а злобствуешь почему-то один ты.
– Один? Да ты что, глухая? Прислушайся к народу.
– Ай, не хочу я ни к кому прислушиваться. Народ, он всякий. Навидалась в войну.
– И Тимофей всякий?
– Тимофея ты не трогай, он никогда ни на кого не возводил напраслины.
– Однако ж не мне тебе напоминать, как с ним поступили. Да разве с ним одним!
– С Тимофеем другое. Тимофей попал в круг обстоятельств, зла ему никто не хотел, разве что Захар.
– А чего он попал в этот круг? Попал ведь, смог попасть. Не сам же он создавал их.
– Ну, это от людей не зависит.
– Зависит, еще как зависит. И в первую очередь от нашего любимого…
– Хватит! – оборвала его мать. – Ешь, а то стынет.
Артем не мог больше слушать разглагольствования отчима и встал из-за стола.
– Ты чего не ешь? – спросила мать.
– Сытый!
Он вышел в комнату, прикрыв за собой дверь, но голоса из кухни доносились отчетливо. Отчимов гудящий:
– Горяч парень. Не нравится ему.
И материн приглушенный:
– А чему нравиться? Не стоило при нем затевать этот дурацкий разговор.
– Пускай слушает, взрослый уже. И с головой, разберется.
– Ох, накличешь ты беду языком своим!
Замечание отчима, что Артем с головой, льстило его самолюбию, однако разобраться ни в чем не мог. Как можно говорить такое о великом человеке! Как у него язык поворачивается! Вся школа плакала, даже завуч, сухарь черствый, и тот не сдержал слез, а этот, красная самодовольная морда, ухмыляется как ни в чем не бывало. Да скажи подобное кто-нибудь из сосновских пацанов, он ему сопатку раскровянит.
«Зальет свои безики и выставляется! От этой водки уже мозги набекрень», – думал Артем и сердился на отчима.








