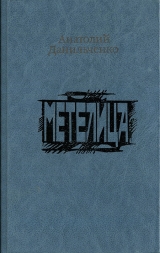
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
Ощущение неизвестности, неумение понять Лапицкого и потому – неудовлетворенность собой не покидали его весь вечер. И только назавтра, после проводов учителя на вокзал, Чесноков облегченно вздохнул и подумал с досадой: «Черт! Темная лошадка».
5
Последний раз перед отправкой на фронт пришел Савелий в новенькой офицерской форме, все такой же подтянутый и свежий, но почему-то озабоченный, с тревогой и смятением в зрачках потускневших глаз. Он старался выглядеть веселым и бодрым. Как обычно, улыбался, шутил.
Все домашние также бодрились, но каждый понимал: завтра Савелию на фронт. Тут уж не до веселья. Один Артемка, ничего не замечая, счастливо горланил на всю хату, шустрил взад-вперед и ластился к батьке.
Антип Никанорович видел: с зятем творится что-то неладное, хотел поговорить с ним по душам, разузнать, что гнетет мужика, и выжидал удобного момента. Наконец, когда Тимофей отправился в школу, а Ксюша с Просей в колхоз, он заговорил:
– Што-то ты, Савелий, нынче как телок нелизаный? Али приключилось чего?
Савелий невесело улыбнулся и ответил неестественно бодро:
– Все хорошо, батя. Так что-то…
– Не крути, хлопец, зрячий ишо, бачу. Засело што во внутрях – ослобонись, выскажись. Полегчает. А мне скажешь – што в могилу сховаешь.
– Да нет же, это тебе показалось. – Савелий помолчал, уставясь в пустоту перед собой, и опять улыбнулся уголками губ. – Пошли лучше проветримся.
Они вышли в сад, прошли по меже к огородам, где валялись остатки поваленного еще осенью плетня, и остановились у траншеи, наполовину заполненной вешней водой. Стенки оползли, разрушились, и траншея походила на обыкновенную водосточную канаву. Из сырых земляных валков, разогретых апрельским солнцем, из траншеи поднимался пар, еле слышно шуршала вода, иногда, как вздох, доносился всплеск подмытой стенки, и еще какие-то непонятные, неразборчивые, но знакомые звуки доносились невесть откуда: то ли с полей, то ли от далекого леса, то ли из самой земли.
– Жива земля, – сказал Антип Никанорович задумчиво, как о чем-то давно известном, не подлежащем сомнению, и кивнул в сторону траншеи: – Вишь ты, не ждет человека, сама лечится.
– Да-а-а, – протянул Савелий, ничуть не удивляясь дедовым словам, и добавил будто про себя: – Плетень ставить надо…
– Поставим. Все сделаем, дай только с посевной управиться. Ишо и пчел заведем.
– Тебя, значит, в старики списали?
Антип Никанорович потоптался, как-то виновато пожал плечами и ответил ворчливо:
– Знать, негож оказался. Толковал Якову, штоб меня – в колхоз, а Просю ослобонил детишков доглядать. Куды-ы! Вот и ворочаюсь по хозяйству, да за мальцами глаз нужон. – Он прерывисто вздохнул. – Ну, не томи, чего у тебя стряслось? Во внутрях шебуршит – на лице не укроешь.
Савелий долго молчал, хмуро уставясь в траншею, потом резко сказал:
– В штрафники определили!
– Эт-то как же? – опешил Антип Никанорович.
– Просто, батя. Просто и быстро, как и все, что делается в военное время. Послан в штрафной батальон командиром взвода. Добре еще, что не разжаловали, могло и это быть. Благо начальник курсов – человек, понял. Вот, даже отпустил проститься.
– Да за што ж позор такой, Савелий?
– Позор, говоришь? Да нет, командовать штрафниками считается честью. Но мне-то не честь, для меня другое. Да чего там, видать, за все платить надо. – Савелий вздохнул и зло выругался. – Да разве я не готов платить? В отряде платил и еще заплачу, кровью заплачу, если надо! Думаешь, я смерти боюсь? Обидно, батя.
– Ты жизнью не кидайся! – осерчал вдруг Антип Никанорович. – Не один ты своей жизни хозяин. У тебя жена имеется, дите, помни это и без них распоряжаться собой не моги! Ишь ты его – кровью…
– Помню. Все я помню и обо всем думаю. Ты не шуми.
– Да я не шумлю, – понизил голос Антип Никанорович, как бы извиняясь за неуместную горячность. – Што они там, белены объелись? Али не объяснил толком?
– Война…
– Война – войной, а люди всегда – человеки. На войну неча сваливать. Иди в штаб али куда там, к командиру, бумагу возьми у Якова, што в партизанах был, не отсиживался. Надо ж войти в положение, а?
– Что ты толкуешь? – сказал Савелий с досадой. – Тут другое, мне кажется. Кому-то я поперек дороги стал.
– Ну! – удивился Антип Никанорович. – Кому это надо?!
– Не знаю. После войны разберутся. Да и не это главное. – Он криво ухмыльнулся, резко пнул носком сапога кусок суглинка и добавил: – За все платить надо.
– Да за што платить? – вскипел снова Антип Никанорович. – За то, што не дал энтим иродам свое дите расстрелять, свою семью? Когда разберутся, ты подумай! К тому времени и косточки могут высохнуть! Нет твоей вины, знать, и правда твоя!
– Ладно, батя, о правде…
– Што – ладно? Глупство городит – и ладно!
– Да разве я не понимаю? – оживился Савелий. – Потому и обидно, что понимаю. Всегда выходит не так, как хочется, а как того требуют обстоятельства, долг, если хочешь, совесть. Каждый кричит о том, что у кого болит, и кричит чуть ли не на весь мир, свою правду тычет, пупом земли выставляет – молитесь на нее, люди добрые! А если у мира своя правда? А если она не сходится с твоей, что тогда? Пропади все пропадом, был бы я, так?
– Нет, не так, – сказал Антип Никанорович. Он чувствовал, что Савелий неправ, запутался в чем-то, а в чем, не мог понять. – Однако ж думки у тебя дурные. Неправильные думки. Выкинь! Одно скажу: будет плохо тебе – и миру плохо будет. Это уже как водится.
– Не знаю, батя, не знаю. Все равно ничего не изменишь, так и толковать лишне. – Савелий помолчал и улыбнулся. – Ничего, я еще умирать не собираюсь. Только ты никому об этом, а то дойдет до Ксюши – слезы лишние. Ей и так несладко.
– Ну, скажешь! Што я, своему дитю ворог?
Они умолкли, глядя на пустые огороды на задах дворов, вздохнули разом, как по команде, переглянулись, и Савелий рассмеялся:
– Ну, мы с тобой, батя… – И, не договорив, перешел на другое: – Когда бульбу садить собираетесь?
– Подсохнет – и зачнем, – ответил Антип Никанорович и потоптал ногой податливую, мягкую землю. – Сырая ишо.
Савелий перемахнул через траншею, прошел на огород, взял горсть земли, размял в ладони. Потом понюхал земляную лепешку и вернулся обратно.
– Дня три такой погоды – и можно начинать.
– И все-таки, Савелий, думки ты свои забудь, – вернулся Антип Никанорович к прежнему разговору.
– У меня на руках направление в часть, так что сейчас без толку что-нибудь предпринимать. А на фронте будет видно по обстановке. И хватит об этом. Пошли лучше ворота навесим, пока время есть, – сказал Савелий и, не дожидаясь ответа, зашагал к хате.
Антип Никанорович, поглядывая на широкую спину зятя, на его крутые, выпуклые лопатки, двинул следом.
* * *
Уезжал Савелий вечерним поездом. Антип Никанорович проводил его на улицу и обнял на прощание.
– Ну, гляди там. – Он хотел еще что-то сказать, но то ли оттого, что рядом стояла Ксюша, то ли не находились нужные слова, промолчал и, машинально теребя заскорузлыми пальцами ворот Савелиевой гимнастерки, только и смог выдохнуть: – Эх!..
– Ничего, батя, переживем. Про Маковского не забудь, – сказал Савелий хриплым голосом, натянуто улыбнулся, вскинул на плечо вещмешок и шагнул на шлях.
Ксюша и Артемка с Максимкой пошли его провожать до станции. Солнце уже опустилось над лесом, и от косых лучей его ложились длинные тени труб сгоревших хат, ровными темными полосами пересекая шлях, разделяя его на одинаковые отрезки, будто ставя преграды на пути идущих.
Дети то отставали, то забегали вперед и оборачивались к Савелию, Ксюша тянулась к мужу, на ходу заглядывая ему в лицо, а Антип Никанорович наблюдал, как они пересекли одну полосу, другую, и томился тем, что не высказал зятю самого главного. Что именно должен был сказать, он и сам толком не знал, но чувствовал: не успокоил Савелия, не смог объяснить ему того единственного, что вытесняет сомнения из души человека, приглушает мелкое, ненужное, мешающее быть уверенным в себе, в своей правде, в истинности и необходимости своих поступков. Таким именно уходил Савелий. И уходил не куда-нибудь – на войну. А может быть, и прав Савелий своей неправотой? Все-таки – война, надо забыть обиды, забыть начисто свое маленькое ради большого. Подумай, Антип Никанорович, не торопись… Нет, однако. Нет и еще раз нет! Забудешь себя – забудешь всех. И даже война, даже смерть не может оправдать несправедливости к человеку.
«Даже смерть… даже смерть… даже смерть…» – стучало в мозгу Антипа Никаноровича.
– От ты, прилипла! – выругался он.
– Что такое? – спросил Тимофей, стоящий рядом.
– Да так… – Антип Никанорович вздохнул и добавил: – Вот и ушел наш служивый.
6
В полуверсте от опушки леса рос вековой могучий дуб.
За семьдесят Антипу Никаноровичу, и сколько он помнит себя, столько знает этот дуб все таким же неизменным, высящимся горделиво над метелицким лесом своей курчавой вершиной, в три обхвата по комлю, с бурой, отверделой за многие века корой, от которой при неумелом ударе со звоном отлетал топор. Подрастал малый Антипка, мужал и креп Антип-хозяин, ставил на ноги детей своих, набирался морщин на лице, а дуб оставался прежним, будто время не имело власти над ним. Только за последние пять-шесть лет омертвела толстая кора с одного боку, отвалилась, оголив белую, как лысина старика, древесину. Это пятно да один усохший сук в зеленой кроне напоминали о древности дуба, о его дряхлости.
Дуб не имел особенного названия, как другие приметные деревья в лесу, например: Горбатая сосна, Кривая береза, его называли просто Дуб. И если кто из сельчан хотел объяснить другому какое-то место в лесу, то говорил: «За Дубом шагов триста, на полянке», и каждый понимал, за каким дубом, на какой полянке.
…А теперь он лежит неподвижно и никогда больше не встанет над лесом, не зашумит своим властным шепотом, не закачается на ветру. Прошлогодний буран подкосил его, с разбойничьим посвистом бросил на соседние деревья и улетел своей дорогой.
В полуверсте слева от дуба начиналась лощина, поросшая лозняком, который испокон веков рубили сельчане на плетни, на корзины и другие нужды. Туда и отправил Антип Никанорович Артемку с Максимкой, забрав предварительно топор из тачки, чтобы с хлопцами не случилось какой беды, а сам уселся на пенек передохнуть и задумался, глядя на вывороченное с корнем могучее дерево.
Дуб полулежал на молодых деревьях, не касаясь земли. Падая, он сломал вершины близлежащего ясеня и уже окрепшего двадцати-, тридцатилетнего дубка, третью вершину не зацепил, четвертая проскочила мимо острых сучьев; размашистая крона, как шапкой, покрыла десятка полтора тонкоствольных деревьев, ломая ветки и вплетаясь в них, как пятерня в густую шевелюру. Так и повис дуб на чужих ветвях.
Летнее солнце просвечивало листву, и Антип Никанорович отчетливо видел, как омертвелые за зиму, сухие ветки дуба сплелись с зелеными кронами молодняка. Сплелись намертво, не распутать, единственный выход – рубить и мертвое, и живое, чтобы дать возможность расти придавленным деревьям. Антип Никанорович вгляделся в спутанный клубок ветвей и вдруг заметил несколько зеленеющих отростков дуба. Значит, он еще не умер? Одним боком, редкими бледными листками, но продолжал жить благодаря неожиданной опоре. Половина корней дуба вырвалась наружу и торчала лохматой звериной лапой, другая половина оставалась в земле, тянула живительные соки.
Так и лежал дуб тяжелым грузом на чужих плечах, и жить не жил, и умирать не торопился.
«Ишь ты, шельма, надумал чего! Спилить, негоже такое дело. Надобно мужикам сказать али же Якову. Тут одному не управиться», – подумал Антип Никанорович сердито.
Но спустя минуту его охватила непонятная тоска. То ли дуба, старого знакомца, жалко стало, то ли о себе думка шевельнулась, только в груди сдавило, и стала чувствительна ломота в костях. Он поерзал на пеньке и поднялся.
– С-спилить! – сказал вслух и, минуя дуб, широко зашагал к лощине.
Внуков Антип Никанорович нашел на полянке, не доходя лозняка. Хлопцы лазили на четвереньках по редкой низкорослой траве и собирали ягоды.
– Эй, мужики, а тачка где? – спросил Антип Никанорович.
Хлопцы нехотя оторвались от своего занятия и подошли к деду. Губы, щеки и подбородки их были в красных, как у клоунов, пятнах от земляничного сока. Видать, им еще хотелось полакомиться спелой ягодой, но хлопцы понимали, что пришли сюда не за этим. Работа для них стала не игрой, а делом. Это и радовало Антипа Никаноровича, и огорчало. Слишком рано, не по годам взрослели дети, слишком рано узнавали всесильное слово «надо».
– Там, под кустом, – указал Артемка в сторону лозняка, мазнул по губам тыльной стороной ладони и, потоптавшись на месте, добавил: – Пошли али как?
Максимка поправил на плече единственную шлейку штанов, шмыгнул носом, крутнул рыжей головой и спросил деловито:
– А нам даси топора?
– Хм, топора… – Антип Никанорович почесал затылок. – Ну вот што, хлопцы. Пока я там наготовлю лозы, вы можете поягодиться.
Хлопцы радостно закивали и, опасаясь, что дед передумает, кинулись на полянку.
– Да про Анютку не забудьте! – крикнул он им вдогонку.
Полдня рубил Антип Никанорович лозу и все время думал о лежащем на молодняке дубе. «Видать, старею, мозги притомились – шевелятся туго», – рассуждал он, машинально работая топором. Последнее время стал он замечать за собой чудное: врежется какая-то одна думка и не выходит из головы целый день.
Вот так одно время думал о Максимке. Одинаковые они с Артемкой, даже Максимка заслуживает большей жалости за свое сиротство и болезненность, а вот поди ж ты, не родной внук – и чувства к нему другие. Разумом Антип Никанорович понимал: не виноват хлопец за свою мать непутевую, за батьку, сгинувшего где-то не по-людски, но сердцем не теплел. Что за сила непонятная – родство, почему она выше рассудка?
Чуть ли не год понадобился ему, чтобы привыкнуть к Максимке, поставить вровень с Артемкой и Анюткой. Да и вровень ли? Хоть и принял в свою семью чужого ребенка, кормит его и будет кормить, пока силы имеются, но необъяснимо для себя отделял родных внуков от Максимки. Не хотел отделять, но был бессилен перед этим могучим чувством родства.
Хлопцы набили оскомину земляникой и вернулись. У каждого в руках было по две длинные, как бусы, низанки ягод. Отложив в сторону свой гостинец для Анютки, они принялись переносить к тачке заготовленную лозу.
Работали далеко за полдень, пока Артемка не сказал по-взрослому деловито:
– Мо, хватит? Тачку с верхом наворочали.
И опять, уже возвращаясь в деревню, Антип Никанорович остановился у дуба передохнуть. И опять полезли к нему думки одна другой заковыристее, щемя стариковское сердце, навевая тоску. Всю жизнь дуб для него был чем-то близким, необходимым, а теперь вдруг стал враждебным. Каким-то злом веяло от этого бездумного дерева. Неужто и Антип Никанорович рухнет вот так на чужие плечи, станет в тягость своим родным и близким? Нет, однако, человек – он не дерево, сумел родиться, жизнь прожить, не кривя душой, сумеет и уйти по-человечески.
Непростая это штука – умереть достойно, всю жизнь учатся ей люди, но не каждому она дается. Готов ты, Антип Никанорович? Сможешь?..
«От, дурости в голову лезут! Медком ишо внуков не покормил, а туда ж… – Впрягаясь в тачку, он еще раз взглянул на дуб. – Разлегся… Спилить!»
7
В октябре на Савелия пришла похоронка.
Ксюша не замечала, как угасала осень, как прошла зима. Ни первый снег, ни первые ручьи по весне не пробудили в ней надежду. Надеяться было не на что. На Ксюшин запрос из Москвы пришло подтверждение, что действительно ее муж, Корташов Савелий Данилович, погиб в боях за социалистическую Родину и приказом ГУК НКО исключен из списков Красной Армии. С утра до позднего вечера она была занята работой и бесконечными хлопотами по дому. Плакать не было времени, и все домашние решили, что Ксюша успокоилась, смирилась с участью своей, как и многие вдовы. И никто не мог видеть, что творится в душе, никто не замечал, как по утрам она торопливо переворачивала мокрую от слез подушку.
Кто это выдумал, что время сотрет все? Кто сказал, что можно смириться с гибелью мужа, отца сына своего? Вдовы такого сказать не могли.
С гибелью Савелия Ксюша решила для себя, что жизнь ее на этом остановилась, остается доживать, что отпущено природой, и растить сына. Горе свое и воспоминания о муже она запрятала внутрь, как нечто драгоценное, принадлежащее ей одной, чего не должен видеть никто. Ксюше казалось, что ни одна живая душа не в состоянии понять ее горя и все эти сочувствия, охи и ахи ненатуральны, потому – оскорбляли ее чувства. Да и зачем омрачать и без того несладкую жизнь своих близких.
Одно событие в деревне встревожило сельчан, как общая беда: в начале марта один за другим умерли два мальчика из тех девяти, которых брали немцы на «медосмотр» – Вова Кондратюк и Леня Морозов. Умерли, не болея, почти неожиданно. Для всех хлопят Тимофей был вместо батьки, и бабы, их названые матери, всегда советовались с учителем, сообщали ему малейшие подробности о здоровье детей. И на этот раз Тимофей знал о недомогании Вовы и Лени, но надеялся, что все обойдется, как обходилось до сих пор. И вдруг – смерть, тихая и спокойная, как засыпание.
Еще летом Тимофей возил в Гомель мальчиков, но безрезультатно. Детей осмотрели, выслушали и, ничего кроме истощения не обнаружив, отпустили. Глубокого же обследования в условиях поспешно открывшейся городской больницы провести не могли. «Надо бы в центр, в хорошую клинику», – сказал пожилой врач со вздохом. И вздох его означал: но это, к сожалению, невозможно. Тимофей сам понимал: и парное молоко – надо бы, и куриный бульон – надо бы, и санаторий… Да что поделаешь, когда – война.
Хоронили детей всей деревней. В день похорон отменили занятия в школе, и все дети провожали своих товарищей.
Весенняя распутица еще не началась, но снег уже был по-весеннему мягкий. Погожий день, веселое солнце, свежий бодрящий воздух, капель с деревьев, с крыш одиноких хат – все это так не вязалось с двумя маленькими гробиками! Несли гробики школьники, которые постарше, за ними ковылял растерянный, убитый горем Тимофей. Ближе других он воспринял эту смерть, ближе других он считал себя к ней причастным и больше других понимал, что она означает. Немецкие эксперименты не прошли бесследно, результат налицо. Неужели и остальных ждет то же? От такой мысли Тимофею становилось страшно.
В толпе переговаривались, перешептывались, всхлипывали бабы.
– И не хворали, горемычные, и вот тебе… – слышался мужской голос.
– А с энтими что будет-то? Хлопята, кажись, исправные, дохтура сказывали, – продолжал бабий жалостливый.
– Чего тые дохтура! Попортили хлопят ироды проклятые, во внутрях попортили – зачахнут. Не жильцы, видать…
– Типун тебе на язык, Марфушка! Ох, господи, прости меня! – отвечали ей, тяжко вздыхая.
– А Тимофей Антипович убивается… Ему-то каково?
– Все ж они нам что родные стали…
Посматривали на семерых оставшихся ребят скорбно и жалостливо, как на обреченных.
Похоронили на погосте, под молодым топольком. Колхозный сторож дед Евдоким постарался, сделал красивый резной крест.
А через два месяца прокатилось по Метелице радостное и ликующее: «Победа!» Девятого мая никто не работал. У новой школы состоялся митинг.
Среди всеобщей радости и шума Ксюша чувствовала себя одиноко. Она понимала, что таких вдов тысячи, не у нее одной горе, и надо радоваться всеобщей радости. Но радоваться не могла, более того, эта общая радость раздражала. И чем больше веселились вокруг, тем больней становилось Ксюше, тем трудней было сдержать в пересохшем горле готовый вырваться в любую минуту истошный вопль. Дети шумно носились по улице, и между ними – Артемка, видать забывший на сегодня свое сиротство. Ксюше хотелось остановить его, но она не могла, понимала, что не имеет права этого делать. «Ну и слава богу… Ну и пускай… И за меня порадуется», – успокаивала она себя.
Из Зябровки, где стояла тыловая часть, прибыл пожилой лейтенант и выступил перед сельчанами с речью. Выступил председатель колхоза Яков Илин, выступил Тимофей и многие мужики и бабы.
Попросили выступить и Ксюшу, как вдову, как бухгалтера колхозного и уважаемого в деревне человека.
– Не могу, – выдавила из себя Ксюша через силу. – Простите, не могу я…
До поздней ночи шумел по деревне праздник, а со следующего дня начинались будни. Посевная была в разгаре. Управились только с яровыми, за картошку еще не принимались, а там – гречиха, просо, овощи. Знай поворачивайся. Горе не горе, радость не радость, а жить надо и работать надо. Колхоз помалу восстанавливался, набирал силу: в конюшне уже стояло семь добрых коней, появилось десятка полтора коров, да половина из них чернорябой масти, крупные. В отстроенном прошлым летом свинарнике повизгивали свиньи; под навесом кузницы Денис Вилюев возился с поломанным, изъеденным ржавчиной трактором, который обнаружили случайно на глухой лесной просеке. Тут же стояли и две жатки, веялка.
После оккупации утроилось и деревенское стадо. В этот год Ксюшина Зорька отелилась в феврале, теленка отдали Лазарю. Следующего решили оставить себе, потому как Зорьке пошел пятнадцатый год – по коровьему веку – старуха. Метелица обновлялась. Еще осенью многие сельчане справили новоселье, то там, то тут появлялись новые срубы, заравнивались пепелища, а которые без хозяев, зарастали высоким бурьяном и лебедой.
Метелица ждала фронтовиков.
Первыми вернулись мужики постарше, начавшие службу еще перед войной. В разгаре лета пришли с войны два Гаврилкиных сына, Микола и Константин, но тут же покинули Метелицу вместе с семьями. Как ни уговаривал их Яков Илин остаться, солдаты-фронтовики не могли перенести позора за своего батьку-старосту, подались куда-то в Россию. Третий сын Гаврилки, Иван, погиб еще в сорок третьем.
В конце июля неожиданно для всех объявился Захар Довбня. Всю войну о нем не было ни слуху ни духу, сельчане давно считали Захара сгинувшим. И вдруг он, живой и здоровый, с полудюжиной медалей на широкой груди, с вещмешком за плечами и двумя большущими трофейными чемоданами в руках, прошелся по Метелице.
«Во те на-а!..» – только и сказали на это сельчане.








