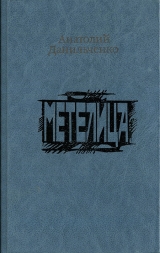
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
17
Все лето до сентября прошло в Натальином доме на редкость счастливо. К Свете она привязалась, будто к родной, и та вскоре перестала дичиться и с веселой улыбкой принимала ее ласки. Наталье было приятно, даже радостно угождать, потакать ее капризам, пичкать с утра до вечера всем самым вкусным и видеть тихое довольство и успокоенность Левенкова. Так бы и жить в мире-согласии, ничего более не надо. Она держала тайную надежду оставить девочку у себя, молчала до времени, а когда однажды попыталась заговорить об этом, Света напугалась: как же без мамы, без Людочки? Стало ясно, окончательно ясно: ее счастью срок недолгий – до сентября, а там будь что будет. На роду, знать, написано ей мучиться и терпеть.
С отъездом Светы в доме словно покойник поселился, стало еще тягостнее и томительнее, нежели до ее приезда. Левенков ходил будто в воду опущенный, замкнулся в себе, избегал каких бы то ни было разговоров, а при необходимости отделывался односложными ответами; лицо его темнело, становилось землистым, глаза провалились, потускнели, утратили свою обычную мягкость и доброту. Наталья все видела, все понимала и, глядя на него, сама исходила от жалости и смутной, еще не осознанной вины. Ревность, которую она испытывала к Надежде Петровне ранее, теперь покинула ее, желание во что бы то ни стало удержать Сергея Николаевича подле себя притупилось, оставалась только жалость да находящее временами равнодушие. Все чаще к ней приходила мысль освободить Левенкова, сказать прямо и решительно: «Уезжай!» – но духу на это не хватало, не поворачивался язык, к тому же она знала, что он не согласится, не сможет бросить ее. А как быть дальше – неизвестно. Надо освободить… Эта мысль постепенно вкоренилась в ней, начала неотступно преследовать, тяготить до боли в груди. Сама ведь не живет и другим препятствует. Надо освободить. Но как?
Сея дожди, посвистывая сырыми ветрами, медленно, тягуче проползла осень и ничего нового в ее жизнь не внесла. Подкатили морозы, запуржило, забелело кругом – все осталось по-прежнему. Наталья жила как в тумане: что-то делала, с кем-то разговаривала, встречалась, но все это – машинально, по привычке, как нечто необязательное, никому не нужное. Внешне все выглядело по-людски, по-семейному, как у жены с мужем, и мало кто замечал потерянность Натальи, отчужденность Левенкова, хотя с ним у нее окончательно разладилось и спали они давно порознь. Но последнее она скрывала даже от Ксюши, стыдясь и опасаясь, что та может истолковать неправильно – будто в этом, единственно в этом заключалась для нее жизнь с Левенковым. Нет, не в этом. Совсем не в этом, а сейчас и подавно. Наталья далеко не молодуха, ей нужен не мужик в постели, а близкий человек рядом, хозяин в доме, его внимание и забота. Все это она в Левенкове потеряла, и жизнь для нее стала бессмысленной, ненужной, более того – тягостной. Она мешает чужому счастью, и если не освободит Левенкова, то поступит не по-людски. Жестоко поступит. Но как сделать по-другому? Сергей Николаевич так просто не уйдет, надо поругаться, возненавидеть друг друга. Однако такое немыслимо. Как же она его возненавидит?! Бредни, выдумки. Он и сейчас не упрекает ее ни в чем, не грубит, изо всех сил старается (она это видит) не показывать, что все ему здесь опостылело. Вот у Ксюши с Демидом совсем по-другому: и пьет он, и матом кроет, а любит. Этот может и сам возненавидеть, и пробудить ненависть к себе. Левенков же ни того, ни другого не умеет. Разные люди. А Наталье лучше бы уж с шумом, да по-свойски, нежели с этой отчужденной вежливостью.
Такая жизнь не могла тянуться бесконечно, должен был отыскаться какой-то выход. Она это чувствовала и была готова к любой развязке, но какой именно – не знала. И он, Левенков, тоже не знал.
Проходили дни, недели – одинаковые, монотонные, как докучливое тюрканье сверчка за печкой. Но они все же проходили, надо было прибирать в доме, топить печь, готовить еду.
Однажды Наталья обнаружила, что у нее кончается растопка, и собралась в лес за хворостом, как делали это все заводчане. Левенков с утра отправился то ли в контору, то ли в мастерские, где пропадал целыми днями, похоже, без надобности – лишь бы с глаз долой.
Стояла мартовская оттепель. Снег размяк, потемнел, стал ноздреватым; еще недавно горделивые сугробы осунулись, уронив причудливые гребешки, и превратились в неприглядные грязно-белые бугры. Утоптанная за зиму лесная тропинка сохраняла твердость, но стоило шагнуть в сторону, как под ногами начинало неприятно хлюпать. Не снег, не вода – какая-то кашица.
Наталья не стала забираться в глубь леса – свернула неподалеку от поселка в просторный сосновый бор, изрытый многочисленными окопами, где в сорок третьем проходила линия фронта. Хворост здесь попадался редко, но ей много и не требовалось – охапку-другую на растопку. Она была в фуфайке, в стеганых бурках с резинами и шагала напрямик, подбирая на санки всякую мелочь – остатки после хлопят сосновских, которым ничего не стоило взобраться на дерево, обломить усохшие ветки и отобрать себе что получше.
У одного из окопов, над самым бруствером, Наталья заметила хорошо усохшую ветку и подивилась, как ее до сих пор не обломили. Янтарно-желтенькая, почерневшая лишь на самом кончике, она торчала метрах в двух над землей и сама напрашивалась под топор. Наталья оставила санки, поднялась на бруствер и, примерясь к высоте, тюкнула несколько раз у самого ее основания. Рубить над головой было несподручно, да и сухое дерево известно как поддается… «Ладно, осилю», – решила она, откинув топор к санкам; но, попробовав на излом, поняла, что надрубила слабовато, надо бы еще маленько. Она машинально взглянула на торчащее из-под снега топорище, прикинула, достаточно ли широк бруствер, чтобы не свалиться в окоп, и решительно ухватилась за ветку, повисая на ней. Но ветка опять не поддалась.
– Эка уперлась! – проговорила Наталья, начиная входить в азарт. – А мы счас глянем, кто кого.
Она снова повисла на ветке, но теперь уже подальше от ствола, над самым краем бруствера. Качнулась раз, качнулась два – раздался одиночный, резкий, как выстрел, треск, и не успела Наталья опомниться, как очутилась в окопе, по грудь в снегу.
– Взбрыкнула, баба-дура! – обругала она себя и растерянно огляделась, отыскивая выход.
Окоп был просторным и глубоким, с прорытым сбоку пологим спуском, похоже, для машин, танков или еще для чего – Наталья мало что в этом понимала, – но он, спуск, находился на противоположной стороне, метрах в семи-восьми от нее. По двухметровой толще снега добраться мудрено. Округлый вал бруствера проходил вровень с ее головой. Казалось, взобраться на него не составляет никакого труда, однако она хорошо знала, что стенки окопов в этом лесу отвесно-крутые – еще летом заприметила, когда ходила по ягоды. И все же вылезать надо здесь, до спуска не доберешься. Она пошевелила ногами, поворочалась всем телом, образовав нечто похожее на колодец в сугробе, и стала карабкаться на бруствер, подминая грудью, животом, коленками сползающий под нее снег.
Но окоп не отпускал. Наталья снова и снова соскальзывала вниз, в образовавшуюся под ногами лужицу, громко хлюпая своими резинами. Вскоре выбилась из сил, запыхалась и, соскользнув в очередной раз с бруствера, расслабилась, осунулась в рыхлый податливый снег передохнуть. Было досадно и смешно барахтаться в этих в общем-то безобидных сугробах. Детвора всю зиму кувыркается просто так, потехи ради, а она, взрослый человек, завязла и выбраться не может.
Наталья откинулась на спину, скользнула взглядом по зеленым шапкам сосен, по белым курчавым обрывкам облаков и вдруг заметила, что на дворе весна. Не какая-то временная оттепель, а настоящая весна. Конечно, по ночам еще будут поджимать заморозки, и случайная метель еще может налететь, но весны им не спугнуть, не остановить, не повернуть обратно. Между макушками деревьев небольшими проталинами голубело по-весеннему высокое небо, тонкие нити солнечных лучей проскальзывали сквозь ветки, золотя и без того желтобокие стволы, внизу, над самым полотном снега, который находился теперь на уровне Натальиных глаз, едва приметно колыхался парок, и ощутимые запахи прели, перегноя, запахи скрытой от взора земли пощекотывали в носу. Все это она увидела и ощутила только сейчас – неожиданно для себя, с удивлением. Ни вчера, ни позавчера ничего подобного не замечала, хотя оттепель стояла уже без малого неделю.
Лежать на перинно-мягком снегу, почти не чувствуя тяжести своего тела, было настолько приятно, что не хотелось даже пальцем шевельнуть. На нее нашло благодушие, какое-то умиление всем окружающим и вместе с тем абсолютное безразличие к себе. Зачем карабкаться, выбиваясь из сил, потом тянуть куда-то санки, рубить какой-то хворост, двигать руками и ногами, когда так хорошо лежать, ни о чем не думая, ни о чем не беспокоясь. Кому все это надо? Если ей, Наталье, не надо и ему, Левенкову, не надо, то больше никому.
Она долго смотрела в небо, потом закрыла глаза, окунаясь в тишину и безмятежное спокойствие. «Легко-то как! – подумалось отдаленно. – Всегда бы так вот…» Больше ни о чем не думалось, ничего не ощущалось, только – легкость, необъяснимая легкость на грани бесконечного блаженства и забытья.
Сколько она так пролежала, Наталья не помнит. Пришла в себя от холода, сведшего все ее тело судорогой, и неожиданного страха: «Что же это я?..»
Она вскочила, еще раз попыталась вскарабкаться на бруствер и не смогла – сорвалась опять. Оставалось единственное – пробиваться к пологому спуску. И Наталья стала пробиваться, наваливаясь грудью на толщу снега, подминая его под себя всем телом, утаптывая коленками, локтями, ногами, закоченелыми ладонями.
Пробивая в снегу узкую траншею, она вскоре согрелась и почувствовала что вся, с головы до пят, мокрая. Снег забивался в рукава, под фуфайку, за голенища бурок, таял там, вызывая неприятное ощущение сырости; под ногами устрашающе хлюпала вода, подстегивая ее, торопя движения. Она боялась остановиться, задержаться хоть на минуту: казалось, сделай это – и ее потянет вниз, в неизвестность, будто окоп не имеет дна. Это дно и не прощупывалось – ноги ее, еще не найдя хорошей опоры, уже сами поспешно тянулись коленками к животу и тут же проваливались в рыхлый снег.
Перевела она дух только наверху, ступив на землю и ощутив ее твердь. Оглядела свою дорожку-траншею, весь окоп – теперь казалось, такой невзрачный, маленький – и посмеялась над недавним страхом.
Переломив надвое злополучную ветку, Наталья кинула ее на санки, подобрала топор и заторопилась к дому, вздрагивая и ежась при каждом дуновении ветра. Промокшая одежда неприятно обклеила все ее тело, начиная вызывать в нем все усиливающийся озноб.
* * *
Простуды Наталья не боялась. Еще в Метелице, на заготовке торфа, сколько раз промокала в болоте, попадала под дожди, промозглые осенние ветры и не знала никаких болезней. Однако на этот раз слегла основательно, видно, слишком долго просидела в мокром снегу.
Доктор, которого привез Левенков из города, определил у нее двустороннее воспаление легких, но это известие Наталья восприняла спокойно, с какой-то отрешенностью, будто опасность нависла не над ней самой, а над кем-то посторонним. «Воспаление?.. Вот и добре, судьба, знать, так распорядилась». То ли жар и полузабытье мешали осознать ей всю опасность болезни, то ли неверие в возможность выздороветь – она и сама не могла взять в толк, – но равнодушие к собственной судьбе приносило ей душевное успокоение и немного удивляло: неужто в смерти страха нет? Если это так, чего же люди боятся ее, чего с таким остервенением цепляются за жизнь – единственно оттого, что она, эта жизнь, нужна кому-то? А если никому не нужна?..
Наталья то впадала в забытье, теряя счет времени, путая день с ночью, то приходила в себя, каждый раз ожидая появления страха перед смертью. Но он не появлялся, и это успокаивало, ей становилось хорошо и легко, как в окопе, когда она отдыхала, любуясь голубизной весеннего неба. Болезненное, преследующее ее всю зиму «надо освободить» становилось реальностью, вопрос «как это сделать?» разрешался сам собой.
Левенков и Ксюша, которые ухаживали за ней попеременно, верили в порошки, прописанные доктором, и в ее выздоровление. Наталья не перечила им, во всем соглашаясь, и тайком, когда ее сознание прояснялось, выбрасывала приготовленные к приему лекарства. Какой расчет оттягивать то, что непременно должно произойти, да мучить себя ожиданием. Она это чувствовала всем существом своим, знала наверняка, давно была готова к этому – месяц, два, три месяца назад. Так не порошкам же каким-то все переиначивать.
Однажды под вечер, то ли на шестой, то ли на седьмой день болезни, Наталья вдруг почувствовала облегчение, и в голове у нее шевельнулась мысль: «Зачем я так, разве по-другому нельзя?» Но мысль эта была отдаленной, почти нереальной и к тому же запоздалой – не оставалось сил, чтобы открыть глаза или произнести хоть слово. У нее прощупывали пульс, прикладывались к груди, она слышала, как заголосила Ксюша, страшно удивилась этому, хотела шевельнуться, показать им, что еще живая, но не смогла. Ни страха, ни горечи не ощущалось – только удивление, бесконечная легкость и благодарность к людям, оплакивающим ее.
Некоторое время она еще слышала приглушенные звуки, но и они с каждым мгновением становились все неразборчивее, все отдаленнее, пока не исчезли совсем.
18
Наталья умерла спокойно, незаметно, как и прожила всю свою жизнь. Умерла, будто уснула.
Хоронили ее в будний день. За гробом шло не много народу – только самые близкие ей и Левенкову. За двухнедельную оттепель кладбищенский пригорок освободился от снега, земля оттаяла, размягчела, и копать могилу было незатруднительно. Казалось, даже после смерти Наталья боялась создать людям излишние хлопоты, отяготить их собой. И сама природа словно прислушалась к ее желанию и способствовала ей, подарив нечастое мартовское тепло, благодатный солнечный день, бесконечную синеву в небе.
Оттаявшая земля не стучала о крышку гроба, как в мороз или суховей, – ложилась тихо и мягко, будто и не падала, а слетала с высоты.
Это примечал Левенков – невольно, подсознательно, ощущая смутно какую-то непонятную вину перед Натальей, преследующую его все последнее время, начиная с ее болезни. Но усилилось, четко определилось для него это чувство только в последний момент, когда начали закапывать могилу. И причиной тому стала Ксюша.
Первую горсть земли должен был бросить Левенков, как самый близкий родственник, он знал это и без напоминаний первым склонился к земляному холмику, но Ксюша на какую-то секунду опередила его, будто разделяя с Натальей, укоряя в каком-то большом грехе, не признавая его права на первенство. Никто этого не заметил, и, может быть, все произошло чисто случайно, однако Левенков вздрогнул, как от удара, испуганно взглянул на Ксюшу – та быстро отвела глаза, – и он решил: с умыслом. Конечно, с умыслом, никакая это не случайность, деревенские женщины пунктуальны в таких делах; просто он чужой здесь человек, и для Натальи чужой, хоть и прожил с ней несколько лет. Он виноват перед ней, потому – чужой. Только в чем его вина – не мог объяснить, лишь чувствовал эту свою вину. Может, вся их совместная жизнь – его вина, а смерть Натальи – вечный ему укор?
«Вечный, вечный, – повторял про себя Левенков в такт шагам, возвращаясь с кладбища. – И с этим надо жить…» Нет, не такой он ждал развязки. Он хотел успокоения, добра для всех, а что же получилось: Натальи не стало – какое же тут добро? Ее смерть – ему вечный укор – это ли успокоение?! Конечно, если трезво рассудить, ничьей вины в ее смерти нет: простуда есть простуда, болезнь есть болезнь – случайность… И Ксюшина горсть земли тоже случайность? Тогда почему же она отвела взгляд – укоряющий взгляд, недобрый? А ведь они-то с ней всегда были в хороших отношениях. Ну, положим, их отношения не так прочны, как ему казалось, положим, все это – случайность, но куда уйдешь от другого – от самой Натальи? После отъезда Светы она заметно переменилась, стала равнодушной, безучастной ко всему. И к нему тоже. Он видел ее надломленной, видел всю зиму и ничего не предпринял, даже не попытался этого сделать, поскольку был занят собой, своими переживаниями.
«А сейчас чем занят? – поймал он себя на мысли. – Ведь о себе и думаю – не о ней. Не о ней!» И ему стало тоскливо и виновато еще больше. Так тоскливо и виновато, как никогда в жизни не было.
* * *
После похорон минула неделя, вторая, третья, март сменился апрелем, а Левенков не мог прийти к какой-то определенности, смириться с происшедшим и осознать себя свободным от каких бы то ни было обязательств. Чувство вины перед Натальей не проходило, не отпускало его, претило даже малейшим переменам в жизни. Было совершенно ясно, что ему не оставаться в Сосновке, надо написать в Москву, предпринять какие-то шаги, но он не мог заставить себя сделать это, будто Наталья находилась рядом и наблюдала за ним.
Он по-прежнему каждое утро шел в контору, занимался обычными делами, сохраняя с сослуживцами, в том числе и с Ксюшей, прежние отношения, однако замечал, что от него ждут каких-то решительных действий. Замечал по вопросительным взглядам: «Когда же?», по тому, как смолкали разговоры при его появлении: ясно, судачили о нем. Все знали о его московской семье и конечно же были уверены, что он уедет. Это молчаливое ожидание он уловил и в Челышеве. Уж кто-кто, а директор желал бы избавиться от неугодного ему инженера. Но если в конторе тактично помалкивали, то рабочие говорили об его уходе с завода как о деле решенном. Однажды разбитная резальщица Нина Хоробич так прямо и спросила:
– А кто заместо вас будет, товарищ инженер?
– Почему вдруг вместо меня?
– Так вы ж увольняетесь.
– Кто такое сказал?
– Да все кругом…
– Чепуха! – проворчал он с досадой и поспешил выйти из формовочного.
Это окружающее Левенкова ожидание еще больше усугубляло его неопределенность, и неизвестно, сколько бы он откладывал с письмом к Наде, возможно, и вовсе не стал бы писать, дотянул до лета, до отпуска, чтобы поехать и объясниться с глазу на глаз, но обстоятельства изменились.
От Ксюши случайно (а может быть, и не случайно) узнал, что его Света с Артемкой затеяли переписку, вернее, детскую игру в переписку – не напрасно же с первых дней Светиного приезда сосновская детвора принялась дразнить их женихом и невестой. Он-то, Артемка, и написал о смерти Натальи, значит, Надя обо всем знает и ждет (если вообще ждет) его письма. Вдобавок к этому его отношения с Челышевым настолько разладились, что впору было или уходить, или откровенно выступить против директора не только на заводе, но и в управлении. Это стало окончательно ясно после челышевского «концерта» с геологоразведкой.
…В середине апреля, когда стаял последний снег на карьерах и сошли на нет утоптанные за зиму дорожки, Челышев неожиданно для всех вызвал геологоразведку, даже не предупредив Левенкова, не говоря уже о том, чтобы посоветоваться или хотя бы объяснить ее необходимость. Такое оскорбительное игнорирование его как инженера не могло не возмутить.
Геологи прибыли утром, в десятом часу, когда Левенков еще находился в конторе и просматривал наряды механика. Он сразу определил, кто эти люди, поначалу удивился – что им понадобилось? – но когда Челышев, коротко переговорив со старшим, отдал распоряжение коменданту поселить их в бараке, понял: никаких недоразумений тут нет, приехали по вызову, все было обговорено заранее. Понял и возмутился: инженер он или сезонный рабочий, черт возьми! Хотя бы ради приличия ввел в курс дела.
Левенков не выдержал и ворвался в челышевский кабинет, громче обычного прихлопнув за собой дверь. Тот поднял глаза и уставился на него, дескать, по делу какому или просто так заглянул? Это уж было слишком, но, как ни странно, спокойствие директора охладило и Левенкова.
– Что это за народ к нам пожаловал? – спросил он, по-домашнему присаживаясь на подоконник.
– Геологоразведка.
– Разведка?! – разыграл удивление Левенков.
– Ну да, разведка.
– Хм, странные визиты – как в гости на чаек.
– Долго-то я им не дам чаевничать, – усмехнулся Челышев. Ему, видимо, доставляло удовольствие дразнить инженера.
– У них что же, других дел нету? Могли бы и спросить: нужны ли они нам.
Каждому было ясно, что геологоразведка без необходимости не приедет – не время для прогулок – и уж тем более без вызова. Деваться директору было некуда.
– Нужны, вот и вызвал, – ответил он коротко.
– Вызвали? Когда же это, не помню.
– В марте еще. Не хотел тебя беспокоить, дергать по мелочам.
Он имел в виду болезнь Натальи, смерть, похороны… Объяснение хотя и неискреннее – Левенков это видел, – но внешне правдоподобное.
– И какая нужда в разведке? До леса еще далеко – лет на пять хватит.
– Надо же нам когда-то определить свои запасы. Пускай посверлят землю, составят карты. Говорят, были эти карты, да в войну утеряны. Чего же мы вслепую, как кроты… Не видно перспективы, та-аскать, – улыбнулся он, отбив пальцами по столу дробь, словно подчеркивая несерьезность всего этого разговора и своих объяснений – так, болтовня между делом, вроде перекура.
– А я уж подумал было: пожар, – улыбнулся и Левенков.
– Какой еще пожар?
– Да спешка – не опоздать бы. Снег только стаял, грязь кругом. Можно было и до лета подождать.
– Эге-е, летом их дозовешься, как же! Момент, Сергей Николаевич…
Объяснения Челышева выглядели убедительными, и Левенков засомневался в своих подозрениях. Может, и вправду все так и есть: не хотел тревожить (действительно, во время болезни Натальи и потом, после похорон, он не беспокоил его никакими служебными вопросами), поторопился вызвать геологоразведку, пока была возможность?
«Подозрительным становлюсь. Нехорошо». И все же что-то мешало ему поверить директору. Уж слишком наигран, неискренен их разговор, что-то здесь не то. Ну да ладно, через недельку все прояснится, результаты разведки сами покажут.
Челышев закурил свою «казбечину» и засобирался:
– Ну, пойду покажу им свою территорию, та-аскать.
«Вотчину – будет точнее», – подумал Левенков, поднимаясь с подоконника.
– Ты побудь в конторе пока – надо представить. Займешься с ними эти дни, я завтра собираюсь в управление.
– А что ими заниматься? Пусть работают.
– Ну мало ли что…
Левенков так и не понял – то ли Челышев как бы извиняется за допущенную нетактичность, поручая ему заниматься геологами, то ли хочет отстраниться от участия в этом деле, то ли ему действительно нужно в управление (о целях своих поездок в Гомель он никогда не сообщал, лишь ставил в известность: надо съездить).
Его подозрения оказались не напрасными. Уже на третий день разведки выяснилось, что за рабочим карьером, в сторону леса, трехметровый пласт резко утоньшается до метра, потом до полуметра и сходит на нет. Дальше к березовой роще по всему пустырю – песок. Для всех заводчан это было неожиданностью. Глины в рабочем карьере хватало месяца на два-три, значит, за этот срок необходимо – кровь из носа – развернуть фронт работ в другом направлении: вскрыть новый карьер, проложить к нему узкоколейку, провести электричество, перенести лебедку, перегнать экскаватор и – само собой – накатать хоть какую-то дорогу. Правда, если поднатужиться, времени для этого хватало.
Нетронутым на заводских землях оставался лишь просторный участок за старыми карьерами, примыкающий к лесхозу. Именно его в прошлом году и раскорчевывали под огороды. Там, прямо на огородах, геологи и обнаружили мощный пласт совершенно чистой, без малейших примесей, глины. Они еще только приступили к работам на этом участке, но всем уже стало ясно: плакали огороды, карьер будет здесь. Никто никого не обвинял: понятно, что где глина – там и карьер, но заводчане в первый же день обнаружения глины на огородах вспомнили прошлогоднюю раскорчевку и прозвали это место змеиным.
Для Левенкова не оставалось сомнений, что директор знал залегание пласта и рассчитал все наперед. Вспомнился разговор Челышева с цыганами на рабочем карьере и то, как он старался улизнуть от инженера, направляясь в табор. Он и тогда изворачивался, лгал, определенно зная, сколько в этом месте глины. Знал и раньше, еще позапрошлой осенью, когда шел разговор об огородах. И тогда извернулся, отстранился от участия в определении места под огороды, переложил этот вопрос на чужие плечи – решайте, мол, сами, дело общественное. Какая дешевенькая игра в коллегиальность! А добился своего – бесплатной для завода раскорчевки участка. Теперь для вскрытия пласта потребуется вдвое меньше времени и средств. Дальновидный директор, ничего не скажешь.
Оставалось одно – откровенно поговорить с Челышевым, высказать ему все, что о нем думает, и хлопнуть дверью. Давно пора. Левенков уже не мог спокойно встречаться с ним в конторе, здороваться по утрам, обсуждать какие-то дела. Сам вид его, пропитанные папиросным дымом подпаленные усы, манера важно жестикулировать – все вызывало отвращение.
Сразу после отъезда геологов Челышев провел совещание. Речь шла о новом карьере – о чем только и было разговоров последнюю неделю. Все воспринимали предстоящие работы как неизбежность, никаких сомнений или возражений, естественно, быть не могло, и совещание скорее походило на челышевский инструктаж: кому и чем теперь заниматься. Спокойное, деловое совещание – директор отдавал распоряжения, мастера согласно кивали головами да вздыхали обреченно.
– Карьер начнем вскрывать в ближайшие дни, – сообщил он.
– А кто вскрывать-то будет? – поинтересовался кадровик, опасаясь, что придется срочно искать рабочих. – Своими силами или как?
– Цыгане вскроют, у нас давние связи.
– Да где ж они?
– Тебе бы, Осипович, надо знать – где. Давно пора знать, понимаешь!
– Так вы ж сами… – промямлил кадровик, вобрав голову в плечи, будто ожидая удара. – Сами всегда договаривались.
– Вот именно: сам. Все сам… В Гомеле цыгане, на зимних квартирах. Дам тебе адрес, сегодня же поезжай.
– Угу. А на чем? Утренний поезд ушел.
– На машине. Рыков поедет в пекарню за хлебом, там недалеко. Так, значит. Кому что не ясно? Давайте вопросы сразу – потом не бегать чтоб.
Все совещание Левенков сидел молча, наблюдая за Челышевым и пытаясь уловить в нем хоть какие-то признаки угрызения совести, однако ни в его голосе, ни в поведении не смог заметить и тени смущения. Голос гудел, как всегда, властно, не допуская каких бы то ни было сомнений, усы недовольно топорщились, взгляд колюче обращался то к одному, то к другому. Ждать от такого душевных переживаний – напрасный труд. Ну что ж, тем лучше, значит, в этом человеке Левенков не ошибся и расстанется с ним без малейших сожалений. Он решил сегодня же поговорить начистоту и поставить на этом точку, только не знал, когда завести разговор – с глазу на глаз или сейчас, при всех. Оно бы лучше при всех, а то кто еще решится сказать директору всю правду.
– Значит, вопросов нет, – закруглил совещание Челышев.
– Есть, – отозвался Левенков.
– Что у тебя?
Левенков неторопливо подвигался на своем стуле и, глядя ему в глаза, спокойно и тихо спросил:
– Вы знали, где находится глина?
На какое-то мгновение взгляд Челышева метнулся в сторону – вопрос застал его врасплох, – но он тут же взял себя в руки и произнес с расстановкой:
– Не по-нял!
– Я говорю, вам было известно залегание пласта раньше, еше до разведки?
Все с недоумением уставились на Левенкова, потом на начальника, лишь Петр Андосов потупился смущенно, вероятно, тоже догадывался об этом.
– Ну, брат, фантазией тебя бог не обидел, – хохотнул вдруг Челышев. – К великому сожалению, дорогой мой, я еще видеть сквозь землю не научился.
– Значит, знали.
– Что за странные вопросы! – повысил он голос.
– А это уже не вопрос – утверждение.
– Да кто ж мог знать… – оживился Волков.
– Ладно, развлекательными разговорами займемся на досуге, – оборвал его Челышев и резко встал за столом. – А сейчас о деле. Кому еще что не ясно? Нет вопросов? Тогда все свободны.
Выдержав минуту-другую, пока мастера разойдутся, Левенков, сопровождаемый озабоченным взглядом Ксюши, направился в кабинет директора. Тот сидел за столом без дела (по всему видно, ждал его) и усиленно дымил папиросой.
– Ну? – спросил он неторопливо, кивнув Левенкову на стул.
– Что «ну»?
– Решил скомпрометировать меня перед народом?
– Сказать правду решил – так будет точнее.
– Ах, пра-авду… Правду, которой не знаешь. А ты подумал о том, что я могу и обидеться? Да-да, обидеться и расценить это как подрыв руководства или более того – как клевету?
– Руководства в единственном числе?
– Хотя бы и так.
– Подумал и решил, что вам не пристало обижаться.
– Эго почему ж?
– Потому, что вы обидели весь поселок.
Челышев заскрипел столом, наваливаясь на него и растирая в пепельнице свой окурок – не торопясь, тщательно, словно показывая, что и его, инженера, он сотрет при желании вот так же. Покончив с окурком, он сухо произнес:
– Это твои домыслы.
– Неправда! Вы знали.
– Откуда, не подскажешь?
– Знали! – повторил он убежденно.
– Положим, догадывался, ну и что?
Левенков ждал, что после этого директор заведет свой обычный демагогический разговор о пользе общей и частной, о политике руководителя, о требовании времени – и это выглядело бы попыткой оправдаться – однако Челышев ограничился вызывающим, чуть ли не наглым «ну и что» и уперся в него неподвижным взглядом. Он настолько был уверен в безнаказанности, что не утруждал себя такими «мелочами», как порядочность, честность, забота о сохранении доверия подчиненных. Левенков почувствовал, что скулы его твердеют, тяжелеют глаза, и вдруг на мгновение увидел себя, как в зеркале: перекошенный рот, вздувшиеся ноздри, сдвинутые к переносице брови… «А я злой, – подумал он. – Злой! Но как иначе с такими людьми – добром? Не проймешь. Слабенькое оно, добро мое, младенческое».
– Это откровенный обман, – сказал он как можно спокойнее. – Низкий, недостойный обман. На нем долго не продержишься.
– Вона ты куда! – удивился Челышев, поняв наконец, что их разговор последний. – Надо полагать, сжигаем мосты, дверью хлопаем, та-аскать?
– Так будет лучше для нас двоих.
– Для двоих? Ну-у, брат, переоцениваешь ты себя. Для тебя одного. Всего лишь для одного, – проговорил он с наигранным добродушием. – С этого и начинал бы, а то вишь куда завернул. Ах, какие мы решительные задним числом! Не плевал бы в колодец, Сергей Николаевич, авось испить придется.
– Надеюсь найти источник почище.
– Поищи, поищи. Только не замути его так скоро.








