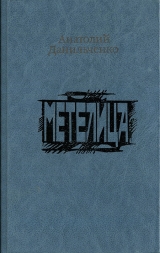
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц)
11
В конце августа в Метелицу приехал бывший инспектор облоно Чесноков.
Тимофей к этому времени выздоровел и вместе с Просей вел домашнее хозяйство, с грехом пополам перебиваясь с хлеба на воду. Ксюша отдала ему телушку от Зорьки и полдесятка цыплят на развод. С общего согласия, а главное, по разрешению старосты, урожай с детдомовского участка отдали учителю, потому что Тимофею, бывшему весной директором, земельного участка не выделили.
Когда Чесноков вошел во двор, Тимофей мастерил ступеньку крыльца, прогнившую за последнюю зиму и треснувшую вчера под его крепким ясеневым протезом. Он удивился появлению инспектора, даже растерялся в первую минуту.
– Бог в помощь! – сказал весело Чесноков. – Трудитесь?
– Илья Казимирович? – спохватился Тимофей. – Как снег на голову! Какими судьбами?
Чесноков подошел и, радушно улыбаясь, долго тряс руку Тимофея.
– Все теми же судьбами. Все теми же. – Инспектор оглядел его и покачал головой. – Постарели…
– Постареешь тут…
– Да-да, знаю, Тимофей Антипович. Знаю. Ну, что же вы, приглашайте в дом, разговор есть.
– Ой, извините! – засуетился Тимофей. – Ошарашили вы меня. Не ждал. Проходите. Я сейчас, только руки ополосну. Прося, проводи гостя! – Он воткнул топор в рядом стоящую колоду и вошел в сенцы, пропуская Чеснокова вперед.
Последний раз он видел инспектора года два назад. За это время Чесноков ничуть не изменился, был, как и до войны, все таким же моложавым, с едва заметно выпирающим брюшком, расторопным, крепким мужчиной, чисто выбритым и опрятным; серый, в крупную клетку костюм ловко сидел на его широких плечах, редкие, не скрывающие лысины волосы аккуратно зачесаны от уха к уху. Казалось, война проходит мимо него. С Чесноковым Тимофей знаком близко. До войны, бывая в Гомеле на совещаниях или по делам, не однажды заходил с ним в уютный ресторанчик на Советской улице посидеть за рюмкой коньяка, поговорить, однако настоящей дружбы между ними не было. Не нравилась Тимофею в Чеснокове какая-то несерьезность во всем (в поведении, в отношении к людям, к работе) и неуловимая ирония – не то осуждает кого, да не говорит, не то одобряет, да стесняется похвалить. Но жизнь ему давалась легко. В минуту откровения Чесноков говорил: «Жизнь – игра, Тимофей Антипович, а каждая игра имеет правила. Шулеров бьют, и хорошо делают – соблюдай правила. Я люблю честную игру. В жизни эти правила никто не создавал, но все им следуют. Общество само регулирует. Да, общество! Отношения между людьми и есть правила игры. В игре, как вы знаете, бывают удачливые и неудачливые, страстные и наоборот. Я – из удачливых. Тьфу, тьфу – не сглазить!» Вот с этим не мог согласиться Тимофей, хотя признавал за Чесноковым некоторую правоту. Трудно было понять, всерьез говорит он или шутит, потому что никогда никому он не навязывал своих взглядов и считался среди учителей человеком веселым и добрым.
– Ну, рассказывайте, Илья Казимирович, где вы, что, как? – накинулся на него Тимофей.
– Да где ж мне быть? В Гомеле. Я ведь с пятого года, а учителей, как вы знаете, до одиннадцатого года рождения не призывали. Снисхождение нам, старикам, послабление, как говорят у вас в деревне, от войны вышло. Заваруха, черт побери! Тяжело.
– Как там, в Гомеле? С начала войны не был.
– Спокойно. После провала подполья ничего не слыхать. Читали в «Ежедневных сообщениях»?
– Читал, – вздохнул Тимофей. – Ну, а вы как?
– Да все так же, Тимофей Антипович, все так же. Инспектирую. – Чесноков закинул ногу на ногу и достал папироску.
– Как – инспектируете? – удивился Тимофей. – Разве школы работают?
Инспектор улыбнулся и прикурил.
– Будут работать. Немцы в нашу образовательную систему не вмешиваются. Вот разрешили школы открыть.
– Значит, вы у меня, так сказать, с официальным визитом? – спросил Тимофей с тревогой в голосе.
Чесноков, видать, заметил волнение Тимофея и весело рассмеялся.
– Будет вам, Тимофей Антипович! Все гораздо проще. – Что «проще» – он так и не сказал. – Нам же и на руку. Не будем мы воспитывать – воспитают они. Учтите, что наша бездеятельность срабатывает на немцев. Не так?
– Так, – согласился Тимофей. – Но все-таки в оккупации…
– Не беспокойтесь, наши считают, что школы надо открывать. И так целый год потеряли. Программы – прежние, наши, правда, обязали ввести закон божий, ну да черт с ними! Мы их по своим молитвам…
– Кто – наши? – спросил Тимофей и неловко умолк, поняв, что этим вопросом поставил инспектора в неудобное положение.
– Ну-у… – замялся Чесноков, – наши… В общем, Тимофей Антипович, надо готовиться к занятиям.
Недоверие Чеснокова не обидело Тимофея – не станет же инспектор рассказывать деревенскому учителю о своих связях. Другое дело, есть ли у него эти связи.
– Вы правы, Илья Казимирович, надо учить детей. Только мне, видать, пока что не придется.
– Это почему?
– Открывали здесь детдом… – начал Тимофей, но Чесноков его прервал:
– Знаю, знаю. Вы поступили как настоящий герой. Да-да, кроме шуток. Но рисковали. Ох как рисковали, Тимофей Антипович! Кстати, что с детьми?
– Живут в разных семьях… Только хилые. Все лучшее отдают им бабы, а без толку. Подорвали здоровье… на всю жизнь.
– Да-а, – протянул Чесноков, оглядываясь, куда бы бросить окурок.
– Вот сюда. – Тимофей подставил блюдо с голубым цветком на донышке. – Некурящий, пепельницу никак не заведу. А откуда вы знаете о детдоме?
Чесноков улыбнулся и спокойно ответил:
– От вашего коменданта.
Тимофей насторожился: почему от коменданта? И вообще, откуда он знает Штубе? Но безмятежная улыбка Чеснокова смутила учителя, и он устыдился своей излишней подозрительности. Конечно же, только через коменданта и мог узнать о детдоме инспектор – официальное лицо, прибывшее в район организовывать открытие школы при немецком режиме. С комендатуры и надо начинать, откуда еще?
«Какими мы стали подозрительными, – подумал Тимофей с досадой. – Черт-те что вытворяет война с человеком. Осторожность необходима, но недоверие… к своим людям… Своим? А полицаи что, с Аляски приехали?»
– В таком случае вы должны знать, что меня к работе не допустят. После всего, что случилось… Уцелел, и то слава богу.
– Ошибаетесь, Тимофей Антипович. Сам же комендант и рекомендовал вас.
– Шту-убе?! – удивился Тимофей.
– Он самый. Не ожидали?
– Не может быть.
Чесноков рассмеялся.
– Знаете, как он сказал: «Этот учицел можно довьерить дети».
– Странно. Не пойму я этого Штубе. Не иначе опять что-то замышляет.
– Ничего не замышляет. Для своих дел они открыли детдом в Криучах, поставили директором отъявленную сволочь. Я был там. А Штубе… Что тут понимать? Он представляется этаким миссионером, который крестом и мечом насаждает арийскую веру. Короче, готовьте школу. Занятия с сентября.
– Подумать надо, Илья Казимирович.
– Да что вы, Тимофей Антипович! О чем думать? Сентябрь на носу.
– Хорошо, хорошо, – сказал Тимофей неопределенно. – У вас, как говорит мой племянник, в животе лягушки не квакают?
– Квакают, – рассмеялся Чесноков.
– Я сейчас.
Прося быстро собрала на стол, Тимофей достал бутылку самогона, припасенную на случай.
– Хлебная? – спросил инспектор с видом знатока.
– Свекольная.
– Конечно, не коньяк… – Он прошелся по комнате, выглянул в окно. – А помните, Тимофей Антипович, довоенное время? Неплохо жили…
«Да ты и сейчас не тужишь!» – почему-то со злостью подумал Тимофей и пригласил инспектора к столу.
Выпив чарку, Чесноков нехотя хлебал постный борщ, потом ковырял вилкой в тушеной бульбе. Было заметно, что не привык он к такой еде. Толстые губы его шевелились медленно и, казалось, недовольно.
– Чем богаты, Илья Казимирович, извините уж…
– Да что вы, что вы! – оживился Чесноков. – В городе и этого нет, впроголодь люди живут. – Он отложил вилку и полез в карман за папиросой. – Так вот, Тимофей Антипович, тетрадей, учебников и всего прочего не ждите. Запасы, которые были, сгорели при отступлении. Перебивайтесь как-нибудь сами. Насчет портретов Сталина и других… Что вам посоветовать? В общем, детям ничего не говорите, как сами сделают, так и будет. Но старайтесь не вырывать, заклейте лучше. Действуйте по обстановке и не рискуйте, вам сейчас надо быть осторожным. И еще: не принуждайте родителей отправлять детей в школу, пусть сами… Короче, как можно меньше вмешательства в организационные дела, старайтесь казаться не учителем в деревне, а просто преподавателем. Вы меня понимаете? Учите тонко и осторожно, чтобы не была заметна ваша настоящая работа и чтобы дети не забывали, кто они есть. Надеюсь, вам ясно, что к чему. – Он помолчал с минуту. – Обстановочка, черт! Извиваешься как уж. Того и гляди, перебор возьмешь.
Чесноков ушел на станцию, а Тимофей долго еще раздумывал и сомневался во всей этой затее. Надо было посоветоваться с Маковским, но отряд отошел от Метелицы, и Люба до конца месяца не появится. Доводы Чеснокова достаточно убедительны: действительно, война – войной, а детей надо учить, и в первую очередь в оккупированной зоне, пока их не опутала жестокость. У жестокости две стороны: одна вырабатывает отвращение, но другая привлекает, засасывает, как болото. Подростку только дай оружие, он и полицаем станет.
«И откуда у человека эта тяга к власти? – думал Тимофей. – Степка вот хорошим хлопцем был, а на тебе – полицай! Сопляк, едва шестнадцать стукнуло – носится с карабином, не подступись! Для него – игрушка… Но „игрушка“ стреляет».
Тимофей отправился к старосте, чтобы собрать народ и поговорить об открытии школы.
12
По-разному встречают люди горе. Полина встретила озлобленно.
Прибежав в Липовку с двумя метелицкими бабами, она кинулась к знакомой хате фрау Эльзы. Торопясь и путая слова, рассказала, как забрали детей и что ее сын с двумя метелицкими хлопятами среди них. Эльза всплеснула руками и заторопилась к коменданту. Штубе обеспокоился и тут же отправил посыльного в госпиталь, устроенный в здании бывшего правления колхоза. Через полчаса солдат прибежал и отрапортовал по-немецки. По тому, как потемнело лицо у Клауса, Полина поняла, что случилось такое, чего комендант не в силах поправить.
– Что с ним? – спросила она, стиснув зубы.
Штубе успокаивал Полину, мол, ничего страшного, дети живы и здоровы, сейчас находятся под присмотром врачей, а завтра его солдаты доставят их на место.
– Не беспокойся, Поля, – вторила коменданту Эльза. – Вернут тебе мальчика, ошибка вышла. Герр капитан не даст его в обиду. – Видать, она сама толком не знала, что с детьми.
Полина сердцем чуяла неладное и не верила ни Штубе, ни Эльзе. В мозгу глухо и неустанно стучало: не медосмотром тут пахнет. Возвращаться в Метелицу было поздно, да и не могла Полина уйти из Липовки, не узнав, что с сыном. Вместе с метелицкими бабами она провела бессонную ночь у своих стариков, прислушиваясь к редкому лаю собак и вспоминая нервный, сердитый голос Клауса после возвращения посыльного из госпиталя.
– Ой, бабы, что-то не то! Боюсь я, – шептала Полина.
Поутру фрау Эльза велела Полине идти домой – за детьми уже послали машину. Штубе на глаза не показывался. Полина слышала его неторопкие шаги в светелке, порывалась войти, вырвать правду о сыне, но Эльза не пускала. Это еще больше встревожило Полину, теперь было ясно: от нее что-то скрывают. А когда прибежала в Метелицу и увидела сына, у нее только и хватило сил донести его до дома. Потом тело ее ослабло, и в глазах помутилось. Так просидела до вечера, тупо уставясь в угол хаты, затянутый паутиной, пока Максимка не прошептал:
– Мама, есть…
– Ой, сынонька! – Полина вскочила, будто очнулась ото сна.
Она поймала первого попавшегося цыпленка, сварила бульон, накормила сына.
Целую неделю она ходила как в тумане, двигалась механически, не осознавая всего, что делала. Утром резала очередного цыпленка, варила бульон, сидела подолгу у сыновьей кровати, потом наводила чистоту в хате, чего давно не делала; однажды заметила, что подметает пол четвертый раз на дню, но не удивилась – равнодушно поставила веник в угол и принялась мыть чистую посуду. Голова ее была занята одним: искала в своем горе виновных и злилась на всех. Сначала это был Штубе – с его ведома забрали детей, потом Тимофей – недоглядел, потом Эльза – подсунула ее в постель к коменданту, наконец в воспаленном мозгу ее полоснула мысль: «Сама виновата! Я, одна я! Господи, ты покарал! Кинула дите, сплавила Тимофею в детдом, спуталась с этим… Вот оно за грехи мои». С этой минуты в голове прояснилось, а в груди защемило от запоздалого раскаянья. И Полина стала все чаще выпивать. Пила больше ночью, чтобы забыться и призвать где-то далеко от нее плутающий сон.
Максимка оправился, встал на ноги и проводил целые дни с Артемкой. Полина успокоилась было, но потом стала замечать за сыном чудное. Играется он, веселый, резвый, и вдруг остановится посередине двора, сядет на землю, обхватит голову обеими руками.
– Что с тобой, сынок? – спросит Полина.
– Не видно ничего, – пробормочет Максимка. – Круги красные, и голова шатается… – Посидит с минуту – отпустит его, потом долго о чем-то думает.
– Ты, сына, тихонько гуляйся, – попросит она, – не крутись…
– Уже прошло. Это я на солнце глянул…
Вздохнет Полина, отвернется, смахивая слезу, а вечером уложит сына спать и достанет из старого шкафчика бутылку самогона. Тюркал сверчок за печкой, заунывно, не переставая, и она, как к тиканью ходиков на стене, привыкла к этой песне невидимого спутника долгих вечеров. Сопя и глухо охая, ворочалась по-медвежьи ночь за окном, а Полина сидела за столом и думала свою тоскливую думку. Первая рюмка, как наждаком, царапала в горле, теплой волной окатывала нутро; вторая ударяла в голову, пробуждала злость: «И пью, потому что муторно! И пить буду! И пропадите вы все пропадом!» – третья притупляла сознание, успокаивала, отгоняла тоску, убаюкивая и клоня голову на скрещенные руки.
В Липовку она больше не ходила. При одном воспоминании о Штубе Полине становилось не по себе. «С каким гадом волдалась! С каким гадом!» – повторяла она, скрипя зубами и до хруста ломая пальцы. Дурманящее, пьянящее в Полине как-то сразу истощилось, перегорело, пересохло, как весенний ручей. Теперь она смогла как бы со стороны взглянуть на свою преступную связь с комендантом.
Спуталась она со Штубе по доброй воле, чего уж тут винить Эльзу. Всю ее распирало изнутри, когда впервые вошла в светелку коменданта, и любопытство сверлило мозг. Как-никак Штубе – птица высокого полета, образованный, культурный и обхождения, видать, необычного, да к тому ж – немец. Какие они, немцы, мужики? Полина не ошиблась. Штубе действительно был обходительным кавалером и знал такое в любовных делах, чего не мог придумать и Захар.
Она вспоминала те хмельные безумные ночи и удивлялась себе: неужто способна на такое? Бес попутал! Захар за такую «любовь» оторвал бы ей голову. «В постель нет стыд», – говорил обычно Штубе, и Полина вопреки своим понятиям о любви соглашалась с ним. То, что она изменяла мужу, Полину не беспокоило. Да и мыслей о Захаре не было. Когда входила к Штубе, чувство стыда и все другие чувства глохли в ней, уступая место безумной, пьянящей любви. Да, она любила этого сильного, красивого немца. Такого Полина не испытывала ни к Захару, ни к другим мужикам, которые у нее были в молодости. Косые взгляды сельчан, укоры сестры Проси ее бесили, и хотелось крикнуть вызывающе и нагло: «Да, путаюсь с немцем! Я вам что, жить мешаю? И мне не мешайте! Что, Захар, этот бандит, лучше? Так с Захаром можно жить, а с немцем нельзя?!» Над тем, что будет с ней и со Штубе дальше, она не задумывалась, гнала прочь такие думки и продолжала ходить к любовнику, не в силах удержаться. И жила, счастливая сегодняшним днем, а завтра хоть потоп.
«Кто тут виноват? – думала Полина. – Сама, некого винить!»
В желтом свете керосинки под тихое посапывание сына эти картины живо всплывали перед глазами, вызывая мурашки меж лопаток, и она хваталась за спасительную бутыль.
Собрав урожай и закончив осенние полевые работы, Полина запила еще сильней. Теперь она не таилась от людских глаз – пила и с утра, и днем.
– Остановись, Поля, уймись! – говорила Прося.
– Ай! – отмахивалась она.
– Катишься под гору, – не отставала старшая сестра. – Пропадешь ить.
– Все одно, сестрица. Что мне теперь? Изломалась…
* * *
Поздней осенью наведался Захар.
На улице, как подвыпивший мужик, из стороны в сторону качался ветер, ляпая плохо затворенной ставней, бушевал по деревне с разбойничьим посвистом и глухими стонами; невидимый дождь шепелявил по-стариковски, увязая в черной ночи, как в смоле.
В хате стояла нудная тишина, даже сверчок за печкой молчал. Максимка спал, а Полина сидела по своему обыкновению с полстаканом самогона и глядела, как расплываются по поверхности огненного питья жирные пятна сивушного масла. Хмель ее не брал, в голове было ясно и пусто. Не хотелось спать, не хотелось двигаться и думать о чем-либо.
Скажи сейчас Полине: «Ты умрешь» – не испугается, скажи: «Жить будешь» – не обрадуется. Тягостное равнодушие, как медом, обклеило ей душу. Единственное, что еще шевелилось в ее сердце – это жалость к хилому сыну. Никогда он не болел, а в эту осень то скарлатина нападет, то рассопливится, то кашель его мучит, как немощного старика.
В окно, выходящее во двор, громко постучали.
«Кого еще там черти несут на ночь глядя?» – лениво подумала Полина, вышла в сенцы и спросила:
– Кто там?
По осипшему голосу признала мужа, и неожиданный страх охватил ее. Задрожавшими вдруг пальцами скинула с пробоя толстый железный крючок и впустила промокшего до нитки Захара. Тут же, в сенцах, он скинул ватную фуфайку, сапоги и босиком прошел в хату.
– Тише, тише, Максимку разбудишь, – зашептала Полина в крепких Захаровых объятиях и подумала: «Может, узнал от кого?» Но по тому, как муж обнимал ее, поняла: не знает. «Ляд с ним, все равно, хоть и узнает», – уже равнодушно подумала она. Пальцы перестали дрожать, и страх скатился с нее, как банная вода.
Захар оглядел хату, заметил бутылку самогона на столе и улыбнулся:
– Ого!
– Садись, не шуми только. Голодный небось? – спросила Полина. – Продрог… Хлебни-ка стаканчик – согреешься. Я быстро. – И она захлопотала у печки.
Обождав, пока Захар поест, она заговорила:
– Ну, рассказывай.
– Чего рассказывать? Шляемся, как волки, по лесу, когда немца пристукнем, когда хвост подожмем да – в нору. Тем и живем.
Захар достал кисет и неуклюжими волосатыми пальцами начал скручивать цигарку. Руки его медленно шевелились на вытертой клеенке, саженные плечи заслонили Полине, сидящей напротив, все окно, лохматые брови кособочились, собирая к переносице веер морщин, скуластое лицо кудлатилось густой черной щетиной, и во взгляде мелькало что-то звериное, хищное. Здоров был Захар. До войны слыл на деревне силачом и человеком опасным. Никто не считал, сколько зубов повылетало от его кулака в пьяных драках, сколько синяков обтерли бабы мокрыми полотенцами на телах своих мужиков. Единственным человеком, кому уступал Захар дорогу, был дед Антип. Уважал его Захар и побаивался, зная, что супротив этого старика идти не следует – на испуг не возьмешь, а обиды дед Антип не простит: если не кулаком, то оглоблей перешибет хребтину. Год бродяжничества по лесам не ослабил Захара, только сделал нелюдимей и злей.
– Чего не с Маковским? – допытывалась Полина.
Захар засмалил цигаркой и проворчал:
– Не хватало командиров! У меня своя группа – сам себе хозяин.
– Судачат тут всякое, – заметила Полина. – Маковский, поговаривают, грозился поймать и поставить к стенке.
– Да ну? – с издевкой воскликнул Захар и зло хохотнул. – Это еще кто кого! Председа-атель… Да, может, я со своей группой больше сделал, чем он! А судачат – плюнь в глаза, засудачится который – язык вырву!
Полина слушала и убеждалась в том, что молва людская верна: никакой Захар не партизан – скрывается и от немцев, и от своих да приглядывает, где что плохо лежит.
– Долго не появлялся чего? Думала, пропал где, по настоящему времени немудрено.
– А кто появлялся?
– Да и то. Савелий вот явился, так еле ушел. Зиму всю как в клетке бился.
– Ну и дурак! И я дурак, остаться надо было. Немец же не трогает?
– Чтобы особо, так нет.
– То-то.
Полина чувствовала, что пора сказать о сыне, но слова не шли на язык, все оттягивала, пока сам не спросит. Беду с Максимкой она считала своей виной, своим горем и не хотела делиться с Захаром, ставшим ей чужим. Эти здоровые волосатые руки теперь были противны. Отвращение вызывала бугристая вена на Захаровой шее, его широкие красные ноздри, потресканные мясистые губы казались скользкими. Она знала, что надо ложиться с ним в постель, представила, как это получится, и почувствовала неприятные мурашки на спине.
– Налей еще! – попросила Полина. – Не берет что-то.
– О себе что молчишь? – спросил Захар, облапив бутылку. – Как вы тут?
Полина проглотила жгучее питье, рассказала Захару о сыне и только тогда заплакала.
Захар долго сопел, стиснув кулаки, потом прохрипел одним духом:
– Убью гада!
– Кого? – не поняла Полина.
– Тимофея, кого еще!
– Тимофей тут при чем? Его самого чуть было не уходили.
– Своих сумел уберечь, – сипел Захар, – а нашего? Я знаю, он давно косится на меня. Гадюка, с немцами сотрудничать? Убью и ответа не понесу. Собака хромоногая, я ему покажу, как детской кровью торговать! Фашистский пристегай!
– Да ты что, Захар, опамятуй! – заволновалась Полина. – С какими немцами, какое – сотрудничал? Детдом же нам руки ослобонил, детей подкармливал всех рядком. Невиноватый он. Тю ты, как с цепи сорвался! И придет же в голову…
– Своей сестрицы муженька покрываешь? – стоял на своем Захар. – Сердобольная не в меру, а сын от, что теперь?
Захмелевшие его глаза тупо ворочались, отражая в зрачках огонек керосинки, ноздри – ходуном, пальцы то сжимались в кулаки, то вытягивались, царапая грязными ногтями клеенку.
Так ни до чего не договорившись, легли спать.
Голодные Захаровы ласки не растревожили Полину, не пробудили обычного для нее неуемного желания. Полина чувствовала опустошенность и надоедливую неприязнь.
Пресытившись, Захар отвалился к стенке. Видать, он заметил Полинину холодность, долго молчал, успокаивая дыхание, потом зло сказал:
– Что-то не узнать тебя. Али не рада?
– Чего ж – не рада? Пересохла ожидаючи…
– Может, хахаля сыскала?
– Что ты мелешь? Ха-ахаля… Поди найди хоть одного в деревне.
– Свинья лужу сыщет!
– Да отцепись ты! – отмахнулась Полина равнодушно. – Не выспался, так спи.
– Гляди, девка, коли что проведаю, так и знай: на одну ногу наступлю, за другую дерну!
– Чего ты бесишься? – Полина пожала плечами. – То не этак, это не так… Мало, так скажи, я ж не убегаю.
Захар скрипнул зубами и отвернулся.
Утром, пока не проснулся Максимка, Полина разбудила Захара и спровадила на чердак, чтобы не случилось как с Савелием. В течение дня несколько раз лазила наверх ублажать истосковавшегося по жене Захара, но так и не проснулось в ней бабье чувство. К вечеру она уже ненавидела его лютой ненавистью. Как только стемнело, Захар собрался, мирно простился с женой и канул в сырую темень.
* * *
Жизнь Полины покатилась круто вниз. Тягуче-дремотные дни проходили в обреченном пьянстве. До прихода Захара в ней теплилась смутная надежда на прежнюю семейную жизнь, теперь же и этой надежды не стало. Но главной причиной ее безотрадности был не Захар; не боязнь потери мужа, разрушения семьи сковала Полину по рукам и ногам. Нашла бы нового мужа, завела бы другую семью, с ее красотой и молодостью не грозила опасность остаться без мужика. В Полине что-то надломилось внутри, и пропало бабье чувство, что было главным в ее жизни. В любви она была жадной и ненасытной: чем бы ни занималась, как бы ни уставала на работе, но стоило вспомнить прошедшую ночь и ночь, которая ждет впереди с сильным, щедрым на грубые ласки Захаром, и все забывалось, усталость как дождем смывало. Полина становилась веселой, сговорчивой, в теле просыпался сладкий зуд, подстегивающий в работе, торопящий движения рук, ног, только в мозгу сверлила одна мысль: «Не напился бы до вечера!» – это управляло всеми ее делами, притупляло случайные обиды, отгоняло заботы, подавляло разум. Оттого Полина была всегда веселой. Другой жизни она не представляла. И вдруг эта страсть непонятным образом исчезла.
К зиме здоровье Максимки поправилось, и опять он остался без материнского присмотра, днями пропадал у Артемки или в хате Тимофея, зачастую там и ночевал. Полина нашла себе собутыльницу в пристанционном поселке – Татьяну, бездетную жену Матвея Пташникова, погибшего в первые дни войны. Они пили вдвоем, слезливо делились друг перед дружкой своими невзгодами, заводили протяжную, с надрывом песню или просто молчали, уставясь в стаканы невидящими глазами, пока одна из них не засыпала тут же, за столом, тогда другая дотягивала сонную до кровати и обессиленно валилась рядом.
Вторая военная зима подкрадывалась осторожно, не торопясь, как лиса к курятнику. Выпал небольшой снег, назавтра был смыт мелким холодным дождем, второй снег растопило солнце своим последним теплом, через неделю ночной морозец затянул землю хрупкой ледяной коркой, и только третий снег улегся основательно, по-медвежьи, до весны. Завыла, заскулила метель, загорбатились у плетня сугробы, мороз железным обручем опоясал поля.
Второй день Полина безвыходно сидела в хате своей подруги в поселке. Один за другим шли тяжелые поезда в сторону Гомеля, сотрясая промерзлую землю; дребезжали оконные стекла, плясали стаканы на засоренном хлебными крошками столе, колыхался мутный самогон в бутылке и такого же цвета огуречный рассол в широкой глиняной чашке. Полина клевала носом над своим стаканом, изредка вздрагивая всем телом от икоты, и тянула заплетающимся языком слово за словом:
– Эх, Танюха, не баба я боле, не-е-е. Была баба, да вся вышла, иссохла на корню! Не человек…
Вечернее небо за окном потемнело, в хате повис тяжелый сумрак. Прогромыхал очередной поезд, некоторое время стояла нудная тишина, потом завыла соседская собака, протяжно, по-волчьи.
– Воет, – нарушила молчание Татьяна, качнув головой, отчего по плечам рассыпались белые взлохмаченные волосы.
– Чью-то смерть почуяла… Накличет, – отозвалась Полина.
– Энтих смертей сичас!.. Ни в грош человек стал. Эх, жизнь! Тоскливо, Поля.
– Хуже, Таня, обрыдло все, мертвечиной пахнет.
– У тебя хоть дите, а я?
Они выпили еще по одной, и Полина стала надевать свой тулупчик.
Во дворе – оттепель. Снег под ногами податливый, мягкий. Редкие облака повисли в небе недвижно, а среди них застыл отливающий желтизной месяц. Тишина кругом, только по-прежнему выла соседская собака, наводя тоску и сонливость. Ставни хат закрыты наглухо, ни огонька, ни возгласа. Кое-где из труб выползал белый дымок, горбатился коромыслом над крышей и прижимался к земле.
Выйдя за поселок, Полина почувствовала, насколько она пьяна. Узкая утоптанная стежка ускользала из-под ног, извивалась змеей, и валенки то и дело зарывались в снег. Ей стало жарко от борьбы с неподатливой стежкой. Расстегнула тулупчик, сняла рукавицы.
– Сынонька, – повторяла Полина, смахивая беспричинные слезы. – Конфетки у меня… Вот сейчас отдохну и принесу тебе. Еще не спишь, видать, с Анюткой гуляешься…
Среди поля, в версте от Метелицы, одиноко рос толстый вековой клен, под ним из крепких горбылей чьи-то заботливые руки смастерили лавочку. В летний зной редко когда пустовала она: то старушка, проходя мимо, присядет, то детвора, налазившись по могучим веткам размашистой кроны, с птичьим щебетом гнездится вокруг.
К этой лавочке и направилась Полина. Смахнула рукавом снег с горбыля и присела, опершись спиной о ствол дерева.
– Хорошо-то как! – пробормотала она. – Теплынь…
Полина закрыла глаза и улыбнулась. Так ей стало вдруг спокойно, так легко, что невольно шевельнулась мысль: «Может, не все еще потеряно? Жить надо… Раскисла… По весне тает все. Солнышко… – Она встрепенулась. – Никак, засыпаю? Сына мой, конфетки…»
Полина хотела нащупать конфеты в кармане, но рука ее едва шевельнулась и лениво притихла на коленке, веки слиплись – не открыть глаз. Она чувствовала тепло своего дыхания на груди и одновременно – покалывание в кончиках пальцев.
«Скорей протрезвею… К сыноньке… Конфетки вот…» – подумала Полина, засыпая.
Некоторое время ей мерещилась весна, тающий снег, теплый парок над полем и грачиная стая, кружащая в небе, но почему-то молча, без обычного оглушительного галдежа.
Потом не стало ничего.
* * *
Рано поутру после ночи, проведенной со стрелочником, сорокасемилетним бобылем Григорием Дроздом, рябая Катюха возвращалась домой и нашла Полину под кленом. Узнала по черному, с красными розами платку, на который давно зарилась и не раз уговаривала Полину продать.
Прибежала Катюха в Метелицу и закричала не своим голосом:
– Полина замерзла! Там… замерзла!
Сбежались бабы.
– Где?
– Под кленом!
– Дошасталась!
– Нашла конец. Не приведи господь!
Посудачили, поохали, на том и разошлись.








