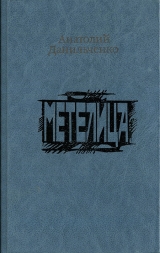
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
– Какая там клевета! По нему еще в сорок первом веревка плакала!
– Гражданин Лапицкий! – повысил голос капитан. – Мы не позволим, чтобы людей, проливавших кровь за нашу победу…
– Ага! Значит, он, Захар Довбня! – воскликнул Тимофей, но тут же сник, откинулся на спинку стула и добавил с кривой усмешкой: – Так я и знал…
Брунов недовольно взглянул на капитана, и тот в замешательстве уткнулся в свои записи. Может быть, от Тимофея и не собирались скрывать имя доносчика, но следователю, капитану НКВД, так быстро «клюнуть на удочку» подследственного было непростительно.
Тимофей в первое время даже обрадовался легкости, с какой ему далась эта уловка, но, подтвердив свои подозрения, почувствовал какое-то непонятное равнодушие ко всему. Не злость, а нечто похожее на смех подкатило к горлу. Подумать только: Захар обвиняет Тимофея в преступлении, и Тимофей вынужден оправдываться, более того, он не видит достаточно веских доказательств своей невиновности.
– Вы хотели что-то сказать о Захаре Довбне? – спросил Брунов с интересом.
Тимофей поглядел на майора и отрицательно покачал головой:
– Ничего я не хочу ни говорить, ни заявлять. Люди скажут, да и сам он еще покажет себя.
– Опять слова, а нам нужны доказательства. Как бы то ни было, но ваша вина не становится меньшей. Факты остаются фактами. Вы это признаете?
Что мог признать Тимофей, свою вину? Но какую и перед кем? Совесть его перед людьми чиста, сельчане знают, что он ни в чем не виноват, но как это доказать? Где взять доказательства? Действительно, все, кто мог бы подтвердить его связь с отрядом, погибли. Но есть ведь люди, они видели, знают… А что они видели, что знают? Если поглядеть со стороны, то все сходится к тому, что Тимофей был заодно с немцами. Но это же дикость какая-то!
Он до конца осознал положение, в которое попал, и с ужасом подумал, что не видит выхода. Его охватил страх. Ведь люди и вправду могут поверить в его преступность. Тимофей хорошо знает людскую доверчивость, порой наивную: раз обвинили, раз наказали, значит, было за что. Вот и Брунов, по всему видно, честный человек, но верит, иначе не арестовал бы. И чем больше Тимофей думал об этом, тем яснее видел безвыходность своего положения. Становилось жутко от такой несправедливости. Тогда, за столом, Захар крикнул: «Детской кровушкой торговал!» – и Тимофей захлебнулся от боли и злости, не смог ничего ответить. Сейчас обвиняют в том же, и он не может ничего противопоставить этому обвинению, кроме своих честных слов.
– Значит, вы сознаетесь в том, что с осени сорок первого года по июль сорок второго сотрудничали с липовским комендантом Клаусом Штубе? – спросил Брунов официальным тоном.
Эти слова встряхнули Тимофея, заставили вскочить со стула.
– Но это же нелепо! – крикнул он. – Не-ле-по! Я ни в чем не сознаюсь! Я отрицаю всю эту клевету. Я должен сознаться в чудовищном преступлении, которого никогда не совершал? Да вы что, за мальчишку меня принимаете?
– Успокойтесь, сядьте, криком ничего не докажешь, – сказал Брунов.
– А как мне вам доказать? Я вынужден оправдываться, не зная за собой никакой вины, и делать это спокойно? Это черт знает что!
– Ну, хорошо, давайте продолжим. Если вы действительно работали на отряд, то подтверждения должны найтись. Люди ведь из отряда остались?
– Да, остались многие. Наш председатель Яков Илин был в отряде, даже – комиссаром последнее время.
– И комиссар не знал о вашей связи? – удивился Брунов.
– В том-то и дело, что не знал, – вздохнул Тимофей. – В отряд он пришел уже позже, из окружения, а комиссаром стал перед самой гибелью Маковского и уходом отряда из наших лесов.
– Допустим. Но неужели не осталось ничего такого, что могли бы подтвердить бывшие партизаны?
– Не знаю…
– Вы успокойтесь, вспомните, – посоветовал Брунов.
Теперь уже следователь помогал ему искать оправдания. Капитан Малинин молча записывал показания и недовольно косился на своего начальника.
– Мой отец!.. – вспомнил Тимофей. – Я посылал его в отряд накануне боя в Липовке, чтобы предупредить об опасности. Маковский готовил нападение на комендатуру, но в это время неожиданно для всех в Липовку прибыл карательный отряд…
– Так, так, продолжайте, – оживился майор.
Тимофей торопливо заговорил о казни Любы, о нападении на липовскую комендатуру и гибели Маковского, о последних днях самого отряда. (Впоследствии остатки отряда присоединились к более крупному отряду Кравченко.)
– Отца видели в отряде, это могут подтвердить многие, – заключил он.
– И то, кем он был послан?
– Нет. Знать могли только Маковский и Корташов…
Брунов помолчал, раздумывая, потом с сожалением пощелкал пальцами.
– Да, посещение отряда вашим отцом – оправдание… косвенное. Но этого мало, совершенно недостаточно.
– Кто же еще мог послать его, родного отца? Всю войну мы были вместе.
– Вы меня удивляете, Лапицкий. Во-первых, ваш отец ходил в отряд много позже, после закрытия детдома, а во-вторых, к вам лично это могло не иметь никакого отношения. Мы знаем сотни случаев, когда отцы занимались одним, а сыновья совершенно другим. Сами же рассказывали о связной Любе Павленко и о старосте, немецком прислужнике Павленко. Так что… Вспомните, с кем вы еще встречались, разговаривали в то время? В нашем деле иногда самая незначительная встреча или разговор могут стать решающими.
– С кем встречался?.. Да все со своими же сельчанами… Нет, постойте, есть у меня свидетель! – обрадовался Тимофей. – Чесноков! Илья Казимирович Чесноков, инспектор облоно!
– Чесноков, Чесноков… Знаю такого. Ну и что же Чесноков?
– В августе сорок второго он приезжал в Метелицу.
– Для чего?
– Мы говорили об открытии школ в деревнях.
– В качестве кого приезжал Чесноков? – спросил Брунов, и Тимофей прочел в его глазах заинтересованность.
– В качестве инспектора. Немцы разрешили открыть школы, и надо было этим воспользоваться. Он знал все о детдоме и о моем положении. К тому времени открыли новый детдом в Криучах, потому немцы меня и оставили в покое. И еще надо знать Штубе, чтобы понять, почему я остался в живых. Он представлял из себя этакого миссионера, несущего цивилизацию. Были и другие обстоятельства: сын Захара Довбни случайно оказался в числе тех девяти мальчиков, а его жена, попросту говоря, путалась со Штубе. Коменданту могло быть неловко перед своей любовницей за этот случай…
– Только не пытайтесь меня убедить в милосердии этого Штубе, – перебил с досадой Брунов. – А Чесноков… да, серьезный свидетель.
– Он обо всем знал, он подтвердит, – сказал Тимофей с уверенностью.
– Хорошо, поговорим с Чесноковым. Но это ваш последний шанс, Лапицкий, – закончил он и устало вздохнул. – Все на сегодня.
– Значит, меня не отпустят? До начала занятий осталось всего пять дней. В школе еще не все готово…
Брунов вскинул на Тимофея удивленный взгляд, а капитан Малинин сказал с раздражением:
– Подумайте лучше о себе, гражданин Лапицкий.
Вошел знакомый уже Тимофею сержант и молча проводил его в камеру. Только закрывая тяжелую дверь, наставительно заметил:
– Я ж говорил, что у нас невинные не сидят.
11
За последний год здоровье майора Брунова заметно ухудшилось. Он стал чувствовать сердце; оно не болело, не покалывало, но – чувствовалось, и это, Брунов знал, недобрый признак. По вечерам постоянно мучили головные боли, и все чаще и чаще приходила бессонница. А причина была одна: он устал.
«Отдых – вот что мне нужно, – думал Брунов. – Хотя бы на недельку забраться куда-нибудь под Кленки или на Ипуть, поставить палаточку, наладить костерок, удить рыбу и ни о чем не думать. Когда же я в последний раз был на рыбалке, в тридцать девятом или в сороковом? В сорок первом уже не пришлось… Да, в сороковом, весной. На рыбалочку… Вот разберемся со всей этой сволочью, и отдохну». Он мечтательно вздохнул и тут же прогнал праздные мысли. Ни о каком отдыхе не могло быть и речи. Работы под завязку, на кого оставишь, на Малинина? Этот дров наломает, потом не разберешься. Малинина прислали в НКВД всего полгода назад, но Брунов успел понять односторонность и показное рвение этого человека.
Недостатка в делах Брунов никогда не испытывал, но сейчас их собралось особенно много. Война прошла, как паводок, сметая все на своем пути, но в то же время оставляя всевозможный мусор и хлам. От этого мусора и очищал Брунов свою землю. В каждой деревне были старосты и полицаи, добровольные изменники и трусы, которых вынудили совершать преступления. Одни удрали с немцами, других настигла партизанская кара, но многие остались, перекочевали из деревни в деревню, притаились и живут. Послевоенная проверка выявляла все новых и новых преступников, о них сообщали люди, требуя справедливого наказания, но ни один из них не пришел с покаянием сам, наоборот – старался запутать следствие, юлил, изворачивался. И для каждого дела нужны были убедительные улики, свидетели. А свидетели не всегда находились, улик не всегда хватало, и Брунову приходилось распутывать эти клубки грязных преступлений, ежедневно сталкиваясь с людской подлостью. Бывало и другое: клеветали на честных людей, сводя какие-то личные счеты. И в этом случае необходимо было разбираться со скрупулезной точностью, чтобы не пострадали невиновные.
Дело учителя Лапицкого заинтересовало Брунова с чисто профессиональной стороны. Казалось бы, все ясно, улики налицо, но чутье следователя подсказывало: не торопись с выводами, что-то здесь не так. Ему встречались явные преступники, для осуждения которых не хватало доказательств, и приходилось собирать их по крупицам. В деле Лапицкого было все наоборот: доказательств вины с избытком, но именно тот факт, что этих доказательств было слишком много и все они лежали на поверхности, насторожил Брунова. Уже сейчас он видел, что с делом Лапицкого придется повозиться, каким бы оно на первый взгляд ни казалось простым. Надо опросить детей, поговорить с председателем Илиным, проверить Довбню. Все предстоит сделать самому, Малинину доверять нельзя – слишком подозрителен, будет искать доказательства вины. А их и без того хватает. Но в первую очередь – Чесноков.
С этого Брунов и решил начать свой рабочий день. Вызвал Малинина. Капитан явился, как всегда, деловитый, готовый выполнить любое поручение.
– Я съезжу в облоно, Михаил Григорьевич, а вы займитесь-ка этим Захаром Довбней. Что он из себя представляет?
– Фронтовик, дошел до Берлина, имеет ряд наград. В общем, вне подозрений, – отчеканил Малинин. – Лапицкий, конечно, клевещет на него, чтобы самому выпутаться.
– И все же проверьте. Чем черт не шутит, когда боженька спит.
Малинин счел нужным улыбнуться шутке начальника, но поручение принял с заметным недовольством. Он не любил затягивать следствие, занимаясь посторонними мелочами, когда обвинительного материала хватало для того, чтобы дело передать в суд. В практике Малинина такой метод работы оправдывал себя: ни одно дело, разбираемое капитаном, не было еще возвращено на доследование. Это говорило о хорошем качестве следствия и возвышало Малинина в собственных глазах.
– Значит, проверьте, Михаил Григорьевич, – повторил Брунов, направляясь к выходу.
– Будет исполнено, товарищ майор.
Полчаса погодя Брунов шагал уже по тесному коридору облоно.
Чесноков встретил его радушно, с широкой улыбкой на лице.
– Павел Николаевич! Вот не чаял… Спасибо, не забываете. Что к нам, проходили мимо? Сюда, сюда, к столу, тут удобнее, – хлопотал Чесноков. – Курите, вот и пепельница.
– По делу, Илья Казимирович, по делу, – сказал Брунов, закуривая. – Как можется? Загорели, вижу, не на речке ли? Сам вот никак на рыбалочку не выберусь.
– Какая там речка! По области мотаюсь, учебный год на носу. По какому же делу к нам? – спросил Чесноков как можно развязней, но Брунов уловил в его глазах тревогу и минутное замешательство.
– Интересуюсь вашими кадрами, Илья Казимирович.
– Проверочка? – Он натянуто хохотнул и, закатив глаза, сложив руки на груди, совсем по-шутовски протянул: – Чи-исты, как на духу!
Брунов увидел всю неестественность поведения Чеснокова и почувствовал неловкость. Ему часто приходилось сталкиваться с людьми честными, ни в чем не запятнанными, но которые перед работниками НКВД вели себя суетливо, растерянно или так вот искусственно независимо, словно виноваты в чем. И ему не всегда было понятно, откуда у людей этот страх?
– Что вы можете сказать об учителе Лапицком из деревни Метелицы? – перешел к делу Брунов.
– В каком плане? – спросил Чесноков с таким видом, будто его вопрос должен был прозвучать: «А что бы вы хотели услышать?»
– В самом прямом: что он за человек, как вы его знаете?
– Хороший работник, хороший учитель, честный, независимый… Может, даже слишком. Но в общем, трудяга и, несомненно, наш человек.
– Так, так… Вы, конечно, знаете, что Лапицкий был директором детдома в сорок первом-втором годах. Как вы расцениваете тот случай с детдомовскими детьми?
Глаза Чеснокова вздрогнули, метнулись по сторонам, но тут же скорбно опустились, спрятались под веками.
– Это ужасно! – вздохнул он. – Какое зверство! У детей, представляете, у малолетних детей… Я сделал все возможное, но врачи не признали никакой болезни. А между тем двое мальчиков умерли. Это ужасно!
– Вы были в Метелице в сорок втором?
– Я? Да… припоминаю, был. Мы добились разрешения открыть школы. Пришлось ездить по области, организовывать, инструктировать учителей. В то время приходилось лавировать, чтобы и детей учить по-нашему, и уберечь школы. В Метелице я был в августе сорок второго. К тому времени детдом распался, и Лапицкий сидел дома. Избили его немцы зверски, как еще не повесили. А могли бы, очень просто.
– Вы знаете о его связи с отрядом Маковского?
– Да-да, он был связан с партизанами, с этим Маковским, бывшим председателем метелицкого колхоза. Мужественный человек, – сказал Чесноков не то о Маковском, не то о Лапицком. – А в чем дело, почему это вас интересует?
– Родители пострадавших детей обвиняют Лапицкого в сотрудничестве с немцами и требуют возмездия. В торговле детской кровью обвиняют. Не шутка, – проговорил Брунов, украдкой следя за реакцией Чеснокова на это сообщение.
– Что вы говорите? Невероятно! Но какие родители, ведь дети – сироты… Хотя нет, трое из них, как мне помнится, метелицкие. Вот так штука-а… Но это клевета, не правда ли? Клевета?
Брунов с досадой заметил, что Чеснокову хочется узнать его мнение прежде, чем высказывать свое. И это не предвещало ничего хорошего в прояснении дела Лапицкого.
– Я и сам хотел бы знать. Для того и пришел к вам.
– Конечно, клевета! Не мог Лапицкий пойти на такое преступление. Понимаете, не мог. Он добрый… Да-да! – обрадовался он найденному вдруг определению характера Лапицкого и продолжал убежденно: – Я его давно знаю. Немного простоват, но – добрый. Представляю, как он удивится, узнав о таком нелепом обвинении.
– Лапицкий арестован, и на него заведено дело, – сказал Брунов спокойным голосом и в то же время ожидая от Чеснокова возмущений.
– А-ре-стован?!
Вместо возмущения на лице Чеснокова появилась растерянность и, как показалось Брунову, испуг. В следующее мгновение он с видом крайнего удивления вздернул брови. Для неискушенного человека все это должно было остаться незамеченным.
«За свою шкуру дрожит, – подумал Брунов с раздражением. – Какого черта, ведь за ним ничего не числится! А может, что и есть? Интересно…»
– Да, арестован, – повторил он.
– И это серьезно, есть подтверждения его вины?
– Все материалы, которыми мы располагаем, против Лапицкого.
– Невероятно. – Чесноков встал из-за стола и, пожимая плечами, взволнованно заходил по тесному кабинету. – Это ж надо! Никогда бы не подумал…
– О чем не подумали бы?
– Ну… о том, что Лапицкий окажется предателем.
– Я этого не сказал.
– Но дело…
– Оно еще не закончено.
– Да-да, конечно, – засуетился Чесноков и еще быстрей забегал по кабинету. – И все-таки… Вот и верь после этого людям. Таким добреньким казался.
– Но вы же его давно знаете, Илья Казимирович, и уверены, что Лапицкий оклеветан.
– Ах, дорогой Павел Николаевич, разве можно быть в ком-нибудь уверенным. После этой войны, после всего, что творилось в оккупации. Как я его знаю?.. Да, знаю, по служебным делам приходилось встречаться. Он всем нравился… как работник. Вот ведь, а? Поистине, чужая душа – потемки.
– А как же его доброта? – уже не скрывая издевки, спросил Брунов.
Чесноков остановился посередине кабинета, взглянул на Брунова и сделал обиженное лицо.
– Смеетесь? Да-да, смейтесь, имеете основания. Что поделаешь, в психологии я всегда хромал. – Он уселся на прежнее место и поджал губы. – Сколько раз ругал себя за излишнюю доверчивость…
Брунов уже давно понял, что разговор этот бесполезный. Чеснокова и силком не затянешь в безнадежное дело Лапицкого. Открываться же перед ним в своих надеждах на его показания Брунов как следователь не имел права. Это бы означало подсказывать свидетелю ответы.
Узнавать ему больше нечего было, продолжать разговор не хотелось. Но все же сказал:
– А Лапицкий на вас надеялся, Илья Казимирович.
– В каком плане?
– Был уверен, что вы станете его защищать.
– Ну нет, Павел Николаевич. На каком основании – защищать? Каждый должен… должен нести ответ за свои дела. В этом смысле для меня принцип важнее старого знакомства. – Чесноков сделал ударение на слове «старого».
– Да-да, вы правы, – проговорил Брунов задумчиво. – Каждый должен нести ответ. Каждый! Ну что ж, спасибо за информацию.
Чесноков выскочил из-за стола и проводил Брунова до самого выхода на улицу, болтая при этом без умолку о посторонних вещах, как будто разговора о Лапицком и не было.
«Плохи твои дела, Лапицкий. Плохи, – думал Брунов, сидя в машине. – А этот Чесноков оказался подленьким человечишкой. Вот на кого я бы с удовольствием завел дело. Надо еще раз проверить. Только вряд ли за ним что-либо числится».
Надежды на Чеснокова не оправдались, последний шанс ускользал из рук Лапицкого. Но странное дело, чем труднее становилось положение Лапицкого, тем больше убеждался Брунов в его невиновности. А как это докажешь? Делу дан ход, теперь не остановишь, иначе тот же Малинин заведет новое дело на него, на Брунова, и будет прав. Действительно, на каком основании отпустит он Лапицкого? Этот вариант отпадал. Да и сам Брунов еще не уверен в честности учителя, доверяться же интуиции он не может. Передать дело в суд, материала достаточно? Нет, и еще раз нет! Брунов после этого перестанет себя уважать. Остается одно: найти подлинные доказательства невиновности учителя. Но где их искать? И есть ли они вообще?
Следствие затягивалось на неопределенный срок.
12
Прошло три дня. Тимофей не возвращался.
Первый день в семье Лапицких возмущались беспричинным арестом Тимофея и были уверены, что назавтра он вернется, второй день прошел в ожидании и тревоге. Прибегала учительница Елена Павловна, спрашивала о Тимофее, недоуменно разводила руками и торопилась обратно в школу. Прося не выдержала и пустила слезу. Антип Никанорович прицыкнул на нее: «Неча загодя слюни распускать». На третий день все растерянно молчали.
Вечером Антип Никанорович решил:
– Поеду в Гомель.
Артемка услышал это и пристал к деду:
– И я поеду, ни разу в Гомеле не был.
– Чего еще? – удивился Антип Никанорович.
– Ну, деда, возьми-и, – канючил Артемка. – Я нисколечки не помешаю.
Антип Никанорович хотел шугнуть внука, но подошла Ксюша и сказала раздумчиво:
– Может, и правда, батя, а? С дитем сподручней как-то…
– Жалостливых шукать? Держи карман шире! – Он подумал, покряхтел и согласился: – Ляд с ним, пущай едет.
– Ура-а! – запрыгал Артемка от радости.
– Цыц, негодник! – осерчал Антип Никанорович. Он вскочил с табуретки, зацепился за угол стола, буркнул себе под нос ругательство и вышел из горницы.
Всю ночь ворочался Антип Никанорович с боку на бок, а утром подался с Артемкой на станцию к первому поезду.
День выдался погожим. Трава вдоль стежки, иссушенная за лето до желтизны, понуро пригорбилась к земле и не шевелилась. Тихо стояли вербы, свесив узкие ленты листьев, молчаливо и неприветливо высился размашистый клен у дороги на станцию, под которым военною зимой нашла свою смерть Полина; местами он начинал покрываться желтыми и бледно-красными пятнами, отчего казался грязным на фоне синего безоблачного неба.
Артемка, радуясь своей первой поездке в город, приплясывал по стежке и путался у Антипа Никаноровича под ногами. Он пригрозил внуку: «Будешь выкаблучивать, возверну до хаты!» Но Артемка знал, что дед его не вернет, и только щерился в улыбке.
На станции Антип Никанорович увидел двоих метелицких мужиков и несколько баб с объемистыми оклунками, торопливо отошел в сторонку и стал за толстым тополем, чтобы избежать расспросов. А когда подошел поезд, забрался в последний вагон и молча просидел на ребристой обшарпанной скамейке до самого Гомеля. Старый скрипучий вагон, без единого стекла в окнах, продуваемый насквозь ветром, качало не хуже телеги на разбитой дороге, остервенело скрежетали тарелки буферов, стучали колеса на стыках, а в голове Антипа Никаноровича так же гулко, в такт колесам отдавалось: «За што его забрали? За што?» И не было ответа – одни смутные и страшные догадки.
В последний раз Антип Никанорович был в Гомеле еще до войны и теперь не узнал города. Города и не было, только одинокие уцелевшие дома высились среди развалин. Поверх пепелищ глазу было видно далеко вокруг, как в низком, по пояс, кустарнике: и заросло, и густо, а все одно – пустота кругом. И от этого казалось, что человек в сравнении с городом вырос до неимоверных размеров и все в его власти: строить и разрушать.
С привокзальной площади виднелся уцелевший шестиэтажный дом Коммуны на улице Комсомольской, рядом – небольшое здание 5-й школы да громоздкий Дворец железнодорожников у самой площади. А дальше все лежало в развалинах. Наполовину уцелел и вокзал, но, избитый снарядами, с разрушенным правым крылом, он походил на безрукого калеку. Вдоль по центральной улице прижимались к грудам кирпича и бетона дощатые магазинчики, лоточки, серые, не покрашенные, похожие на сараи. Они густо ютились один около другого и создавали что-то похожее на живую улицу. Там было людно, и туда направился Антип Никанорович, строго наказав внуку не отставать ни на шаг.
– А коли отстанешь и сгубишься, топай прямиком к станции, там и сустренемся, – сказал он. – Взял на свою голову, тьфу ты!
Насилу дознался, как пройти к НКВД. Никто не знал туда дороги. Одни пожимали плечами, другие попросту отворачивались, но все с любопытством косились на деда, и ему становилось неловко от таких взглядов. Наконец конопатый мужчина в выгоревшей солдатской гимнастерке объяснил дорогу.
Антип Никанорович широко зашагал на другую сторону улицы, поторапливая внука. Артемка же, привыкший бегать по свежей земле, ступал по булыжной мостовой как по стерне, боясь поранить ноги. Антип Никанорович заметил это и убавил шаг. Ему и самому было непривычно чувствовать под ногами камень вместо земли.
* * *
На входе в здание НКВД Антипа Никаноровича остановил дежурный и, расспросив его, велел возвращаться домой и ждать. Антип Никанорович уперся и заявил, что никуда не уйдет, пока не сведут к начальнику. Дежурный поначалу уговаривал, растолковывал, что начальнику некогда принимать всех родственников арестованных, а под конец пригрозил:
– Иди, дед, иди, пока я тебя не отправил в холодную.
– Ты меня не стращай, – проворчал Антип Никанорович. – Меня ишо при царе стращали!
Неизвестно, чем бы кончился такой разговор, но в коридоре появился капитан Малинин, которого Антип Никанорович сразу признал.
– Товарищ капитан, – обратился дежурный к Малинину, – тут у нас дед настырный. Требует, чтобы отвели к начальнику. Никак не втолкую…
Капитан также признал его и, подойдя, сказал:
– Дело вашего сына не закончено. Езжайте домой, в свое время вам сообщат о результатах.
– О каких результатах? – удивился Антип Никанорович. – Ни за што ни про што забрали, и на тебе: «о результатах»…
– Взяли, значит, было за что.
– Я батька и должон знать, за што арестовали сына.
– Хорошо, подождите здесь, – сказал капитан и ушел по коридору, гулко стуча каблуками.
Через минуту из коридора донеслось:
– Деда – к майору Брунову!
Антип Никанорович велел Артемке погулять на улице и, сопровождаемый дежурным, прошел в бесшумно открывшуюся перед ним дверь. На пороге разминулся с Малининым и очутился в продолговатой, не больше Ксюшиной спальни, комнатке один на один с человеком в штатской одежде. Это, как он понял, и был майор Брунов. Антип Никанорович степенно поздоровался и присел на указанный Бруновым темно-коричневый, с толстыми ножками стул. В комнате было накурено, отчего он помимо воли скривился и повел носом.
– Некурящий? – спросил Брунов с улыбкой.
– Не употребляю, – подтвердил Антип Никанорович.
Брунов притушил недокуренную папиросу, вылез из-за стола и открыл одну створку окна.
«Ишь ты, обходительный, – подумал Антип Никанорович. – А востер».
Ему было проще говорить с капитаном, того хоть кое-как знал и держал себя с ним свободно. А с Бруновым почувствовал скованность. Что он за человек, этот Брунов? Хитрый, видно сразу, и обходительный… Только все они, хитрые, обходительными прикидываются. Безвинных людей забирать – какое обхождение?
Брунов заговорил первым:
– Отец Тимофея Лапицкого? Так, так… Я хочу вас кое о чем спросить. Это в интересах вашего сына, – добавил он, медленно прохаживаясь по комнате. – Вы ходили в начале сорок третьего в отряд Маковского?
– Ну, ходил.
– Кто посылал?
– Тимофей. Сын, значит.
– А раньше, в сорок первом – сорок втором, ходили?
– Не доводилось.
– Не было кому посылать или дела не было?
– Мне ить не шестнадцать – посыльным бегать всякий раз.
– Значит, ваш сын в сорок первом – сорок втором не был связан с отрядом, только – в сорок третьем? – спросил Брунов, остановившись перед Антипом Никаноровичем.
– Это чего ж не был?
– Очень просто: если ваш сын был связан с партизанами с самого начала, то за полтора года хоть одно срочное поручение должно было найтись, и вам пришлось бы наведаться в отряд до сорок третьего. Ведь связная не могла быть все время под рукой.
Антип Никанорович смекнул, куда гнет следователь. Эк ты, к чему подвел Брунов. Все-то у него просто… Выходит, Тимофей до сорок третьего связи с отрядом не имел. А в сорок первом-втором он работал в детдоме, значит, на кого же еще, как не на немца? Ну нет, майор, слаба твоя кишка! Хотя и стар Антип Никанорович, однако мозги не пересохли.
Еще в поезде он догадывался, что арест Тимофея связан с работой в детдоме. Другой причины не могло быть. И все-таки не хотел верить, гнал от себя такие думки. А теперь его смутная догадка подтверждалась. Все к тому и клонит.
Антип Никанорович разозлился.
– Вы не путляйте, – заговорил он хрипло. – Тимофей ишо до прихода немца сговорился с Маковским. А связной была Люба Павленко, оттого я и не ходил в отряд. Эго вам не на фронте, штоб каждый день – поручения срочные. Ишь! Вы мне скажите-ка, по какой такой причине забрали сына?
– Скажу, скажу, – кивнул Брунов и сел к столу. – Еще вопрос: с кем вы встречались в отряде?
– С кем сустрекался?.. Попервое, с Яковом Илиным, он у них по комиссарской линии состоял. Ну и с другими, которые при лагере остались…
– Яков или кто другой из партизан знал, кем вы посланы?
– А это вы у них спытайте, – ответил Антип Никанорович хмуро, почувствовав в этом вопросе какой-то подвох против Тимофея.
– Так, так… – Майор вытянул шею, освобождаясь от тесного ворота сорочки, отдулся, как мужик на покосе, и внятно проговорил: – Ваш сын обвиняется в сотрудничестве с немцами во время оккупации.
Нечто подобное и ожидал услышать Антип Никанорович, и все же от этих слов он только крякнул, как от удара по темени, и не смог ничего сказать. Внутри начало медленно и настойчиво трястись, поднимаясь снизу, скапливаясь в горле горячим горьким комком.
– Обвинение серьезное, подтвержденное многими фактами, – продолжал Брунов. – А доказательств, оправдывающих вашего сына, нет.
Майор еще что-то говорил, но Антип Никанорович его не слышал. Он долго молчал, уставясь невидящими глазами в пустоту перед собой, и наконец взорвался:
– Сотрудничал, значит?! Мой сын?!
– Но-но, не шумите! – Брунов покосился на дверь, торопливо подошел к окну и плотно прикрыл его.
– Ты мне не нонокай! – вскинулся Антип Никанорович пуще прежнего. – Не запрягал! Сына мово, значит, до ворогов Советской власти зачислили! Да я за энту власть в гражданскую по всем фронтам прошел! Да за энту власть два сына, браты его родные, головы поклали! А теперь последнего забираете? Контра-а! – уже не помня себя, взвился он. – До Москвы дойду!..
– Молчать! – в тон Антипу Никаноровичу крикнул Брунов, грохнув кулаками по столу, но тут же понизил голос: – Старый вы человек, а такое несете! Да понимаете, что за одну десятую того, что вы сказали… – И, не договорив, указал на дверь: – Уходите. Немедленно уходите, пока я не передумал!
Антип Никанорович вскочил со стула, кинулся к выходу, но там оказалась стенка. Сплюнул в сердцах, метнулся в другую сторону и, проворчав уже в дверях: «Ишо сустренемся!» – вылетел в коридор.








