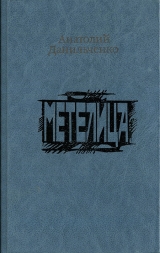
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
От Метелицы осталось шесть хат, правление колхоза да усадьба детдомовская. Чудом уцелела и хата Антипа Никаноровича, хотя весь двор был порушен немецкими танками. Развалена была и банька в углу сада. Бревна одной из стен изломаны гусеницами, вдавлены в землю, остальные разбросаны по саду, труба рассыпалась. При строительстве не хватило цемента, и Антип Никанорович делал кладку на глине. А от глины чего ждать? Надо было собирать по бревнышку, ставить стены, крыть заново крышу, выводить трубу. Работы немало, но и без бани на зиму глядя оставаться негоже.
Антип Никанорович потрогал холодные булыжники каменка, заглянул в топку, потоптался, вздохнул. Надо строить. И при немцах он не терпел грязи на своем теле, а теперь и богом велено блюсти себя в чистоте. До первого снега времени еще предостаточно, вдвоем с Тимофеем они справятся. Загвоздка в другом: неловко перед сельчанами заниматься какой-то банькой, когда людям жить негде, некуда притулиться от непогоды. Люди копают землянки, а он, как барин какой, баню строить собрался.
Вздохнул Антип Никанорович и еще раз вздохнул. Радоваться бы ему – дождался своих, выжил, снова стало свободным село. Только радость не в радость. А жить-то надо… И будет жить Антип Никанорович, еще пчел заведет, насадит молодых яблонь в саду, поставит новый плетень, поднимет хозяйство. Но это все – весной, а теперь вот баньку бы. Без бани и жизнь не в жизнь, особенно зимой. Сельчане не осудят.
«Строить!» – решил он. Ведь главное-то уцелело – печка с каменком. Принял решение, и на душе полегчало. С удовольствием похлопал шершавой ладонью по гладким булыжникам каменка и направился к хате.
Во дворе толпилось несколько красноармейцев с вещмешками и оружием в руках. На улице, за сломанными воротами, виднелась машина. Валет полаял немного и унялся. За войну он привык к чужим людям и стал незлым.
Пожилой старшина подошел к Антипу Никаноровичу поздоровался и попросил:
– Пусти, отец, переночевать. Стужа…
– Заходьте, заходьте, – засуетился Антип Никанорович необычно для себя. – Авось не помешаете.
– Ну, спасибо! А то уже три ночи под открытым небом. Сгорело все… – Он как-то виновато улыбнулся и кивнул остальным: – Давай!
В хате стало тесно. Восемь красноармейцев разместились кто где в трехстене, в горнице. Ксюша захлопотала у печки, готовя бульбу для неожиданных гостей, Прося принесла из погреба огурцов, рассолу, накрывала на стол.
Тимофеева хата сгорела, и он с Просей и детьми жил теперь у батьки.
Надвигался вечер, в хате потемнело, запалили керосинку. Артемка с Максимом крутились возле молоденького, лет восемнадцати, солдата и норовили заглянуть в его объемистый вещмешок. Рядом с вещмешком лежал большой складной нож с зеленой костяной ручкой, диковинный фонарик, и хлопцы надеялись увидеть еще что-нибудь необычное. Тут же стояла Анютка, тихонько смоктала свое угощение – трофейный, как сказал старшина, шоколад – и с любопытством глядела на руки молодого военного. Солдат достал две банки консервов.
– Ну, братва, отведаем солдатских харчей? – Он подмигнул хлопцам и пощелкал пальцем по банке.
Артемка радостно ощерился, потоптался на месте и сказал:
– А мой папка тоже воюет.
– Да ну? – удивился весело солдат. – Скажи ты!
– В партизанах, – уточнил Артемка. – Мамка говорила, что его забрали немцы на шляху… Неправду говорила – боялась полицаев.
– Вот оно как.
– А мы в лесу жили, как все равно партизаны, – продолжал Артемка, не спуская глаз с фонарика.
– Прямо-таки как партизаны? – Солдат положил вещмешок в угол и поднялся со скамейки.
– Ага, в шалаше. И Максимкин папка воюет.
– Хорошие у вас папки. Хоро-ошие…
– А Максимка тоже в шалаше жил! – заторопился Артемка, видя, что солдат собирается выйти из хаты.
– Жил, значит. Ну и что? – спросил с улыбкой солдат и накинул на плечи шинель.
Артемка помялся с минуту и решился:
– Дай пофонарить!
Антип Никанорович, наблюдая за внуками с лежанки, не выдержал:
– Вот слота! Чего прилип к человеку!
Солдат рассмеялся, дал Артемке фонарик и показал, как включать. Хлопцы, а за ними Анютка юркнули в темную спальню.
– Выцыганили, – вздохнула Ксюша. – Глядите, не попортили бы. – Она подцепила ухватом чугунок и выставила на припечек. – Бульба поспела, готовьтесь вечерять.
Солдаты оживились, заговорили, зашаркали сапогами по широким половицам. Старшина оказался хлопотливым, разговорчивым. Он уже называл Антипа Никаноровича по-простецки Никанорычем, Ксюшу и Просю молодайками, подошедшего Тимофея уважительно по батюшке, все время излишне суетился и воркотал баском, «окая» на каждом слове. Настоял, чтобы все семейство Антипа Никаноровича вечеряло с ними. Для этого в горнице составили два стола, запалили лампу-восьмилинейку, всю войну простоявшую без дела в сенцах. Старшина нравился Антипу Никаноровичу своей простотой, веселостью, мужицкими ухватками, своим округлым лицом, широкими загрубелыми руками, которые плуг, видать, умеют держать крепко. «Ишь ты его! Ишь ты!» – повторял про себя Антип Никанорович, поглядывая на старшину, на солдат, и радовался невесть чему. А может, просто радовался этим улыбкам солдатским? Не тот стал солдат, что в сорок первом. Совсем не тот.
Вспомнил приход Савелия позапрошлой осенью, голодного, обессиленного, бегущего от немецкой пули солдата. Тогда его откармливали, отпаивали, ставили на ноги.
Переменилось все. Теперь солдаты угощают Антипа Никаноровича, его детей и внуков. И как угощают! Давно в этой хате не видели столько еды: консервы, свиная тушенка, колбасы, шоколад.
От чугунка с бульбой поднимался парок и вызывал аппетит. Солдаты ели рассыпчатую белорусскую бульбу, переговаривались и похваливали хозяйку.
– Ва-а, хорошо! – повторял после каждой картофелины молодой чернявый кавказец, смешно вывертывая руку пальцами кверху. Он прицокивал, вздергивал густые брови и улыбался, вытягивая и без того тонкие усики.
– Белорусская картошка, Важия, лучшая картошка, – поддакивал старшина с видом знатока. – Она песок любит.
– Ва-а, старшина, правду говоришь.
На дворе поднялся ветер, затарабанил дождь по ставням, а в хате было тепло и уютно. Восьмилинейка, подвешенная к потолку, мягким светом заполняла горницу.
– Вот школу надо открывать, а негде, – говорил Тимофей. – Сгорела. Давеча толковал с председателем, обещает освободить детдом. Сейчас там люди живут, еще не успели землянок вырыть…
– Послушай, зачем так много нехороший люди, отец? Грудь матери хороший кормит, а вырастают нехороший. Не надо так! Кончим войну – дурной люди не будет. Будет – хороший. Дурной надо убивать! Война виновата!
– Разведутся новые – война, не война, – отозвался молчавший до сих пор рыжий солдат и сладко зевнул. – Оно бы пора и на боковую, а?
– Нет! Зачем так говоришь! – разгорячился кавказец. – Уф, нехорошо говоришь! Скажи, отец, скажи ему!
Антип Никанорович улыбнулся кавказцу. Что сказать? Добрый ты хлопец, чистый, думка в тебе добрая, да что поделаешь, когда не все такие. Этот рыжий, видать, штучка занозистая, а сказать ему нечего. Война, конечно, многому виной, да не всему. Сволочей и без войны вдоволь. А ведь правду сказал этот рыжий: «Разведутся новые». Сами люди и виноваты. А в чем? Никто не учит черным делам – сами постигают. А ежели так, значит, есть у кого учиться. То-то и оно.
Вместо ответа Антип Никанорович спросил:
– Ты из каких же народов будешь?
– Я хевсур, отец. Хевсур.
Антип Никанорович прищурился, подумал, повел плечами и вздохнул:
– Не слыхал…
– Из Грузии он, – пояснил рыжий. – Грузин.
– Да, грузин. Но я – хевсур!
– Хевсур, грузин – какая разница… – протянул рыжий равнодушно.
– Зачем так говоришь! – Кавказец опять вскочил. – Нехорошо говоришь. Мой мать хевсур, отец хевсур, отец отца хевсур! Мой имя Важия, таких в долине нету – в горах только! Зачем обижаешь?
– Тю ты! Кто тебя обижает? Из Грузии, так чего там разбираться – грузин.
Кавказец шумно засопел, зашевелил носом, и старшина решил вмешаться:
– Рыбин, сходи-ка машину догляди. Оставил небось открытой.
– Да чего с ней станет…
– Ну! – повысил голос старшина, и рыжий нехотя поплелся из горницы. – Уймись, Важия, он пошутил. Дразнит – плюнь.
– Уф, дурной человек!
– Шутит он, шутит, – повторил старшина, похлопывая Важию по плечу.
Горячность кавказца передалась Антипу Никаноровичу, он оживился, отодвинул от себя пустую миску и, вцепившись пальцами в край стола, заговорил:
– Этим не шуткуют! Негоже отрываться от корня своего – сгинет человек. Это как же ж?.. Человек ить не собака приблудная, должон знать родство свое. Я вот белорусом был, белорусом и останусь. Где хошь останусь – в Грузии там али же еще дальше. Ты вот, – повернулся он к старшине, – русским будешь?
– Помор я, северяк.
– Бачь, не просто русский, а – помор, северяк, знаешь корень свой. А без корня все чахнут. Пересади-ка старую яблоню – ни в жизнь не примется на другой земле. Энто ж одному чертополоху везде мило. Так на то он и чертополох – приживала!
Пришел рыжий, с ним еще пятеро солдат, мокрые, озябшие. Получили согласие Антипа Никаноровича на ночевку и потянулись к печке.
Начали готовиться ко сну. Сдвинули столы в угол, улеглись вповалку на полу. Антип Никанорович вкрутил фитиль восьмилинейки, задул огонь и подался на свою лежанку. Тимофей умостился на печке. Пришедшие пятеро притулились кто где в трехстене. Поворочались, повздыхали и притихли.
Не успел Антип Никанорович сомкнуть веки, в дверь постучали, скрипнули дверные петли. В углу, у порога, кто-то заворочался, проворчал хрипло:
– Черт!.. Занято!
– Трое нас, пустите, братцы, – послышался продрогший голос.
– Не знаю, не я тут хозяин…
Засветил фонарик, и вошедшие начали отыскивать себе уголок. После недолгой возни наступила тишина. Но вскоре в сенцах опять зашаркали, заскрипели дверные петли, в хату потянуло холодком, и послышались чьи-то тяжелые шаги.
– Проваливай! – послышался тот же хриплый голос из угла. – Да некуда ж!
– Ничего, где-нибудь приютимся, – раздался уверенный басок.
– Я вот те приючусь!
– Но-но, паря! Обогрелся, так помалкивай. Хозяин выискался.
– Не дадут спать, – ворчал хриплый голос. – Закрыть дверь надо, а то до утра шастать будут.
Через минуту щелкнул засов. Новые солдаты долго отыскивали себе место. Кто-то ругался спросонья, кто-то ворчал, сопел недовольно. Наконец и эти угомонились. Антип Никанорович не вмешивался – разберутся сами. В захмелевшем мозгу помалу ворочались приятные, неопределенные думки, по телу растекалась вялость. Его одолевал сон.
Раздался новый стук, и дверь дернули. Никто не отозвался. Стук повторился, настойчивый, требовательный. И опять все промолчали. Через минуту постучали в окно, и хриплый голос взорвался:
– Ну, паразит, я ему сейчас настукаю!
Сон отступил от Антипа Никаноровича, и он поднялся с лежанки, почуяв в этом стуке в окно что-то знакомое.
– Погодь, погодь, – остановил он солдата с хриплым голосом, готового выйти во двор, и придвинулся к окну.
В темной фигуре, сутулившейся под дождем, он узнал Савелия.
2
Солдаты еще затемно попили чаю, перекусили остатками со вчерашнего стола и укатили в направлении Гомеля.
К городу стягивались войска. Немцы укрепились на правом берегу Сожа, на высоком холме, и выбить их оттуда было нелегко. Антип Никанорович знал это и, провожая солдат с тоскливым чувством, почему-то боялся заглянуть им в глаза. Только прощаясь с кавказцем, глянул на него и охнул от неожиданности: что-то болезненное и щемящее толкнуло изнутри. Лицо кавказца было бледным и сосредоточенным, глаза отчужденные, как неживые, а на губах – улыбка.
«Господи! Неужто чует смерть свою?» – подумал Антип Никанорович и не выдержал – обнял так быстро полюбившегося ему хевсура.
Проводив солдат за ворота, вернулся в хату. Ксюша уже возилась у печки, Прося чистила бульбу, срезая кожуру тонкими вьющимися стружками. Проснулся Тимофей, слез с печки и, постукивая своей деревяшкой, подался прямехонько к ведру с водой промочить горло. Потом он ополоснул лицо, вытерся полотняным рушником и только тогда огляделся и спросил:
– Ушли?
– Подались, голуби, – отозвалась Прося и заговорщицки подмигнула Ксюше.
Тимофей взглянул на батьку, на Просю, потом долго вглядывался в Ксюшу, румяную от тепла печки, веселую, с загадочной улыбкой на губах, и наконец спросил:
– Что-то не узнать тебя, Ксюш. Ни дать ни взять – на выданье.
– А чего ж, и на выданье! – рассмеялась Ксюша и проворно заработала ухватом в печи.
Прося хохотнула вслед за Ксюшей, а Антип Никанорович крякнул и вытянул из-за печи продолговатый ящик с инструментом.
– Что это с вами сегодня? – Тимофей пожал плечами и еще раз оглядел всех по очереди.
– Да Савелий пришел! – не выдержала Прося.
– Когда?! – Тимофей вскочил с табуретки и заковылял в горницу.
– Поднимай, пора уже! – крикнула вдогонку Ксюша.
Вчера Антип Никанорович не стал будить Тимофея, да и с Савелием не поговорил толком. Узнав зятя, он открыл ему и, ступая между спящими солдатами, провел к своей лежанке. Зашептали было на радостях, но чей-то сонный голос взмолился: «Поимейте совесть! Дайте спать!» Посмеялись своему странному положению в собственной хате, и Савелий подался в спальню.
…За садом выглянуло неяркое осеннее солнце и осветило трехстен. Но и этот бледный свет казался сегодня праздничным. Откровенной радостью блестели глаза Ксюши, улыбались Тимофей и Прося, Артемка вертелся возле батьки, мешая ему бриться, только Максимка с завистью поглядывал на своего счастливого друга и сиротливо жался к теплой печке.
– Значит, на побывку отпустили. А потом куда? – спросил Тимофей, продолжая начатый еще в спальне разговор.
– В Городню, на курсы лейтенантов. Так что буду наведываться. – Савелий потрогал выбритую щеку тыльной стороной ладони и взялся за помазок. – Курсы шестимесячные, до самой весны… Эх, бритва добрая, батя!
– Чистый булат! – сказал Антип Никанорович с гордостью. – Да ты ж знаешь, ишо с первой мировой привез.
– Послезавтра надо быть на месте, – продолжал Савелий. – Еще и сам толком не знаю, куда, к кому явиться. Курсы только открываются. Ну, а у вас что нового?
– Что у нас, – вздохнул Тимофей. – Видел, все погорело? Детей негде учить. Яков – за председателя, еще не выбирали, но выберем, больше некого. Он мужик толковый, потянет. После обеда собираюсь в Зябровку насчет школы. На всю округу одна Зябровка и уцелела, там сейчас белорусское правительство. Они вслед за фронтом продвигаются, налаживают хозяйство. По нынешним временам надо торопиться, иначе взыграет голодуха. Что еще… Вот пропали мужики и бабы, которые в лес не ушли, остались сторожить свое барахло. Дядька твой Макар тоже пропал.
– Невесело, – вздохнул Савелий, вытер остатки мыла с подбородка и поднялся.
Антип Никанорович хотел полить Савелию, но Ксюша, ревниво замахав руками, опередила батьку, будто у нее хотели отнять что-то очень дорогое, принадлежавшее ей одной.
Антип Никанорович понимающе улыбнулся и сел на прежнее место.
Позавтракав, Савелий заторопился к своему партизанскому комиссару Якову Илину, а Антип Никанорович достал треугольный напильник и принялся точить пилу.
* * *
Савелий вернулся после полудня, переоделся и вышел в сад. Антип Никанорович успел уже собрать раскиданные по саду бревна и уложить с помощью Тимофея нижний венец.
– Тимофей в Зябровку ушел? – спросил Савелий.
– Подался, – отозвался Антип Никанорович и добавил, как бы извиняясь перед зятем за то, что отнимает у него кратковременный отпуск: – Только бы сруб поставить, а там я и сам управлюсь. Вон, – указал он на искореженные гусеницами танка серые от времени бревна, – пяти штук не хватает. Лесины имеются.
– Успеем, батя, поставим сруб. Завтра я целый день дома. – Савелий нетерпеливо потер ладони. – Ну, с чего тут начинать?
День выдался ядреным и солнечным. Голубело небо, прохладный воздух распирал легкие, взбадривал, наполнял беспричинной радостью и желанием двигаться, что-то делать. Земля была мягкой после вчерашнего дождя, податливо проседала под сапогами, будто ласкала ноги Антипа Никаноровича и приглашала: «Топчись, топчись, человек, не засиживайся, мне приятно носить тебя на груди своей». И он топтался вокруг баньки, сопел и добродушно ухмылялся, поглядывая на зятя.
Савелий работал жадно и торопливо. Приволок лесины из-под навеса, принялся тесать. Упарился, скинул фуфайку, поплевал на ладони, и топор опять весело заиграл в его руках, только щепа – по сторонам. Окреп Савелий в партизанах, набрался прежних сил, даже помолодел в сравнении с позапрошлой зимой. Что ни говори, а старому Антипу грех обижаться, мужик у его дочки добрый. Хоть и не рода Лапицких, однако крепок: шея гладкая, двумя четвертями не обхватишь, лопатки так и перекатываются шарами под рубахой, длинные ноги уперлись рогулиной над комлем бревна, только пружинят при каждом взмахе топора. Ладный мужик, по душе Антипу Никаноровичу.
– Жаден ты на работу! – заметил он одобрительно. – Соскучился, никак?
– Соскучился, – признался Савелий, распрямил спину и вытер вспотевший лоб.
– Гиблое дело…
– Что? – не понял Савелий.
– Когда робить не дают. Энто ж и в Библии сказано, што трудами своими жив человек. Для трудов и рождается.
– Ты что это, веровать стал? – У Савелия расширились глаза от удивления.
Антип Никанорович покачал головой и сказал:
– Не верую я, Савелий, ни в бога, ни в черта! Однако ж Библию читаю. Разумная книга, скажу тебе. – Он заметил улыбку на губах Савелия и чмыхнул недовольно носом. – Ну, чего, готово? Давай-ка укладывать!
Вдвоем они подхватили обтесанное бревно, уложили в стенку и сбили по углам скобами. Савелий продолжал улыбаться, чем рассердил Антипа Никаноровича и отбил желание разговаривать. Два венца уложили молча, и только тогда Антип Никанорович подобрел:
– Передохнем? Упарился я.
Уселись на колоду, вытянули ноги, чтобы «кровя отхлынула», как говорил обычно Антип Никанорович. Савелий глубоко вздохнул, задрал голову, оглядывая безоблачное небо, и протянул блаженно:
– Погодка-а…
– Впору свадьбы гулять, – подтвердил Антип Никанорович.
Помолчали, вслушиваясь в редкие звуки, долетающие издалека, но отчетливые, звонкие, как в лесу после грозы. Заскрипел колодезный журавль, сперва визгливо, по-бабьи, потом тише и протяжней, переходя в хрипоту, где-то дворов за пять к центру Метелицы постукивал топор, в другой стороне вжикала пила. Недалеко цвикнула синица и запрыгала как заводная по голым веткам яблони. Зима, значит, на подходе, раз синица в саду объявилась.
В стороне Гомеля тяжело и раскатисто ухнуло раз, второй, и весь успокоенный мир наполнился нарастающим гулом канонады. Антип Никанорович переглянулся с Савелием и вздохнул!
– Зачалось…
И сразу в глазах у Антипа Никаноровича словно прояснилось: на первый план выступили поваленные плетни и заборы, пепелища сгоревших хат, обугленные деревья, незасыпанная траншея, прорезающая насквозь метелицкие сады, еще не стертые дождями зубчатые следы гусениц танка. Сельчане копошились в своих садах, готовя временное жилье, пестрели бабьи платки, поднимались дымки костров – еду готовили прямо на улице.
Прибежали Артемка и Максимка, повертелись у бани и полезли в траншею. Антип Никанорович шугнул их оттуда, хлопцы потоптались без дела и вздумали забраться на яблоню.
– Неча голье ломать! – прикрикнул на них Антип Никанорович и решил дать им дело, зная, что его окрики этих обормотов не успокоят. – Эй, помощнички, давай-ка щепу – под навес!
Хлопцы обрадовались такому заданию и принялись собирать щепу.
– Захар не появлялся? – спросил Савелий, поглядывая на Максимку.
– Не, сгинул где-то. Вот малец остался сиротой. Чахлый он, ништо не помогает.
– Сгинул, говоришь? Не думаю, – сказал Савелий хмуро. – После победы все объявятся, вся сволота! Вот только… – Он умолк, задумался на минуту. – Слушай, батя, об этом знает Яков и я. На второй версте по лесному шляху, где начинается орешник, есть небольшая поляна. Там, под березой, похоронена Розалия Семеновна, учительница. Где лежит Григорий, ты знаешь. Так вот, последняя воля Маковского: похоронить их рядом.
– Ты на што это мне говоришь? – насторожился Антип Никанорович.
– Война… Всяк может обернуться.
– Глупство! – выдохнул сердито Антип Никанорович. – И в голове держать не моги! Гибнет тот, хто думает о смерти, уразумел? – И добавил уже спокойнее: – Сам сделаешь. Вот возвернешься и исполнишь волю покойного.
– Значит, ты понял? – продолжал Савелий.
Антип Никанорович засопел, задвигался, начал вставать.
– Э-э, давай-ка лучше робить! А энто ты выкинь из головы. Попомни мое слово: не думай о смерти – и все будет ладно.
– Да я так, на всякий случай, – оправдался Савелий и улыбнулся. – Конечно же сам схороню. Вместе схороним, всей Метелицей.








